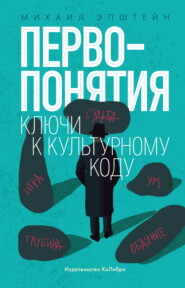скачать книгу бесплатно
Вспомним, что слово «культура» вплоть до ХХ века употреблялось только в единственном числе, в значении нормы и образца; понимание множественности культур возникало постепенно. Не произойдет ли сходная метаморфоза с понятием «будущего», которое из нормативно-обязательного единственного числа – то, что непременно «будет», – перейдет во множественное число: многообразие того, что «может быть»? В русском языке это понятие уже имеет потенциально исчисляемую форму «будущность». Дискредитированное утопическими идеологиями и тоталитарными режимами, понятие «будущего» может быть оправдано для будущего как сосуществование и взаимодействие разных будущностей.
Футурология, популярная дисциплина 1960–1970-х годов, пыталась предсказать будущее, выстроить его в линейной перспективе растущих тенденций, подлежащих экстраполяции из настоящего. Футуроскопия, напротив, обозревает разные варианты и горизонты будущего без попытки подчинить их единой логике развития. Это открытый исторический горизонт: ландшафтное видение не одного будущего, но множества веерообразно расходящихся и не заслоняющих друг друга будущностей.
Будущее и предбудущее
Будущее в широком смысле – то, что следует за настоящим, то есть после момента высказывания о нем. Если мы намечаем что-то на завтра – это будущее, и если мы воображаем то, что будет со вселенной через миллиард лет, – тоже будущее. Но было бы целесообразно выделить особую временную зону между настоящим и будущим – предстоящее, предбудущее. Это время «пред» – предчувствия, предварения, предвосхищения. Волевые акты направлены, как правило, не в будущее, а в предбудущее. Это зона самого активного времени: желаний, побуждений, стремлений, намерений – и возможности их воплощения. Это «праздник ожидания праздника» (Ф. Искандер), и первый праздник по остроте превосходит второй.
Если будущее – «то, что будет», то предбудущее – «то, чему быть» (или «не быть»). Будущее – это отдаленная перспектива, а предбудущее – порог, перед которым мы стоим. Предбудущее – то завтра, которое совершается с нами уже сегодня, причем порой гораздо более событийно, чем в том времени, когда оно уже станет настоящим. Это как бы четвертое время: не прошлое, не будущее, не настоящее, а настающее. Это область предельного напряжения всех сил и способностей.
Предбудущее имеет свою грамматику, отличную и от настоящего, и от будущего времени. Вот пять основных грамматических форм предбудущего:
1. Императив. Будь здесь завтра в восемь!
2. Инфинитив. Быть здесь всем завтра в восемь!
3. Будущее время. Буду здесь завтра в восемь.
4. Настоящее время. Еду завтра на вокзал.
5. Сослагательное наклонение. Поехать бы завтра на вокзал!
По своей протяженности предбудущее подвижно, оно может сжиматься до секунд или растягиваться на годы. Его временной объем определяется горизонтом наших ожиданий и устремлений. Для обывательского сознания предбудущее сжимается до минут (чего бы поесть/выпить?); для деятеля, пророка, созидателя растягивается на века (каким быть миру, человеку?). Для школьника, которому на следующий день предстоит экзамен, предбудущее – это завтра; а для писателя, работающего над романом, оно растягивается на несколько лет. Предбудущее – фокус волевых усилий: что делать? каким быть? Чем сильнее и целенаправленнее наша воля, тем более дальнюю перспективу она охватывает. Для таких волевых натур, как Л. Толстой или А. Солженицын, все будущее становится предбудущим, не остается безмятежной глади грядущих лет и веков, все втягивается в водоворот вплотную подступающих решений и поступков. Мера жизнеустремленности определяется тем, какая доля будущего вовлечена в предбудущее. Исчезает равнинное «будет». Останется только крутое, как обрыв, «быть или не быть» – категория предельно наполненного существования.
? Возможное, Новое, Событие, Судьба
Вера
Вера – признание истинным или существующим того, для чего нет наглядных свидетельств или логических доказательств. Вера – это духовная и волевая устремленность к такому бытию, которое выходит за границы знания и опыта.
Вера и невероятность
Понятие «веры» без дальнейшего определения предполагает веру в Бога, в действия высшего разума и/или сверхъестественного существа. Парадокс веры в том, что она обращена именно к чему-то маловероятному или даже невероятному. Там, где можно верить на сто процентов, вера не нужна – вполне хватает знания. Поэтому вера почти всегда включает в себя сомнение. Вера – это борьба с сомнением, но без этой борьбы нет и самой веры. Тертуллиан писал о предмете веры: «…это вполне достоверно, ибо ни с чем не сообразно… это непреложно, ибо невозможно»[56 - На латинском это звучит так: «prorsus credibile est, quia ineptum est… certum est, quia impossibile». Порою именно явно неправдоподобное, поскольку оно подтверждается разными людьми и передается из поколения в поколения, оказывается правдой, поскольку, если бы это было неправдой, ему постарались бы придать наибольшее правдоподобие.].
Иной мир, спасение, бессмертие, вечность, Бог – все это невероятно с позиции опыта, знания, разума. Именно из этой невероятности начинает прорастать вера – «может быть», рожденное из «быть не может». Она сразу увядает, как только ее пересаживают на почву «есть».
У Сёрена Кьеркегора есть глубокое размышление о том, что верить в Иисуса – значит быть его современником, когда еще не известно, что он – Христос. Когда человек убежден, что Бог, бесконечно удаленный от людей и не открывший свой лик даже Моисею, не может иметь сына и даже помыслить об этом – богохульство. Когда из этой полной невозможности вдруг раздается внутренний голос: «А может быть, это и есть Сын Божий?» Само выражение «Иисус Христос» содержит в себе, как сжатый символ веры, скрытую модальную связку: «Иисус, может быть, Христос». Это «может быть» и есть дар веры, ее растерянность, испуг, недоумение, ее первоначальное «не может быть». Здесь уместно привести слова теолога Карла Барта: «Тому, кто может сказать „Иисус Христос“, незачем говорить „Это может быть“; он может сказать „Это есть“. Но кто из нас способен из себя сказать „Иисус Христос“?»[57 - Barth K. The Word of God and the Word of Man // Great Books of the Western World / M. J. Adler, ed. in Chief. Vol. 55: Philosophy and Religion: Selections from the Twentieth Century. Chicago et al.: Encyclopaedia Britannica, Inc., The University of Chicago, 1990. P. 516.] Итак, чтобы поверить в Христа, нужно ясно представить себе его невозможность; чтобы поверить в спасение, надо представить себе невозможность спасения. «Кто же может спастись?» – вопрошают апостолы, и Иисус отвечает: «…невозможное человекам возможно Богу» (Лк. 18: 27).
Иисус объясняет веру через образ возможного-невозможного в притче о горе и горчичном зерне. «…Истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: „перейди отсюда туда“, и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас…» (Мф. 17: 20). Здесь тоже вера начинает с невозможного, которое делается возможным благодаря самой вере. Но отсюда не следует, что вера становится материальной силой, магически передвигающей горы, – это тот случай, когда буквальное толкование искажает смысл притчи. Представим себе, что апостолы по слову Христа поднатужились в вере – и гора перешла бы с одного места на другое: мы были бы поражены бессмыслицей и неевангельским духом такого события. Вера действительно может двигать горы, но вера, устремленная на передвижение горы, перестала бы быть верой и обратилась бы в суеверие, поскольку вместо Бога обрела бы материальный предмет – по сути, идола. В том-то и суть, что настоящая вера, которая может двигать горы, не движет горами, а движется дальше гор – в «горнюю» область. Вера не свершает того, что может, именно потому, что может больше того, что можно свершить, – больше передвижения горы, больше победы над сильными мира сего. Потому распинаемый и не поражает смертью избивающих и распинающих его, что сила веры не позволяет ему сделать этого, а ведет его дальше, к тому, что возможно сделать лишь Отцу, – к воскресению. Иными словами, та самая сила веры, которая может делать, она же и не делает, чтобы восходить по ступеням возможного к воле самого Бога, достигать наибольшего согласия с ней.
Вера и неверие
Обычно говорят о вере и неверии как о двух типах мировоззрения, исключающих друг друга. Но в реальности можно говорить скорее о колебании между верой и неверием, о постоянной борьбе в душе человека.
«Непостижимо, что Бог есть, непостижимо, что его нет…» – говорит Паскаль. Это постоянное колебание маятника передано комически, но не менее фундаментально в эпизодическом образе майора в «Бесах» Достоевского: «…верите ли, вскочишь ночью с постели в одних носках и давай кресты крестить пред образом, чтобы Бог веру послал, потому что я и тогда не мог быть спокойным: есть Бог или нет? До того оно мне солоно доставалось! Утром, конечно, развлечешься, и опять вера как будто пропадет, да и вообще я заметил, что днем всегда вера несколько пропадает». У каждой души есть своя ночь, когда явь физического мира отступает и приближается иная, невидимая реальность; и свой день, когда, напротив, по словам Тютчева,
На мир таинственный духо?в,
Над этой бездной безымянной,
Покров наброшен златотканый
Высокой волею богов.
Представим себе эти колебания от неверия к вере и обратно в размышлениях современного человека. Допустим, исходная точка – неверие. Откуда мы знаем, что Бог, ангелы, демоны, загробная жизнь, рай, ад, воскресение – все в самом деле так, как представляется верующим? Где и когда наблюдалось хоть что-то похожее? Для разума очевидно, что это только фантазия и предмет веры. – Именно поэтому я не верую.
Но откуда берется вера? Если она ничему не соответствует, почему так много людей ее разделяет? Человечество на протяжении всей своей истории, за исключением немногочисленных вольнодумцев и безбожников, верило в незримую жизнь, в сверхъестественных существ. И хотя разные религиозные системы описывали ее по-разному, этим не опровергается ее подлинность. Мы не видим атомов и элементарных частиц, но соглашаемся, что они существуют, поскольку регистрируются приборами. Явления духовной жизни приборами не регистрируются, но множество людей описывает их одинаково или с разницей только в деталях. Значит, у восприятия духовных явлений есть своя точность и объективность. – Да, приходится верить.
Но ведь бывают случаи массовых помешательств и галлюцинаций, которые лишены фактических оснований. Миллионам и даже миллиардам людей Ленин, Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун и их бредовые идеи представлялись воплощением мудрости, а они были всего-навсего кровожадными и преступными властолюбцами. Почему не допустить, что и религиозные якобы откровения – это всего лишь проекции человеческих желаний, упований на бессмертие, чудо, всемогущество. – Нет, нельзя поверить.
Но откуда берется реальность церковных зданий и обрядов, откровений и песнопений? Разве вся цивилизация, все созданное человеком, да и он сам как созидатель, не имеют какого-то запредельного источника вне природы? Разве в природе есть нечто похожее на Моцарта или на Кёльнский собор? Откуда это приходит, как не из невидимой реальности? – Нельзя не верить.
И вот такая чехарда «верю – не верю» происходит в душе людей как почти верующих, так и почти неверующих. Но каждая последующая вера глубже предыдущей, вбирает в себя очередное неверие, как и последующее неверие вбирает в себя предыдущую веру. И вдруг выясняется, что это живой рост, как у дерева одно годичное кольцо замыкает в себе другое. Здесь подошло бы понятие «переверие», которое отмечается в словаре В. Даля: «Переверовать, изменять не раз веру, убеждения. Он во все переверовал…» Маятник «верую – не верую» не перестает колебаться…
Вера и религия
Когда вера обрастает институциями, догмами и традициями, она становится религией. Отсюда критическое отношение к «религии», в отличие от веры, даже со стороны некоторых теологов, таких как Карл Барт:
…Религия забывает, что она имеет право на существование только тогда, когда она постоянно отвергает самое себя. Вместо этого она радуется своему существованию и считает себя незаменимой[58 - Barth K. The Word of God and the Word of Man // Op. cit. Vol. 55. P. 469.].
Такая самодовольная религия, ищущая своего торжества в мире, противна существу веры, которая «не от мира сего». В конечном счете вера только тогда остается верой, когда теряет твердые рациональные и институциональные гарантии и вступает в область безграничного риска и свободного жизнетворчества.
У Мигеля де Унамуно есть повесть об одном священнике, бесконечно преданном своему служению и снискавшем любовь прихожан. По ходу действия выясняется, что он не верит в Бога и исполняет обряды только из любви к ближним, страдая от своей раздвоенности. Он искренне считает себя безбожником в лживом обличии набожности. Но, как явствует из самого названия повести «Святой Мануэль Добрый, мученик», для писателя правда состоит в том, что за безбожием дона Мануэля скрывается подлинная святость и готовность к мученичеству во имя ближних, а значит, и во имя Бога. Так происходит двойное развенчание иллюзий сознания: дон Мануэль разоблачает для себя иллюзию веры, с ужасом постигая свое неверие, и одновременно писатель разоблачает эту иллюзию неверия, открывая за ней неосознанную реальность веры.
Это двойное разоблачение – не просто литературный прием, но историческое движение европейской религиозности, которая все более утрачивает свое господство в сознании, чтобы заново обретать его в глубине бессознательного. Тезисом этого процесса была религиозность Средневековья, пронизывавшая все сознание европейского общества. В эпоху Возрождения под этой оболочкой христианской цивилизации разрастается пласт безрелигиозности, которая к XVIII веку выходит наружу, определяет идеологию французских просветителей и окончательно закрепляется в XIX веке как сознательный атеизм Фейербаха – Маркса – Ницше. Примерно столетие, от «Сущности христианства» Фейербаха (1841) до «Будущности одной иллюзии» Фрейда (1927), длилась «переоценка всех ценностей», так что Божественная Троица переосмыслялась как отображение земной семьи (Фейербах), а Бог – как взрослая проекция детской зависимости от всемогущего отца (Фрейд). Так обозначился антитезис: религиозное сознание уступает место иррелигиозному или антирелигиозному.
Но на этом движение европейской религиозности не закончилось, и постепенно она все больше воспринимается как тайный подтекст секуляризма и атеизма. Если в XIX веке было принято отыскивать социально-исторические и биопсихологические истоки происхождения религии, то к концу XX века диспозиция меняется: религиозное оказывается тем бессознательным, откуда проистекают многие иррелигиозные или антирелигиозные движения, включая либерализм, национализм, фашизм, развитие науки и техники, освоение космоса и т. д. Антихристианство Ницше переосмысляется как следование крестным путем Христа, фарсовое самораспятие во имя сверхчеловека в противовес церковному фарисейству. В коммунистическом учении Маркса и в революционном движении пролетариата, которые представлялись чистейшим образцом воинствующего атеизма, явственно проступают мессианские и эсхатологические мотивы. Как заметил Георгий Флоровский, «в религиозных движениях стараются открыть их социальную основу. Но не были ли, напротив, социалистические движения направляемы религиозным инстинктом, только слепым?!»[59 - Флоровский Г. В. Пути русского богословия (1937). Париж: IMCA PRESS, 1988. С. 295.] Даже зарождение капитализма теперь выводится из развития протестантизма (начиная с работы Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма»). Согласно протестантскому мыслителю Д. Бонхофферу, секуляризация оказывается шифром новой религиозной зрелости человека, которому доверены самостоятельные акты творчества по образу и подобию Бога. «…Мы не должны приукрашивать безбожность мира, но представить ее в новом свете. Теперь, когда мир вошел в возраст, он более безбожен и, может быть, по этой самой причине ближе к Богу, чем когда-либо раньше»[60 - Bonhoeffer D. Prisoner for God. New York: Macmillan, 1959. P. 167.]. Имеется в виду, что растущая независимость человека от Бога, исчерпание его «детской» веры во всемогущего Попечителя, укрепляет в самом человеке образ и подобие Бога как источник зрелого самостояния в мире. Только когда дитя перестает «слушаться» взрослых, оно само обретает взрослость, – так и человечество XX века, перестав нуждаться в «потустороннем», вошло в зрелый возраст «христианства без религии», или веры без Бога.
Сейчас сложно предсказать, чем окажется эта эпоха веры, остающейся без религии, без институций и догматов и именно так себя осознающей. Очевидно одно: то неверие, в котором, подобно унамуновскому дону Мануэлю, в XX веке призналась себе западная цивилизация, для XXI века вдруг оказалось формой скрытой веры, для которой еще предстоит создать новую теологию.
Вера и наука
Наука и техника обычно рассматриваются как основа атеистического мировоззрения. В самом деле, если человек способен своим разумом и энергией перестраивать вселенную по своему плану, где же находится в это время Творец, почему он бездействует, в чем проявляется его воля? Активность человека, все более возрастающая в ходе истории, оставляет как будто все меньше места для действий Творца.
Но почему, собственно, успехи науки и техники должны опровергать бытие Бога, а не, напротив, доказывать возможность такого его всемогущества, которое раньше представлялось непостижимым для людей, владевших лишь примитивными орудиями труда. Как объяснить, например, пахарю или лесорубу, что Бог может читать все помыслы людей? Или что человек, умирая, может тем не менее пережить свой прах и сохранить целость своей личности, обрести бессмертие. В древности техника была примитивно-материальной: топор, плуг, молот, серп. По-настоящему интеллектуальная техника, умные машины стали возникать совсем недавно, во второй половине ХХ века. Mногим стало легче поверить в Бога, в сверхъестественный разум, после того, как они познакомились с возможностями искусственного разума, пусть еще и весьма ограниченными. Если человек может творить нечто столь похожее на него самого, то увеличивается вероятность того, что он сам сотворен.
Понятно, например, как сведения обо всех живущих могут накапливаться в маленьком электронном устройстве. По опыту общения с новейшей техникой гораздо легче представить, как Творческий Разум может общаться со мной, читать каждую мою мысль и отзываться на нее. Крестьянину с сохой, который видел только воздействие одного материального предмета на другой, неизмеримо труднее было бы представить, что все волосы на голове человека сочтены и все тайное, творящееся в его душе, может стать явным. Откуда берется такой всевидящий и всезнающий дух? Конечно, крестьянин мог просто принять это на веру без всяких объяснений и доказательств, но для наших современников такое представление о всеобъемлющем разуме уже не есть только вопрос веры, но предмет вполне достоверного знания. Мы знаем, сколь компактны средства хранения информации, как в одном зернышке вещества может помещаться не только будущее дерево, но и, если это компьютерный чип или другой электронный носитель, – миллионы книг, планы городов, информация о государствах, планетах, элементарных частицах и т. д.
Что же удивительного, что Всевышнее Существо, Верховный Разум может хранить в себе планы не только нашей, но мириад других вселенных и проникать в тайное тайных каждой личности, всех разумных существ, в их прошлое и будущее. Раньше человеку с молотком и мотыгой в это оставалось только верить, как в чудо и сказку. Техника приближает к нам сверхъестественное, делает его естественным, рационально объяснимым. Мы теперь уже можем знать то, во что древние только верили, по слову апостола Павла: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (1Кор. 13: 12).
Если наука последнего столетия приучила нас познавать возможность и даже необходимость таких чудес, за которыми трудно было угнаться вере древнего человека, то нужно ли рассматривать достижения этой науки как аргумент против веры? Разве вера в бессмертие души – или, выражаясь современным языком, в нерушимость информационной матрицы личности при разрушении одного из ее материальных носителей, то есть тела, – не становится закономерным выводом разума из данных современной физики? А разве современная генетика, открывшая в основе органического бытия законы наследственности, управляемые языком генов, не подтверждает по-своему тот факт, что «в начале было Слово», что слово предшествует телесному бытию и определяет цвет глаз и волос, наследственные болезни и темперамент? То, что когда-то познавалось только верой, теперь познается наукой во всеоружии ее методов, открывая тем самым путь к новому синтезу разума и веры.
Новейшее знание не противоречит вере, а вбирает ее, проясняет, протирает, как тусклое стекло. Соответственно, научное развитие человечества идет не от веры к безверию, а от веры к знанию. Пора уже говорить о религиозности знания, а не только о религиозности веры. Религия знания – это не религия, которая поклоняется знанию, а религия, которая все более достоверно узнает от науки о том, что религия прошлого могла только принимать на веру. Научный тезис о Большом взрыве, который привел к сотворению вселенной из ничего, – это предмет не только физического, но и религиозного знания. Антропный принцип, подтверждающий, что вселенная была создана для обитания в ней человека, – это религиозное знание. Отделение информации от известных материальных носителей и допущение бесконечного многообразия этих носителей, передающих информацию о человеке, – это тезис религиозного знания. И так можно долго перечислять все те пути, которыми вера вступает в область современной науки и становится знанием. В XXI веке вера укрепляется не от нехватки знаний, а благодаря им; обращается не к Богу пробелов, а к Богу открытий.
? Бессмертие, Возможное, Душа, Удивление, Чудо
Вечность
Все происходит в первый раз, но так, чтобы это было вечно.
Хорхе Луис Борхес. Счастье
Под вечностью обычно понимается бесконечная длительность, не имеющая начала и конца, неподвластная ходу времени. Предполагается, что вечность симметрична и в равной степени простирается вперед и назад, в прошлое и в будущее.
Симметричная вечность
На этой общей предпосылке основаны два противоположных верования:
1. Вечной жизни вообще нет, душа рождается и умирает вместе с телом. Если бы душа была вечной, то у нее был бы опыт предыдущих существований и какая-то память о них. Но поскольку мы, как правило, ничего не помним о своей предыдущей жизни, то нет никаких оснований верить и в будущую жизнь.
2. Вечная жизнь есть, и она безначальна и бесконечна. Душа существовала и до ее пребывания в теле, она проходила через ряд перевоплощений – и продолжит их после смерти. Некоторые люди помнят свои прошлые воплощения, но даже отсутствие такой памяти не исключает, что душа была и будет вечно.
Из представлений о симметричной вечности, таким образом, складываются два мировоззрения, одно из которых граничит с материализмом, неверием в иную жизнь, а другое утверждает закон реинкарнации, переселения душ. Если есть вечная жизнь после, то она должна быть и до. Если ее нет до, то ее не может быть и после.
Так рассуждает Николенька Иртеньев в «Отрочестве» Л. Толстого (гл. 19):
…Стоя перед черной доской и рисуя на ней мелом разные фигуры, я вдруг был поражен мыслью: почему симметрия приятна для глаз? что такое симметрия? Это врожденное чувство, отвечал я сам себе. На чем же оно основано? Разве во всем в жизни симметрия? Напротив, вот жизнь – и я нарисовал на доске овальную фигуру. После жизни душа переходит в вечность; вот вечность – и я провел с одной стороны овальной фигуры черту до самого края доски. Отчего же с другой стороны нету такой же черты? Да и в самом деле, какая же может быть вечность с одной стороны, мы, верно, существовали прежде этой жизни, хотя и потеряли о том воспоминание[61 - Толстой Л. Отрочество / Толстой Л. Собр. соч.: в 20 т. Т. 1. М.: Гослитиздат, 1960. С. 185.].
Хотя Николенька, отвлекшись от этой «симметрической» мысли, уже через минуту находит ее «ужаснейшей гилью», она не лишена философской глубины. В пользу такой симметрии ясно высказывается А. Шопенгауэр:
Ибо разумный человек может мыслить себя непреходящим лишь постольку, поскольку он мыслит себя не имеющим начала, то есть вечным, вернее, безвременным. Тот же, кто считает себя происшедшим из ничто, должен думать, что он снова обратится в ничто, ибо думать, что прошла бесконечность, в течение которой нас не было, а затем начнется другая, в течение которой мы не перестанем быть, – это чудовищная мысль[62 - Шопенгауэр А. Смерть и ее отношение к нерушимости нашей сущности в себе // Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Дополнения. Минск: Харвест, 2005. С. 741.].
Асимметрия вечности. Есть начало, нет конца
Но именно эта «чудовищная мысль» и воодушевляет волю к бессмертию в религиях авраамова корня[63 - Иудаизм, христианство и мусульманство в целом отрицательно относятся к доктрине переселения душ, хотя некоторые мистические движения и секты в разной степени разделяют это верование: последователи каббалы и хасидизма, катары и розенкрейцеры, друзы и алавиты.]. Христианство учит о вечной жизни, всегда чаемой и предстоящей, но не допускает никаких предыдущих воплощений души. Вечность – впереди, но ее нет сзади. В Послании апостола Павла говорится прямо: «…человекам положено однажды умереть, а потом суд…» (Евр. 9: 27). На Втором Константинопольском (Пятом Вселенском) соборе была осуждена идея предсуществования душ, как и смежные «переселенческие» идеи множественных перевоплощений, в том числе из ангельских в человеческие тела и наоборот. Как можно помыслить, что нечто, имеющее начало, не имеет конца? Древним грекам это представлялось невозможным. То, что имеет начало, необходимо имеет и конец[64 - О разнице античного и библейского воззрения на смерть писал Лев Шестов («Киргегард и Достоевский», 1936): «Один из первых греческих философов, Анаксимандр, в сохранившемся после него отрывке говорит: „Откуда пришло к отдельным существам их рождение, оттуда по необходимости приходит к ним и гибель. В установленное время они несут наказание и получают возмездие одно от другого за свое нечестие“. Эта мысль Анаксимандра проходит через всю древнюю философию: появление единичных вещей, главным образом, конечно, живых существ и по преимуществу людей, рассматривается как нечестивое дерзновение, справедливым возмездием за которое является смерть и уничтожение их. Идея о рождении и уничтожении есть исходный пункт античной философии (она же, повторяю, неотвязно стояла пред основателями религий и философий Дальнего Востока). Естественная мысль человека, во все времена и у всех народов, безвольно, точно заколдованная, останавливалась пред роковой необходимостью, занесшей в мир страшный закон о смерти, неразрывно связанной с рождением человека, и об уничтожении, ждущем все, что появилось и появляется». URL: https://books.google.com/books?id=TMtPDwAAQBAJ&pg=PP8&lpg=PP8&dq (дата обращения: 11.01.2022).]. Согласно Платону, «если… то, что движет само себя, есть не что иное, как душа, из этого необходимо следует, что душа непорождаема и бессмертна»[65 - Платон. Федр, 246 а // Платон. Соч.: в 3 т. Т. 2. М.: Мысль, 1970. С. 181.].
На это раннехристианский мыслитель Тертуллиан отвечает в своем трактате «О душе»: «Нам, признавшим душу происходящей из дыхания Бога, следует приписать ей начало. Платон это исключает, утверждая, что душа не рождена и не сотворена. Мы же на основании утверждения о ее начале учим, что она и рождена, и сотворена»[66 - Тертуллиан. О душе / пер. А. Ю. Братухина. СПб.: Изд-во О. Абышко, 2004. С. 47.]. При этом, согласно Тертуллиану, она и бессмертна.
Тогда возникает вопрос – что же это за такая половинчатая вечность: только впереди, но не сзади? Ответ на этот вопрос – в тайне творения мира. Бог сотворил мир из ничего. И наша Вселенная, как показывает наука, тоже возникла в определенный момент времени, и само время возникло вместе с ней. По библейским представлениям, мир, сотворенный Богом, имеет начало, но не имеет конца.
О начале мира сказано в самом начале Библии (Быт. 1: 1). В начале сотворил Бог небо и землю.
О бесконечности мира сказано в самом конце Библии, в Откровении Иоанна Богослова:
И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет… (Откр. 10: 5, 6) И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков (Откр. 11: 15).
Отсюда можно понять, что мир бесконечен, но не безначален во времени. Само выражение «времени уже не будет» глубоко парадоксально, потому что оно помещает вечность в будущее время, то есть исчезновение, исчерпание времени совершается внутри самого времени. В иудеохристианском мировоззрении вечность все полнее раскрывается во времени. Вечное асимметрично, оно прибывает с каждым актом творения.
Одно из главных направлений западной мысли ХХ века – философия и теология процесса, в истоке которых стояли Альфред Норт Уайтхед и Чарльз Хартсхорн. Главный элемент мироздания, с этой точки зрения, не материя и не идея, а событие. Теология процесса противоположна как идеалистической теологии, так и материалистическому атеизму, которые сходятся в том, что Бог есть некая идеальная, самотождественная субстанция. Идеализм признает ее существующей в основании всех вещей; материализм отрицает ее существование. Но именно против субстанциальности восстает философия процесса, которая настаивает, что становление несводимо к бытию. Вопреки традиционному представлению о вечном, неизменном и всесовершенном Боге, теология процесса говорит о становлении самого Бога, подобно тому как художник меняется с каждым своим произведением. Воплощая свой замысел, «опустошая» себя в очередном творении, Бог наполняется новой энергией, которая позволяет ему не повторять себя, но творить нечто небывалое.
И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое (Откр. 21: 5).
Творящий новое сам не может не обновляться. Собственно, первый теист, египетский фараон Эхнатон (XIV в. до н. э.), уже провозгласил, что Бог сам себя создает[67 - Hartshorne Ch. The Development of Process Philosophy // Philosophers of Process / ed. D. Browning and W. Myers. New York: Fordham UP, 1998. P. 395.]. В теологии процесса креационизм получает более углубленное толкование: не только мир сотворен Богом, но и Бог творит себя непрестанно, и мы все участвуем в его самотворении. Бога нет вне событий его становления.
Соответственно меняется представление о вечности и ее соотношении со временем. Собственно, творение и означает, что все вечное имеет начало, входит в мир, где его раньше не было, и навсегда остается в нем. Творение – это постоянное расширение и пополнение бытия, отсюда и заповедь «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». Это полнота не только в пространстве, но и во времени, высшая полнота которого и образует вечность. Не все, что рождается, подвластно смерти. Рождений больше, чем смертей. Родящегося больше, чем умирающего. Душ, входящих в бытие, становится все больше и больше. Бытие, каким оно создано Богом, несет в себе преизбыток, изобилие небывалого. Концепция переселения душ предполагает не акт их сотворения, а превращение, переплавку, круговорот. Напротив, концепция творения из ничего предполагает качественное прибавление нового, сотворение новых душ и личностей, которые уже никогда не умрут (если сами не изберут смерть).
Быт. 2: 7: И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою.
Быт. 2: 17: …От дерева познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь.
Согласно Библии, у человека, созданного из праха земного, есть начало, причем даже более позднее, чем у других тварей (последний, шестой день творения). Но он не обречен смерти и может выбрать вечную жизнь. Созданное однажды создается навеки. Человек (и как род, и как индивид) приходит во времени и уходит в вечность. Таков изначальный замысел Бога: рожденному – не умирать. И через отступление и возвращение, через первочеловека Адама и Богочеловека Христа, этот замысел, пусть прерванный и отсроченный, все-таки исполняется. Таков поступательный образ вечности в иудаизме и христианстве. Не симметричный, не статичный, а возрастающий, победительный. Безначален один только Бог, но сотворенное, имея начало, может не иметь конца. «Се, творю все новое», и это новое «не прейдет». Так же сказано в Символе веры и о втором пришествии Иисуса Христа: «И паки грядущего со славою судити живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца…» Начало Царствия отнесено к будущему, в котором у него уже не будет конца.
Вечное и временное
Владимир Набоков начинает книгу своих воспоминаний «Другие берега» с различения «вечностей» до и после времени жизни – не исключено, что это полемический отклик на размышления Николеньки Иртеньева в толстовском «Детстве»:
Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь – только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой, но в бездну преджизненную нам свойственно вглядываться с меньшим смятением, чем в ту, к которой летим со скоростью четырех тысяч пятисот ударов сердца в час.
Хотя рассудок, с его склонностью к симметрии, подсказывает нам, что две равно непроницаемые вечности простираются по обе стороны жизни, но что-то вопреки здравому смыслу побуждает нас относиться к вечности «после» иначе, чем к вечности «до»; больше тревожиться об исходе, а не об истоке, «куда», а не «откуда». Это и есть чувство творческой асимметрии, которая прибавляет больше, чем отнимает. Сама асимметрия времени, стрела которого направлена из прошлого в будущее, указывает, что вечность, не сводясь ко времени, вместе с тем может прирастать временем, то есть быть динамическим процессом, а не бесконечным продолжением или полной остановкой времени.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: