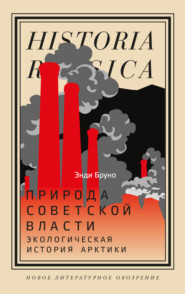скачать книгу бесплатно
Такое полиэтничное население жило по-разному. Финны и норвежцы переселились в основном на запад от Кольского залива. Природные условия там способствовали занятию сельским хозяйством, позволяя переселенцам сочетать выращивание овощей, животноводство и рыболовство. Поморы и карелы же селились в восточной части Мурманского побережья, занимаясь главным образом ловом трески. Многие переселялись туда вынужденно, спасаясь от голода, поразившего Север России в 1868 году[72 - Yurchenko A. Economic Adaptation by Colonists on the Russian Barents Sea Coast // In the North My Nest is Made. P. 94–110.]. Многие поморы при этом не оставались на Мурманском побережье постоянно, но продолжали приезжать туда только в летнее время, не способствуя полноценной колонизации региона[73 - Например, в 1895 году архангельский губернатор Александр Платонович Энгельгардт докладывал, что в Западном Мурмане проживало 1063 постоянных жителей, а в Восточном Мурмане – только 154. Летом того же года прибыли 2794 рыбака, см.: Энгельгардт А. П. Русский север. С. 95–96. Подробнее об Энгельгардте см.: Robbins R. G. The Tsar’s Viceroys: Russian Provincial Governors in the Last Years of the Empire. Ithaca: Cornell University Press, 1987. P. 67–71; Moon D. The Plough that Broke the Steppes.]. Периодически между разными этническими группами вспыхивали конфликты из?за доступа к природным ресурсам. Например, в 1870 году один норвежский переселенец жаловался архангельскому губернатору, что поморы самовольно собирали древесину для топлива и пользовались сенокосами[74 - Davydov R. From Correspondence to Settlement. P. 40–42.].
Такие конфликты использовались националистами для критики правительственной колонизационной программы. Эти консервативные интеллектуалы и промышленники выступали против иностранного присутствия на Мурманском побережье и романтизировали традиционный образ жизни поморов. Придерживаясь так называемого «славянофильского капитализма», как удачно выразился экономический историк Томас Оуэн. Философ-панславист Николай Данилевский предложил другое видение развития Севера[75 - Owen Th. C. Russian Corporate Capitalism from Peter the Great to Perestroika. Oxford: Oxford University Press, 1995. P. 126–138.]. Опираясь на собственные исследования рыболовства на российском северо-западе, Данилевский отверг как аргументы Мехелина о полезности сравнения Мурманского побережья и Финнмарка, так и многие из его предложений. По его мнению, правительство должно было прекратить стимулировать иностранных колонистов и сосредоточиться на протекционистской политике для поморов, чтобы оградить их от конкуренции. Данилевский также выступал за частную предпринимательскую деятельность, в частности организацию пароходного сообщения между Мурманским побережьем, Архангельском и Северной Европой[76 - Данилевский Н. Я. О мерах к обеспечению народного продовольствия на крайнем севере России // Данилевский Н. Я. Сборник политических и экономических статей. СПб.: Издание Н. Страхова, 1890. С. 588–601. См. также: Nielsen J. P. The Murman Coast and Russian Northern Policies. P. 18–20; Davydov R. From Correspondence to Settlement. P. 35–37, 48–49.]. В 1870?е годы московский предприниматель Федор Чижов основал Архангельско-Мурманское срочное пароходство. Впечатлившись «ловкостью и находчивостью» поморов, предки которых «покорили земли до Ледовитого океана», Чижов надеялся улучшить их участь. Он утверждал, что основал компанию не для собственной выгоды, но с целью оживить хозяйственную деятельность Поморья[77 - Цит. по: Owen Th. C. Dilemmas of Russian Capitalism: Fedor Chizhov and Corporate Enterprise in the Railroad Age. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2005. P. 138, 142, 134–148.]. Этот взгляд на развитие отличался от программы Мехелина стремлением продвигать чисто российские способы взаимодействия с окружающей средой. Но эти националистические критики, как и более поздние противники подражания иностранцам, в конечном счете разделяли с правительственными чиновниками концепцию природы как совокупности ресурсов. Природа Севера в их понимании была ларцом, который нужно было открыть.
АГИТАЦИЯ ЗА ПОСТРОЙКУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ
В 1890?е годы разочарование скромными результатами мурманской колонизации сменилось амбициозными планами строительства железной дороги до Кольского залива. К этому времени на Мурманское побережье переселилось всего несколько тысяч человек, а на Кольском полуострове в целом проживало не более 10 тысяч жителей. Выступая за усиление государственного контроля над периферийными территориями страны, министр финансов Сергей Витте, архангельский губернатор Александр Энгельгардт и Министерство путей сообщения лоббировали создание нового военно-морского порта на Мурманском побережье и постройку к нему железной дороги. Они рассматривали железную дорогу как оптимальное средство «самоколонизации» для организации переселения, экономического развития и военного контроля над этими слабозаселенными землями. В этом смысле железные дороги, ставшие «имперской технологией» в других континентальных империях еще в начале XIX века, теперь приобретали важнейшее значение в России[78 - О роли железных дорог как имперском инструменте в Канаде и США см.: Roman D. W. Railway Imperialism in Canada, 1847–1865 // Railway Imperialism / Ed. by C. B. Davis, Jr. K. E. Wilburn, R. E. Robinson. Westport: Greenwood Press, 1991. P. 7–24; Angevine R. G. The Railroad and the State: War, Politics, and Technology in Nineteenth-Century America. Stanford: Stanford University Press, 2004; White R. Railroaded: The Transcontinentals and the Making of Modern America. NY: W. W. Norton, 2011.]. Одним из главных здесь был проект строительства Транссибирской железной дороги в 1891–1916 годах. Он привлек в Сибирь миллионы рабочих, открыв новую страницу в истории государственной колонизации, направленной на заселение и экономическое развитие отдаленных территорий[79 - Treadgold D. W. The Great Siberian Migration. P. 32–34, 107–149; Marks S. G. Road to Power: The Trans-Siberian Railroad and the Colonization of Asian Russia, 1850–1917. Ithaca: Cornell University Press, 1991.].
Витте параллельно руководил строительством железной дороги на Мурманском побережье. Он занял центральное место в государственном железнодорожном строительстве и проводил идеи немецкого экономиста Фредерика Листа о том, что именно государство должно играть активную роль в индустриализации[80 - Подробнее о Витте см.: Wcislo F. W. Tales of Imperial Russia: The Life and Times of Sergei Witte, 1849–1915. Oxford: Oxford University Press, 2011; Harcave S. Count Sergei Witte and the Twilight of Imperial Russia. London: M. E. Sharpe, 2004; Laue Th. von. Sergei Witte and the Industrialization of Russia. New York: Atheneum, 1969.]. Витте верил, что поддерживаемое правительством железнодорожное строительство позволит России преодолеть культурную и экономическую отсталость. Он писал в своих лекциях: «Железная дорога является как бы ферментом, вызывающим в населении культурное брожение, и если бы даже она встретила на пути своем совершенно дикое население, то в короткий срок цивилизовала бы его до необходимого ей уровня… В России влияние железных дорог должно быть еще больше, нежели в западноевропейских государствах, вследствие особенностей самой страны… Россия… отстала в культурном отношении от своих западных соседей, и потому влияние дорог должно было сказаться заметнее и плодотворнее здесь, чем на Западе»[81 - Витте С. Ю. Конспект лекции о народном и государственном хозяйстве. 2?е изд. СПб.: Брокгауз и Ефрон, 1912. С. 344–345.]. При этом убеждение в том, что промышленность стимулирует культурное развитие, основывалось на представлении о нетронутой природе как свидетельстве упущенных экономических возможностей.
Поддержка железнодорожного строительства на Кольском полуострове Министерством финансов встретило сопротивление со стороны других ведомств. Местные чиновники Олонецкой и Архангельской губерний впервые выступили за строительство дороги в 1870–1880?е годы. В последние годы правления Александра III эта идея стала одной из центральных, поскольку российское правительство рассматривало вопрос о выборе места для строительства порта. Оно хотело обезопасить границы страны, поскольку новый порт должен был защищать внутренние территории: в отличие от Архангельска и Петербурга он не замерзал в зимнее время[82 - Хабаров В. А. Магистраль. Мурманск: Мурманское книжное издательство, 1986. С. 12.]. В противовес предложению Витте использовать Мурманское побережье военное и морское министерства предложили в качестве места строительства порта Либаву (Лиепая) в Латвии. Несмотря на высокий риск блокады, преимуществом было то, что в Либаве уже было развито железнодорожное сообщение и в целом это был хорошо заселенный пункт с незамерзающей гаванью. Морской порт на Мурманском побережье потребовал бы строительства к нему железной дороги, что расценивалось военным министерством как преждевременное и дорогостоящее мероприятие. Оппоненты строительства на Мурмане доказывали, что приоритетом должно было быть заселение и экономическое развитие региона и только потом можно было бы построить там железную дорогу. Такой подход противоречил представлениям Витте[83 - Мурманская железная дорога. С. 15–16.].
За желанием Витте модернизировать страну скрывалось его технократичное представление о мире. Чиновники, ученые и предприниматели его склада верили, что научное знание и новые технологии являются залогом экономического успеха. Многие из них считали, что именно государство должно быть дирижером модернизации. Такое представление не было уникальным для России. Как указывает Тимоти Митчелл, в XX веке «политика национального развития и экономический рост были научно-технической политикой, которая подразумевала, что современное знание, технологии и социальные науки помогут исправить дефекты природы, преобразовать крестьянское сельское хозяйство, решить все проблемы общества и улучшить экономику»[84 - Mitchell T. Rule of Experts: Egypt, Techno-Politics, Modernity. Berkeley: University of California Press, 2002. P. 15.]. Убеждение в том, что техническое знание обеспечивает развитие, было общим для имперского времени и советского периода. В своей классической работе по истории технической интеллигенции в Советском Союзе Кендалл Бейлз показывает, что инженеры царского режима, продолжившие свою карьеру при большевиках, нередко сохраняли веру в технократизм. Они пытались применять свои знания и использовать новые возможности для решения социальных и политических проблем при новом режиме[85 - Bailes K. E. Technology and Society under Lenin and Stalin: Origins of the Soviet Technical Intelligentsia, 1917–1941. Princeton: Princeton University Press, 1978. P. 95–121.].
Сторонники такого технократического взгляда считали, что природный мир имеет ценность, которую нужно было раскрыть. Поэтому главной задачей было найти пути для максимально полного использования природного потенциала, превращения его в ресурс и взаимного обогащения природы и общества. Историк Екатерина Правилова указывает на то, что трансформация системы собственности в России после великих реформ означала, что «природный мир приобретал новую ценность… Новые схемы распределения природных ресурсов, возникавшие в XIX – начале XX века, основывались… на знании и способности эффективно использовать ресурсы, а также на требовании социальной справедливости, представлявшейся как общественное благо»[86 - Pravilova E. A Public Empire: Property and the Quest for the Common Good in Imperial Russia. Princeton: Princeton University Press, 2014. P. 128. Пер. на рус.: Правилова Е. Империя в поисках общего блага. Собственность в дореволюционной России. М.: Новое литературное обозрение, 2022.]. Многие считали, что в таких своеобразных местах, как Север, более значимыми были возможности, предоставляемые природой для развития, нежели реальные ограничения, устанавливаемые тяжелыми условиями. Сторонники строительства железной дороги на Кольском полуострове придерживались самой радикальной версии такого ассимиляционного взгляда на природу.
Специально организованные экспедиции на Мурманское побережье в 1890?е годы подтверждали, что земли и воды Кольского полуострова скрывали множество богатств. Это способствовало тому, что представление о кольской окружающей среде менялось: она не виделась больше враждебной и жестокой, но становилась богатой и ценной. Более того, многие бухты западной части Мурманского побережья не замерзали зимой и поэтому позволяли основать там круглогодичный порт. Один из чиновников Министерства финансов, который ездил туда вместе с Витте в 1894 году, как и Мехелин, сравнивал эти территории с Финнмарком и говорил, что «значение Мурмана заключается в его прекрасных природных гаванях, которые лежат у открытого океана и всю зиму не замерзают»[87 - Цит. по: Мурманская железная дорога. С. 15–16.]. Из множества участков Мурманского побережья, обследованных командой, самое сильное впечатление на Витте произвела «замечательная» Екатерининская гавань в северо-западной части Кольского залива, которая, по его мнению, имела большое оборонительное значение[88 - Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 1. М.; Таллинн: Скиф Алекс, 1994. С. 389.].
Годом позже архангельский губернатор Энгельгардт также организовал экспедицию, после которой убедился в том, что природные ресурсы Кольского полуострова могут способствовать региональному развитию. При этом он считал, что рыба, леса и минеральные ресурсы должны приносить пользу всему государству[89 - Энгельгардт А. П. Русский север. С. 1.]. Он также поддерживал идею строительства железной дороги как средства для эффективной интеграции этого богатого региона в экономику. Энгельгардт намеренно подчеркивал, что природные условия там не были тяжелыми: «Изучая вопрос о Мурмане, о климатических его условиях и о колонизации Мурманского берега, нам приходилось нередко читать и слышать, что на Мурмане жить нельзя, что колонизация его невозможна, что никакое здоровье не может вынести его сурового климата и т. д. Приведенные выше данные свидетельствуют как раз обратное». Его выводом стало то, что «близко уже то время, когда Мурман получит наконец подобающее ему коммерческое и политическое значение, указанное самою природою»[90 - Там же. С. 130, 133.].
Несмотря на чаяния государственных чиновников, планы строительства железной дороги столкнулись с препятствиями в 1890?е годы. Во время последней встречи с императором Александром III Витте представил доклад, в котором обосновывалась срочность строительства морского и коммерческого порта в Екатерининской гавани, а также железной дороги для сообщения с центром. Записи, которые сделал Александр III накануне своей внезапной смерти, свидетельствуют о его поддержке этого проекта. Согласно Витте, Николай II сначала также поддерживал эти начинания, однако позднее изменил свое мнение в пользу строительства порта в Либаве. Разочарованный Витте смог убедить императора лишь в необходимости основания коммерческого порта на Мурманском побережье, но без реальных перспектив строительства к нему железной дороги[91 - Witte S. I. The Memoirs of Count Witte / Trans. and ed. by S. Harcave Armonk: M. E. Sharpe, 1990. P. 210–212. Пер. Витте С. Ю. Воспоминания. М.; Таллинн: Скиф Алекс, 1994; Хабаров В. А. Магистраль. С. 12–16.]. В 1899 году в Екатерининской гавани был торжественно открыт порт Александровск. Газеты того времени наперебой твердили, что он станет «естественным средоточием экономической жизни Мурманского побережья»[92 - Цит. по: Жилинский А. Несколько слов о железной дороге на Мурмане // Известия Архангельского общества изучения Русского Севера (ИАОИРС). 1914. Т. 6. № 14 (14 июля). С. 421.].
Без железной дороги Александровск не мог играть какой-либо значимой роли ни для продолжения миграции в северные регионы, ни для их экономического развития. Большинство из 300 жителей, ставших первым населением города, переехали туда из окрестностей Кольского полуострова. К началу Первой мировой войны население Александровска удвоилось. Природные условия Екатерининской гавани оказались менее комфортными для проживания, чем рассчитывали сторонники строительства. Территории, окружавшие гавань, представляли собой крутые скалы, покрытые тундрой, где не было лугов и лесов, которые могли бы служить поселенцам местом для добычи средств к существованию. Более того, в отличие от других мест Мурманского побережья именно Екатерининская гавань иногда замерзала зимой[93 - Ушаков И. Ф. Избранные произведения. Т. 1. С. 398–399; Жилинский А. Несколько слов о железной дороге на Мурмане. С. 421–422; Он же. К вопросу о порте на Мурмане // ИАОИРС. 1915. Т. 7. № 5 (15 мая). С. 135.]. Корреспондент одной из архангельских газет Алексей Жилинский давал очень нелицеприятную оценку новому портовому городу, называя его строительство большой ошибкой и разочарованием[94 - Жилинский А. Несколько слов о железной дороге на Мурмане. С. 422.].
Однако критика не остановила тех, кто выступал за возрождение Севера с помощью железнодорожного строительства. Хотя вихрь драматических событий первого десятилетия XX века – Русско-японская война, революция 1905 года, введение ограничений императорской власти и столыпинские реформы – заставил отложить проект строительства, новое поколение технократов смотрело на потенциал развития Кольского полуострова с еще большим энтузиазмом. Ученые проводили многочисленные исследования региона, которые могли быть использованы в экономических интересах государства[95 - Лайус Ю. А. Развитие рыбохозяйственных исследований Баренцева моря. С. 33–147; Lajus J. Whose Fish? Controversies between the State and Local Actors about the Knowledge and Practices of Resource Use in the Russian North. Unpublished paper; Ушаков И. В. Избранные произведения. Т. 1. С. 410–414.]. Наиболее активные члены имперского Переселенческого управления также поддерживали интенсивное развитие железных дорог, лоббируя его в правительственных кругах и с помощью журнала «Вопросы колонизации». Некоторые из руководителей этого института, такие как Геннадий Чиркин и Владимир Вощинин, позднее будут принимать активное участие в советских проектах освоения Мурманского края. До начала Первой мировой войны Чиркин писал, что самоколонизация подразумевала железнодорожное строительство, направленное не только в уже существующие экономические центры, но и туда, где можно было развивать городскую жизнь в перспективе[96 - Вопросы колонизации. 1912. №. 10. С. 303–304.]. Как указывает историк Питер Холквист, эти члены Переселенческого управления «пропагандировали технократические знания, защищали научно обоснованное государственное вмешательство и делали акцент на важности „продуктивного“ труда»[97 - Holquist P. «In Accord with State Interests and the People’s Wishes»: The Technocratic Ideology of Imperial Russia’s Resettlement Administration // Slavic Review. 2010. Vol. 69. № 1. P. 157. Все особенности, которые упоминает Холквист, имели место в советский период. Я основываюсь на интерпретациях рынка и частной собственности как определяющих характеристиках технократии, см.: McDougall W. The Heavens and the Earth: A Political History of the Space Age. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, [1985] 1997. Вальтер Макдугал утверждает, что технократическое правление было изобретено в СССР. Современное экономическое развитие часто основывается на технократических импульсах, независимо от того, является ли страна капиталистической или нет. В следующей главе я покажу, что советский экономический режим, т. е. отсутствие капитализма, не играл большой роли в его экологической истории.].
Часть образованного общества в Архангельске придерживалась представления о том, что природа обладала ценностью и являлась сундуком, наполненным разнообразными сокровищами[98 - Например, см.: От редакции // ИАОИРС. 1900. Т. 1. № 1. С. 3–6; Что нужно для колонизации Мурмана? (Мурман и его нужды) // ИАОИРС. 1909. Т. 1. № 2; Аверинцев С. Несколько слов о постановке научно-промысловых исследований у берегов Мурмана // ИАОИРС. 1909. Т. 1, № 2. С. 5–18, 25–38; Жилинский А. Несколько слов о железной дороге на Мурмане. С. 417–423. См. интересную дискуссию об идентичностях жителей Европейского Севера России на примере Архангельска и Кольского полуострова в: Fedorov P. V. The European Far North of Russia and Its Territorial Constructions. P. 167–182.]. Многие из них утверждали, что недостатки природы проявлялись из?за недостаточного количества людей для ее экономического использования. Как указывали редакторы журнала, издаваемого недавно основанным Архангельским обществом изучения Русского Севера: «Оживление Севера может стать на твердую почву только с периода эксплуатации его богатств». Так, «колонизационная система должна быть направлена непосредственно на эксплуатацию природных богатств Севера»[99 - От редакции // ИАОИРС. 1909. Т. 1. № 2. С. 5–6.]. Обращаясь напрямую к примеру Кольского полуострова, другая статья указывала на необходимость колонизации для наиболее полного использования природного потенциала: «численность настоящего населения Мурмана не соответствует природным богатствам его, для успешности и расширения которых настоятельно требуется постоянный и значительный приток новых сил и рабочих рук»[100 - Что нужно для колонизации Мурмана? С. 8.]. Многие из них соглашались с Переселенческим управлением в том, что строительство железной дороги позволит решить проблему нехватки рабочих рук. «Богатейшие леса при железной дороге могли бы быть предметом промышленной разработки», – писалось еще в одной статье. По мнению ее автора, жизнь на Мурмане и других побережьях тогда была бы обращена к энергичному труду и торговле; минеральные ресурсы не оставались бы без эксплуатации[101 - А.Г. О железной дороге на Мурмане // ИАОИРС. 1910.Т. 2. № 9. С. 20.].
Даже те, кто выражал опасения в отношении иностранцев, переселявшихся на Кольский полуостров, и те, кто не поддерживал государственное вмешательство, выступали в пользу железнодорожного строительства. Как и Данилевский несколькими десятилетиями раньше, русские националисты были равнодушны к экономической модернизации и выступали против того, чтобы полагаться на науку. В этом смысле их трудно назвать технократами. Они обвиняли иностранные траулеры в том, что те препятствовали развитию экономической деятельности поморов, и отвергали внедрение новых рыболовных технологий. Кроме того, они говорили, что иностранные поселенцы плохо влияют на развитие региона и относятся к природе не так, как того требуют особые условия Русского Севера[102 - Яреньгин А. Зло от иностранных траулеров // ИАОИРС. 1910. Т. 2. № 12. С. 18–19; Адриянов А. С. Иностранцы на Мурмане // ИАОИРС. 1910. Т. 2. № 14. С. 25–27; Известия Архангельского общества изучения Русского Севера // ИАОИРС. 1917. Т. 9. № 7–8. С. 333–339.]. Как указывал один из авторов того времени, «иностранные промышленники прежде нас успели обратить внимание на природные богатства Мурмана и эксплуатируют их для себя, насколько им это доступно, доходя в последнее время почти до открытого хищничества»[103 - Колонизация // ИАОИРС. 1910. Т. 2. № 10. С. 38.]. И в то же время, как и сторонники экономического развития, эти критики восхваляли богатство северной природы и поддерживали железнодорожное строительство с целью укрепления связей этого региона с остальной Россией[104 - Грандилевский А., свящ. К истории русского севера (Русско-норвежские отношения) // ИАОИРС. 1910. Т. 2. № 11. С. 21–42; Ринек А. К вопросу о Мурманской железной дороге // ИАОИРС. 1914. Т. 6. № 11. С. 321–324.]. Этот консенсус обеспечил широкую поддержку строительства Мурманской железной дороги в военное время.
СТРОИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Тотальная война развязала руки насилию над природой и обществом. Как указывает экологический историк Эдмунд Рассел, «контроль над природой стал одним из основных условий тотальной войны, а тотальная война помогла усилить контроль над природой»[105 - Russell E. War and Nature: Fighting Humans and Insects with Chemicals from World War I to Silent Spring. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. 2. О войне и природе см.: Tucker R. P., Russell E., eds. Natural Enemy, Natural Ally: Toward an Environmental History of War. Corvallis: Oregon State University Press, 2004.]. Первая мировая война (1914–1918 годы) развернула стратегии мобилизации ресурсов Севера от полных энтузиазма предложений прошлых десятилетий в сторону милитаристских представлений о промышленном строительстве. Сжатые сроки, хаотичное планирование, ограниченность материалов и финансов, использование труда заключенных и истощительное природопользование, препятствовавшее продуктивному экономическому росту, характеризовали строительство Мурманской дороги. Такой расточительный подход сопровождался гибелью многих рабочих и стал моделью железнодорожного строительства позже, при Сталине. Милитаризм также способствовал формированию представления о природе как о препятствии, которое нужно преодолеть, что отрицало более ранние представления о природе как о ларце с богатствами[106 - Историк Павел Федоров придерживается похожего мнения. Он подчеркивает милитаризм в региональном развитии Кольского полуострова и то, что Север всегда был привлекателен для центра. Федоров П. В. Российская окраина: природно-культурный ландшафт и проблема генезиса заполярного города // Живущие на Севере. С. 87–90; Он же. Российское государство и Кольский север: притяжение и отталкивание // Там же. С. 102–108.]. В ходе строительства Мурманской дороги сформировалось четкое представление о природе как о враге отчасти потому, что условия военного времени не предполагали длительное и последовательное планирование, и потому, что северная природа нередко оказывала сопротивление человеку.
Милитаристские представления были довольно распространены после неудачной попытки Витте начать железнодорожное строительство на Мурманском побережье в 1890?е годы. Они находили отклик среди правительственных чиновников и предпринимателей, которые пересмотрели свои представления о железнодорожном сообщении сразу после начала Первой мировой войны[107 - Мурманская железная дорога. С. 18–19.]. В 1912 году Олонецкая губерния сотрудничала с центральными государственными ведомствами, чтобы основать частную компанию для постройки железной дороги из Санкт-Петербурга в Петрозаводск. Олонецкие власти искали финансирование как в России, так и за рубежом и начали строительство летом 1914 года[108 - Пресс М. А. История сооружения Мурманской железной дороги // Производительные силы района Мурманской железной дороги: Сборник. Петрозаводск: Правление Мурманской железной дороги, 1923. С. 15–18; Хабаров В. А. Магистраль. С. 14–15; Ушаков И. В. Избранные произведения. Т. 1. С. 549–551.]. В это время в государственных кругах и в образованном сообществе вращались идеи о важности дальнейшего освоения Севера, включая проекты строительства железной дороги до Мурмана и строительства железной дороги через Великое княжество Финляндское в обход Кольского полуострова[109 - Ринек А. Х. Мурманская железная дорога // ИАОИРС. 1913. Т. 5. № 18. С. 817–820; Железнодорожные пути // ИАОИРС. 1914. Т. 6. № 4. С. 125–127; Железнодорожные пути // ИАОИРС. 1914. Т. 6, № 5 (1 марта). С. 155–156; Железнодорожные пути // ИАОИРС. 1914. Т. 6. № 8. С. 254–255; Ринек А. Х. К вопросу о Мурманской железной дороге // ИАОИРС. 1914. Т. 6. № 11. С. 321–324; Жилинский А. Несколько слов о железной дороге на Мурмане. С. 417–423; Железнодорожные пути // ИАОИРС. 1914. Т. 6. № 19. С. 652–654.].
Все планы радикально изменились с началом Первой мировой войны в августе 1914 года. В течение первых месяцев конфликта противники смогли блокировать балтийские и черноморские порты Российской империи, отрезав ее от доступных пунктов торговли с союзниками. Фактически у России остались лишь отдаленный от политического центра тихоокеанский порт во Владивостоке и замерзающий на пять месяцев в году порт в Архангельске[110 - Ушаков И. В. Избранные произведения. Т. 1. С. 549–551.]. Ситуация вынуждала правительство ускорить строительство железной дороги к Мурманскому побережью, которая могла обеспечить более удобный доступ к зарубежным поставкам. Признавая, что Александровск имел неудачное месторасположение, чиновники рассматривали Колу как конечный пункт железной дороги. Планы были снова пересмотрены, и конец железной дороги был продлен на одиннадцать километров к северу, до Семеновской бухты (в дальнейшем ставшей частью Мурманска) – части залива, в котором вода не замерзала зимой.
План заключался в том, чтобы построить однолинейную дорогу длиной более чем в тысячу километров от Петрозаводска на север вдоль Онежского озера до Сороки на южном берегу Белого моря. Железная дорога, таким образом, должна была пройти через очень болотистую местность в Северной Карелии до Кандалакши в юго-западной части Кольского полуострова. Далее она должна была следовать по территориям, прилегающим к озеру Имандра, до Кольского залива. Этот последний отрезок железной дороги был частью исторического маршрута, который использовали поморы для похода на рыболовные участки Баренцева моря, а также саамы, перевозившие по нему почту, товары и путешественников. Строительство развернулось на участках от Петрозаводска до Сороки, от Сороки до Кандалакши и от Кандалакши до Колы[111 - Мурманская железная дорога. С. 20–22; Хабаров В. А. Магистраль. С. 15–17.]. Для привлечения иностранных инвестиций и поставок был заключен договор с Британией. Соглашения с союзниками позволили импортировать, в том числе, рельсы, локомотивы и вагоны, что в итоге способствовало выполнению железнодорожного проекта в условиях военного времени[112 - Nachtigal R. Die Murmanbahn 1915 bis 1919: Kriegsnotwendigkeit und Wirtschaftinteressen. Remshalden: BAG-Verlag, 2007. S. 39–48, 62–70. Пер. на рус.: Нахтигаль Р. Мурманская железная дорога (1915–1919 годы): военная необходимость и экономические соображения. СПб.: Нестор-История, 2011.].
Карта 2. Мурманская железная дорога. Источник: Baron N. Soviet Karelia: Politics, Planning and Terror in Stalin’s Russia, 1920–1939. London: Routledge, 2007.
Война способствовала строительству, в определенной степени став поддержкой технократическим представлениям о развитии Севера. В своей лекции для Архангельского общества изучения Русского Севера Жилинский признавал, что война создавала ужасные экономические трудности, но при этом заявлял, что «тем самым война поставила на очередь целый ряд сложнейших задач в области экономической жизни страны, заставив обратить самое серьезное внимание на возможно широкое развитие производительных сил страны и на упрочение положения России на мировом рынке. Это последнее обстоятельство обусловливает прежде всего усиленные поиски на нашем Севере выхода к свободному морю, каковым выходом является сооружение Мурманской железной дороги»[113 - Это краткое изложение доклада появилось в журнале без прямых цитат: ИАОИРС. 1916. Т. 8. № 9. С. 369–370.]. В Переселенческом управлении, продумывая долгосрочные планы по заселению Севера России, Чиркин и его соратники подчеркивали важность решения проблемы снабжения его продуктами питания в условиях войны.[114 - Holquist P. «In Accord with State Interests and the People’s Wishes». P. 164–171.] Царское правительство декларировало, что постройка железной дороги откроет огромные возможности, такие как «развитие производительных сил»: при «проведении сюда железной дороги открываются самые светлые перспективы», «в деле же колонизации обширнейшего Мурмана, настоящее население которого совершенно не соответствует его огромным природным богатствам, железной дороге суждено иметь выдающуюся роль»[115 - Мурманская железная дорога. С. 117. О спорах относительно будущего Мурманской дороги после войны см. также в: Зайцев А. Ф., Родионов Н. Р. Мурманская железная дорога и задачи экономической политики на Севере // Война и экономическая жизнь. 1916. № 3. С. 1–45; Зайцев А. Ф. Мурманская железная дорога и задачи экономической политики на Севере // Русская мысль. 1916. Т. 37. № 8. С. 1–16.]. Рост интереса к интеграции Севера в военных условиях был свидетельством формирования модерных государственных практик, которое, как считают историки, пришлось на годы войны и революции[116 - Holquist P. Making War, Forging Revolution.].
Тем не менее военные нужды имели приоритет перед строительством Мурманской железной дороги. Безжалостная эксплуатация ресурсов и жестокое отношение к природному миру отодвигали на второй план желание превратить отдаленные и пустынные регионы в процветающее земли. Вместо того чтобы планомерно исследовать то, какую ценность могла представлять собой окружающая среда, строители начали войну против кольской и карельской природы. Однако, ввязавшись в эту борьбу, они столкнулись с серьезным противником.
С самого начала строительства весной 1915 года природа ставила препятствия. Долгая, темная и суровая зима существенно сокращала временные возможности для работы в северных условиях. Рельсы проходили через болотистую и каменистую местность. Около 250 верст (верста равна примерно километру) проходили через болота, включая участок от Сороки до Кеми длиной в 52 версты. Это, в частности, требовало закладки многочисленных мостов и изгибов дороги[117 - Пресс М. А. История сооружения Мурманской железной дороги. С. 20; Nachtigal R. Die Murmanbahn 1915 bis 1919. S. 198; Russia Route Zone A: Murman Railway and Kola Peninsula. Washington, DC: Government Printing Office, 1918. P. 25.]. Кроме того, природные условия Севера не позволяли выращивать обильные урожаи, из?за чего приходилось завозить продукты из других регионов[118 - Мурманская железная дорога. С. 46–65.]. Наконец, природных материалов вокруг пунктов строительства оказалось недостаточно: северные леса были не слишком густыми и пригодными только в качестве топлива, а не для строительства домов. В источниках также упоминается отсутствие песка, который мог бы использоваться для насыпей[119 - Там же. С. 31; Nachtigal R. Die Murmanbahn 1915 bis 1919. S. 39; Хабаров В. А. Магистраль. С. 18.].
Непредвиденный ответ со стороны природы был также следствием разрушительных попыток изменить ландшафт. Хотя руководство строительством часто объясняло возникавшие трудности техническими причинами, в них не было ничего антропогенного, что подразумевает технология[120 - Мурманская железная дорога. С. 43.]. Укладка дорожных покрытий требовала огромных усилий и ресурсов. Так, на версту дороги требовалось около 15 тысяч кубических метров грунта, и в общей сложности строительство требовало выемки десяти миллионов кубометров земли. Строители забивали камни и бревна в болотистые почвы, взрывали динамитом миллионы кубометров земли и бурили замерзшие горные породы, разрушая их. Грунт часто проседал под свежеуложенной колеей. Около Сороки и Кандалакшского залива на Белом море приливы иногда затапливали насыпи вдоль путей до тех пор, пока инженеры не нашли способа спускать воду[121 - Хабаров В. А. Магистраль. С. 22; Russia Route Zone A. P. 25; Stone N. The Eastern Front, 1914–1917. New York: Charles Scribner’s Sons, 1975. P. 158.]. Белое море замерзало зимой и блокировало Архангельский порт, делая северные территории недоступными. Это существенно затрудняло снабжение строительных площадок[122 - Мурманская железная дорога. С. 59; Nachtigal R. Die Murmanbahn 1915 bis 1919. S. 41, 60.]. Домашний скот и олени, завезенные туда в целях снабжения рабочих едой и транспортом, не выдерживали холода и повышенной влажности и массово погибали[123 - Сурожский П. Как строилась Мурманская железная дорога // Летопись: Ежемесячный литературный, научный и политический журнал. 1917. Т. 11. № 7–8. С. 240; ГАМО. Ф. И-72. Оп. 1. Д. 3. Л. 158.].
Масштабные заготовки древесины для строительства и производства топлива, а также лесные пожары приводили к серьезным последствиям, связанным с нехваткой источников энергии. Строительное управление железной дороги принимало отчаянные попытки контролировать вырубки и организовать систему охраны от пожаров, однако не могло достичь существенных результатов, которые помогли бы ускорить строительство и ограничить вырубку лесов[124 - ГАМО. Ф. И-72. Оп. 1. Д. 1а. Л. 24–26; Д. 1б. Л. 64–66; Д. 3. Л. 37; Д. 33. Л. 12; Киселев А. А. Кольской атомной – 30. С. 10.]. Уже к 1918 году в регионе не осталось сухих дров, пригодных в качестве топлива для локомотивов, и поезда работали на импортном угле, завозившемся из Англии[125 - Russia Route Zone A. P. 26.]. В своем докладе от 4 июля 1916 года британский генерал-майор Альфред Нокс справедливо отмечал, что эти «естественные трудности в ходе строительства» в сочетании с военными приоритетами, когда скорейший ввод железной дороги виделся главной задачей, привели к тому, что дорога функционировала лишь в половину своей мощности[126 - Nachtigal R. Die Murmanbahn 1915 bis 1919. S. 197–198. Об опыте Нокса на русском Севере в годы Первой мировой войны см.: Knox A. With the Russian Army. 2 vols. London: Hutchinson and Company, 1921.].
Ил. 3. Рубка деревьев на строительстве Мурманской железной дороги. Фото из источника: Мурманская железная дорога: краткий очерк постройки железной дороги на Мурман с описанием ее района. Пг., 1916.
Сложные отношения с природой стали причиной страданий тысяч людей, строивших Мурманскую железную дорогу. Мемуаристы часто описывали положение строителей в очень мрачных тонах. Британский генерал-майор Чарльз Мейнард любопытствовал в своих воспоминаниях: «Сколько же можно было срубить деревьев и сколько же человек можно было занять на строительстве, если оно длилось шестнадцать месяцев». И сам отвечал: «Вероятно, пол-России было прислано на эти работы, и каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок должны были срубить хотя бы одно дерево в минуту»[127 - Maynard C. The Murmansk Venture. New York: Arno Press and the New York Times, [1928] 1971. P. 42.]. В реальности же руководители строительства не смогли рекрутировать достаточное количество рабочих, поскольку два фактора – слабая заселенность территории и потребности армии – серьезно ограничивали возможности вербовки рабочей силы[128 - Хабаров В. А. Магистраль. С. 18–20; Gatrell P. Russia’s First World War: A Social and Economic History. Harlow: Pearson Longman, 2005. P. 113–117.].
Хотя у нас нет полных данных о количестве рабочих, начальник Строительного управления Мурманской железной дороги инженер Владимир Горячковский указывал, что по состоянию на январь 1917 года на строительстве дороги было трудоустроено примерно 32 тысячи российских подданных, включая этнических русских, саамов, финнов, бурятов и кавказцев, а также восемь тысяч китайских рабочих[129 - Nachtigal R. Die Murmanbahn 1915 bis 1919. S. 101; Д. Л. От Архангельска до Кандалакши и обратно // ИАОИРС. 1916. Т. 8, № 12 (15 декабря). С. 484. Среди этих подданных было по меньшей мере 5500 финнов и значительное число других нерусских национальностей, см.: Мурманская железная дорога. С. 61. По прибытии рабочие сдавали свои паспорта в обмен на жетоны. Всего было выпущено 102 344 жетона; Хабаров В. А. Магистраль. С. 20.]. При этом многие рабочие отказывались продолжать свою деятельность после истечения их изначально оговоренного срока работы, длившегося шесть с половиной месяцев[130 - Nachtigal R. Die Murmanbahn 1915 bis 1919. S. 198.]. Также один из подрядчиков строительства, британская компания «Паулинг», наняла несколько сотен канадских рабочих. Канадцы жаловались на плохие условия жизни и работы, что еще больше усугубляло трения между «Паулингом» и Строительным управлением дороги и внесло свою лепту в уход всех западных фирм в феврале 1916 года[131 - Ibid. S. 42–53.]. Активность этих работников является примером гораздо более распространенного недовольства условиями труда на Севере и попыток противостояния с руководством железной дороги. Даже правительство признавало проблемы: «Условия, которые его (переселенца. – Прим. ред.) встречают и будут окружать в течение полугода, не привлекательны; безлюдный край с массой болот, нетронутый густой лес, отсутствие пашен и лугов, среди которых он вырос, вызывают в нем тоску»[132 - Мурманская железная дорога. С. 64.].
Ил. 4. Строительство моста для Мурманской железной дороги. Фото из источника: Мурманская железная дорога: краткий очерк постройки железной дороги на Мурман с описанием ее района. Пг., 1916.
Однако большинство рабочих были военнопленными. Немецкий историк Райнхард Нахтигал пишет, что их положение было одним «из самых страшных в местах содержания пленных в России в годы Первой мировой войны»[133 - Nachtigal R. Murman Railway // Encyclopedia of Prisoners of War and Internment / Ed. by J. Verne. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2000. P. 195.]. С ним согласны Питер Гатрелл и Элон Рачамимов[134 - Rachamimov A. POWs and the Great War: Captivity on the Eastern Front. New York: Berg, 2002. P. 107–115; Gatrell P. Russia’s First World War. P. 183–186.]. Согласно подсчетам медсестры Красного Креста Евы Брэндстрём (вероятно, преувеличенным), которая жила в России в течение войны, на строительстве Мурманской дороги погибло 25 тысяч пленников войны. Остальные 45 тысяч работавших там на момент осени 1916 года страдали от цинги, туберкулеза, ревматизма и диареи[135 - Brandstrom E. Among Prisoners of War in Russia and Siberia / Trans. by Mabel Rickmers C. London: Hutchinson and Co., 1929. P. 139.].
Такое ужасное положение людей, вынужденных работать на строительстве, так же как и технические трудности, следует анализировать с учетом природных условий. Тяжелая погода, нехватка еды и крова, а также болезни ухудшали условия жизни рабочих. Темные и морозные зимы в сочетании с прохладным летом и беспощадными комарами приводили к многочисленным трагедиям и истощению рабочих. Скудость продуктов, которые можно было заготавливать в самом регионе, также была причиной неполноценного рациона. Скученность людей в помещениях и отсутствие элементарной гигиены вызывали инфекции и приводили к эпидемиям.
То, что природа оказывала такое негативное влияние на рабочих, было следствием милитаристского подхода к строительству[136 - О социальном производстве уязвимости см.: Watts M. J., Bohle H. G. The Space of Vulnerability: The Causal Structure of Hunger and Famine // Progress in Human Geography. 1993. Vol. 17. № 1. P. 43–67; Blaikie P. et al. At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability, and Disasters. London: Routledge, 1994; Mapping Vulnerability: Disasters, Development, and People / Ed. by G. Bankoff, G. Frerks, D. Hilhorst. London: Earthscan, 2004.]. Политический эколог Пирс Блейки и его коллеги выделили ряд социальных и политических факторов, которые создают условия уязвимости перед биологическими опасностями. Они относят к таким факторам условия жизни в конкретной среде (питание, жилье, водоснабжение, канализация), миграции (особенно вынужденные), а также ограниченность истощенной природы[137 - Blaikie P. et al. At Risk… P. 106–108.]. Все это сыграло роль при строительстве Мурманской дороги, поскольку имперское государство рассматривало этот проект как чрезвычайно важный, но при этом сталкивалось с многочисленными трудностями в его снабжении.
К концу 1915 года ситуация стала настолько удручающей, что архангельский губернатор Сергей Бибиков писал министру путей сообщения Алексею Трепову, что нужно в срочном порядке передислоцировать дорогу и провести ее через Финляндию[138 - Nachtigal R. Die Murmanbahn 1915 bis 1919. S. 50, 84–86.]. Позднее Бибиков подготовил отчет, где описал чудовищные условия, в которых жили военнопленные. Он писал, что большинство бараков не соответствовали санитарным требованиям, подходящим для жестокого северного климата. Не во всех помещениях были стены и полы, окна и кухонное оборудование, что делало их непригодными для проживания зимой. Из-за расположения в глухой болотистой местности в бараках регулярно была грязная вода и насекомые. Из-за нехватки питьевой воды, отсутствия бань и медицинской помощи болезни были обычным явлением среди рабочих. Бибиков пояснял, что плохая одежда рабочих усугубляла проблемы, вызванные холодом и отсутствием гигиены, а скудость продуктов питания – основной едой была ржаная мука – приводила к вспышкам цинги[139 - Сурожский П. Как строилась Мурманская железная дорога. С. 242–243.].
История строительства Мурманской дороги показывает, что природа чинила препятствия для выполнения проекта и оказывала негативное влияние на человека. В марте 1916 года Морское министерство заключило соглашение со Строительным управлением дороги для постройки военного порта Иоканьга в восточной части Мурманского побережья[140 - Государственный архив Мурманской области (ГАМО). Ф. И-72. Оп. 1. Д. 2. Л. 12–14, 16–17.]. Недостаточное снабжение материалами и продуктами питания вызывало недовольство рабочих. Инженер, ответственный за строительство порта, отправлял полные отчаяния телеграммы летом 1916 года, в которых рассказывал, что рабочие спят в мокрой одежде на холоде, не имеют возможности обогревать жилище, заболевают инфекционными болезнями и испытывают нехватку продуктов питания[141 - Там же. Д. 3. Л. 15–19, 29, 37, 112, 137–138.]. Пытаясь как-то улучшить ситуацию, он сам покупал для них оленьи шкуры и мясо[142 - Там же. Л. 119, 158.]. В середине октября рабочие Иоканьги устроили забастовку против тяжелых условий труда и жизни. Неоднократно ссылаясь на некомфортные климатические условия – «морозы, туманы и короткие дни», – чиновники согласились на требование рабочих переехать в более благоприятные условия на время долгой зимы[143 - Там же. Д. 4. Л. 62, 99; Д. 3. Л. 153, 166.].
Вынужденные считаться с цингой и тифом, которые были очень распространенными болезнями среди рабочих в 1915 и 1916 годах, царские чиновники и Строительное управление дороги отвечали действиями, сочетающими беспокойство и жестокость. Они пытались организовать поставки продуктов питания, которые, как тогда считалось, помогают в борьбе с цингой, а также эвакуировали заболевших[144 - Nachtigal R. Die Murmanbahn 1915 bis 1919. S. 83, 87–89.]. Верховный начальник санитарной и эвакуационной части принц Александр Ольденбургский настаивал на недопустимости ситуации и подчеркивал, что Строительное управление дороги должно была взять на себя ответственность за санитарное состояние заключенных и рабочих[145 - ГАМО. Ф. И-72. Оп. 1. Д. 33. Л. 65; Nachtigal R. Die Murmanbahn 1915 bis 1919. S. 87.]. В соответствии с государственной идеологией рабочих старались селить по этническому и религиозному признаку. В одной публикации обсуждалось, что мусульманские рабочие были перевезены в южную часть дороги в период Рамадана. Проблема заключалась в том, что на Кольском полуострове полярный день длился неделями, лишая постящихся возможности принимать пищу в темное время суток. Руководство строительства хвалилось тем, что, переместив мусульман в Карелию, дало им возможность прерывать пост в тот короткий промежуток времени, когда солнце опускалось за горизонт[146 - Мурманская железная дорога. С. 72.].
Но страдания военнопленных часто вызывали более жестокую реакцию. В начале строительства Правление железной дороги установило фиксированные цены на древесину, керосин и продукты питания и сделало снабжение наемных рабочих, особенно русских, приоритетным. Постоянные вспышки эпидемий привели к пересмотру этого подхода, но существенные ограничения торговли и снабжения сохранились[147 - ГАМО. Ф. И-72. Оп. 1. Д. 1. Л. 181–183, 191; Д. 1а. Л. 24–26; Д. 33. Л. 97, 99. В целом руководство в первую очередь организовывало снабжение русских рабочих. Например, осенью 1916 года русские рабочие получали четыре рубля в день, в то время как китайские рабочие получали один рубль восемьдесят копеек. Д. Л. От Архангельска до Кандалакши и обратно. С. 459–460.]. Более того, Строительное управление с самого начала периода высокой заболеваемости пыталось усилить рабочую дисциплину и ограничить количество случаев ухода с работы в поисках медицинской помощи[148 - ГАМО. Ф. И-72. Оп. 1. Д. 33. Л. 50.]. В такой ситуации, однако, многие бросали работу; некоторые предпочитали идти на фронт, чем оставаться жить в жестоких северных условиях[149 - Nachtigal R. Die Murmanbahn 1915 bis 1919. S. 125–131.].
Тяжелые условия содержания военнопленных на Мурманской железной дороге летом 1916 года стали причиной дипломатического конфликта. К этому времени международная пресса уже знала о строительстве дороги, и Россия ослабила военную цензуру в этом отношении[150 - Adams C. C. Russia’s Ice-Free Port // The New York Times. 1916. February 27. P. 16; The Port of the Midnight Sun // The Independent. 1916. May 22. P. 274; Gulf Stream Aids Czar // The Washington Post. 1916. November 19. P. 18; Nachtigal R. Die Murmanbahn 1915 bis 1919. S. 90.]. В июне 1916 года в качестве конечной точки железной дороги торжественно был заложен новый город Романов-на-Мурмане[151 - Хабаров В. А. Магистраль. С. 26–28.]. Получая все больше информации о страданиях своих подданных, находящихся в плену в России, центральные державы стали угрожать ответными действиями в отношении российских военнопленных. Отвечая на эти угрозы, российское правительство эвакуировало некоторых больных военнопленных, однако при этом завезло огромное количество новых заключенных. К этому времени были готовы участки Петрозаводск – Сорока и Кандалакша – Кола и оставался неоконченным только сложный фрагмент дороги в направлении Сорока – Кандалакша. В ноябре строительство было объявлено завершенным[152 - Nachtigal R. Die Murmanbahn 1915 bis 1919. S. 71–75, 90–123; Хабаров В. А. Магистраль. С. 17, 28; Мурманская железная дорога. С. 7, 69–71.].
Такие жестокие условия строительства, препятствия со стороны природного мира, а также многочисленные проблемы со здоровьем рабочих способствовали укоренению милитаристского взгляда на природу. В его рамках природа была врагом военного времени и идея завоевания природы была главной в повестке. Типичными были описания строительства Мурманской дороги в прессе как борьбы с жестокой и первобытной северной природой и непрерывной битвы за базовые условия существования[153 - Зайцев А. Ф. Мурманская железная дорога и задачи экономической политики на Севере. С. 1; Мурманская железная дорога. С. 23. См. также: Сурожский П. Как строилась Мурманская железная дорога. С. 232–244.]. Следуя такой милитаристской риторике, писатели часто экспрессивно описывали множество способов, которыми природа тормозила строительство. «Это грандиозная война со стихийными силами и препятствиями экономического свойства. Стихийными препятствиями являлись местные условия: суровый климат, сплошная полярная ночь в течение полутора месяцев, краткость летнего строительного периода, ничтожное количество населения, отсутствие жилищ, отсутствие путей сообщения и местных перевозочных средств, отдаленность и разобщенность постройки дороги от сети железных дорог, отсутствие на месте врачебной помощи, болезни вследствие сурового климата и т. п.»[154 - Мурманская железная дорога. С. 31.] Такая риторика воспроизводилась и в других источниках, например в стандартных поздравительных письмах, отправляемых Николаем II в Строительное управление Мурманской дороги после ввода всех железнодорожных участков. Царь указывал, что оно одержало победу над техническими трудностями и суровыми местными условиями[155 - ГАМО. Ф. И-72. Оп. 1. Д. 13. Л. 202; Мурманская железная дорога. С. 6.].
Риторика покорения природы, с одной стороны, показывала мир природы в самых мрачных тонах, а с другой, прославляла героическое преодоление ее жестокости. Накануне Февральской революции один журналист привел длинный список примеров безжалостности природы во время строительства Мурманской железной дороги, обращаясь к работникам как к доблестным и победоносным воинам: «Тяжело было вам работать в зимние морозы, но не легче летом – не столько от жары, сколько от назойливых мошек и комаров». И в конце он подытожил: «Вы победили суровый Север»[156 - Бубновский M. По новому пути. С. 7.].
Такие представления о природном мире, несомненно, отличались от прежнего энтузиазма, который видел природу как источник богатств и больших возможностей для человека. Решение построить дорогу в Арктике в условиях военного времени воспринималось как военная кампания, а то, что природа оказывала сопротивление, только усиливало эти представления. Именно такой взгляд продолжал доминировать и после ввода дороги в эксплуатацию в период Гражданской войны в России.
ЗОНА ВОЙНЫ
Спустя несколько месяцев после окончания строительства Мурманской железной дороги Россия перестала быть монархией. В течение 1917 года произошли две революции, за которыми последовала Гражданская война, превратившая Кольский полуостров в северный фронт конфликта. Временное правительство, большевики, белогвардейцы, а также британские, американские и французские военные интервенты боролись за установление своей власти на Севере. Одновременно с этим предпринимались отчаянные попытки запустить Мурманскую железную дорогу. Война существенно осложняла переход на непрерывное функционирование железнодорожного транспорта, в том числе из?за разрушения инфраструктуры. В итоге дорога в целом так и не была введена на полную мощность до окончания Гражданской войны. В эти годы военные разных сторон придерживались милитаристских взглядов на северную природу: постоянное использование труда заключенных, радикальные и хаотичные ответы на возникавшие трудности, недальновидная и разрушительная модель природопользования, взгляд на окружающую среду Севера как на врага. Именно эти практики военного времени объединяли российских революционных либералов и социалистов, оппонентов большевиков внутри страны и иностранные силы, участвовавшие в Гражданской войне в России.
После революции новые руководители страны демонстративно отвергали царское прошлое, в том числе применявшиеся тогда методы строительства Мурманской железной дороги. Царское руководство было заменено неустойчивыми формами управления, сочетавшими власть Временного правительства с выборными Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. На волне революционных потрясений журналисты писали о жестоких формах строительства дороги, и новый министр попытался использовать демократические устремления Февральской революции[157 - Сурожский П. Как строилась Мурманская железная дорога. С. 232–244; ГАМО. Ф. И-72. Оп. 1. Д. 1. Л. 165.]. В апреле 1917 года власти также переименовали Романов-на-Мурмане в Мурманск, подчеркивая разрыв с наследием династии Романовых[158 - ГАМО. Ф. И-72. Оп. 1. Д. 1а. Л. 232; Хабаров В. А. Магистраль. С. 32.].
Несмотря на это, Временное правительство продолжало использовать некоторые более ранние практики. Строительное управление железной дороги активно использовало труд военнопленных, и к моменту Октябрьской революции там оставалось около 12 тысяч рабочих из их числа[159 - Nachtigal R. Die Murmanbahn 1915 bis 1919. S. 139–144; ГАМО. Ф. Р-488. Оп. 1. Д. 13. Л. 5–6; Гражданская война на Мурмане глазами участников и очевидцев: сборник воспоминаний и документов. Мурманск: Мурманское книжное издательство, 2006. С. 24.]. Похожими оставались способы регулирования цен на продукты питания, решение санитарных проблем, недостаточность медицинской помощи, а также попытка наладить строгую дисциплину среди рабочих и военнопленных[160 - ГАМО. Ф. И-72. Оп. 1. Д. 16. Л. 86; Д. 17. Л. 174–177; Д. 14. Л. 152; Д. 4. Л. 67–68; Д. 33. Л. 128–131; Ф. Р-488. Оп. 1. Д. 13. Л. 5–6.]. Вдоль дороги продолжалась интенсивная вырубка лесов, массово погибал скот[161 - ГАМО. Ф. И-72. Оп. 1. Д. 4, Л. 180; Киселев А. А. Кольской атомной – 30. С. 10.]. Чиновники также выражали беспокойство проблемой отходов, которые повсеместно загрязняли вагоны, дорогу, станции и склады вдоль железнодорожных путей и угрожали здоровью пассажиров и рабочих. В сентябре 1917 года вышло постановление начальника дороги, предписывавшее механизировать сбор мусора, установить больше мусорных контейнеров и обязывать рабочих сжигать или закапывать мусор в хранилищах. Также в документе указывалось на то, что в случае, когда потенциально заразный мусор сваливался на пути, следовало организовывать дезинфекцию под контролем медицинского персонала[162 - ГАМО. Ф. И-72. Оп. 1. Д. 1а. Л. 86; Д. 17. Л. 96, 98.].
Реакция Временного правительства на препятствия со стороны природы, так же как и практики царского времени, далеко не всегда учитывала особенности и необходимость более внимательного отношения к северной природе. Когда среди военнопленных заболеваемость цингой в сентябре 1917 года приобрела масштаб эпидемии, власти приняли решение прекратить наступление на природу и отступить[163 - Там же. Д. 4. Л. 161.]. Так, было предписано оставить многие рабочие площадки на зимний период, поскольку «среди условий, препятствующих ведению работ зимой, на первом плане следует поставить тяжелые климатические условия. Начиная с осенних месяцев, по общему отзыву, наступает период ветров, которые даже при сравнительно незначительной температуре достигают крайней резкости и силы, делая всякую работу на открытом воздухе физически невозможной и понижая продуктивность труда до минимума»[164 - Там же. Д. 3. Л. 394.].
Придя к власти в октябре 1917 года, большевики продолжили милитаристскую линию в Строительном управлении железной дороги. К этому времени понятие «советская власть», изначально бывшее обозначением репрезентативного органа власти у разнообразных социалистических течений, теперь стало прочно ассоциироваться с большевиками. Новая власть выполнила обещание заключить мир и выйти из войны в марте 1918 года, и к этому времени вдоль Мурманской железной дороги был основан милицейский участок, а также установлены новые цены на продукты для его сотрудников[165 - ГАМО. Ф. Р-488. Оп. 1. Д. 15. Л. 8, 31–32.]. На протяжении всего этого времени военнопленные и наемные рабочие продолжали терпеть лишения, такие как нехватка элементарных продуктов и риск эпидемий и масштабного голода[166 - Там же. Д. 13. Л. 55, 58.]. Военнопленные центральных держав оставались на Мурманской дороге как минимум до мая 1918 года, уже после того, как был подписан Брест-Литовский мирный договор, согласно которому в обмен на мир Германии передавались обширные территории на западной границе России[167 - Nachtigal R. Die Murmanbahn 1915 bis 1919. S. 123.].
При этом именно выход России из Первой мировой войны стал причиной превращения Мурманской железной дороги в реальную военную зону. После подписания Брест-Литовского договора в марте 1918 года с разрешения большевиков в Мурманске высадились британские пехотинцы. Союзные силы должны были защищать большие склады боеприпасов и железную дорогу в случае вторжения туда войск центральных держав, однако их план также не исключал возможности столкновения с большевиками. Не подчинившись приказам из центра прекратить сотрудничество с союзниками весной 1918 года, Мурманский Совет летом поддержал иностранную интервенцию. В итоге на Мурманский фронт прибыло более десяти тысяч солдат, и фронт приобрел важное геополитическое значение благодаря наличию железной дороги и незамерзающего порта. Антибольшевистские силы взяли под контроль Архангельск в августе 1918 года и в следующем месяце упразднили Мурманский Совет, который был заменен на земство. Выражая все меньшую заинтересованность в участии в Гражданской войне в России, особенно после окончания Первой мировой войны в ноябре 1918 года, иностранные интервенты оставались в этом регионе до осени 1919 года. Силы интервентов включали американские военные подразделения, задача которых заключалась в охране Мурманской дороги[168 - Эти вопросы освещены в некоторых работах по политической и военной истории, см.: Новикова Л. Провинциальная «контрреволюция»: Белое движение и Гражданская война на русском Севере, 1917–1920. М.: Новое литературное обозрение, 2011; Kotsonis Y. Arkhangel’sk, 1918: Regionalism and Populism in the Russian Civil War // Russian Review. 1992. Vol. 51. № 4. P. 526–544; Kennan G. F. The Decision to Intervene. 2 vols. Princeton: Princeton University Press, 1958; Fogelsong D. S. America’s Secret War against Bolshevism. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1995; Somin I. Stilborn Crusade: The Tragic Failure of Western Intervention in the Russian Civil War. 1918–1920. New Brunswick: Transaction Publishers, 1996; Willett R. L. Russian Sideshow: America’s Undeclared War. Washington, DC: Brassey’s, 2003.].
Иностранные военные относились к природе как к чему-то, что нужно было преодолеть и подчинить. В первые годы Гражданской войны союзные державы фактически управляли Кольским полуостровом, сотрудничая сначала с недолговечным социалистическим правительством в Архангельске, которым руководил бывший революционер Николай Чайковский, а затем с лидером Белого движения на Севере генералом Евгением Миллером[169 - Lincoln W. B. Red Victory: A History of the Russian Civil War. New York: Simon and Schuster, 1989. P. 270–286.]. Поскольку большая часть Мурманской железной дороги контролировалась врагом, Красная Армия регулярно взрывала мосты на этом стратегическом объекте, постоянно вынуждая интервентов ремонтировать дорогу[170 - Willett R. L. Russian Sideshow. P. 131–138.]. Союзники установили свою систему распределения продуктов в Мурманске не только для военных, но и для местных жителей, стремясь обеспечить их лояльность. В странах-интервентах ситуация с продовольствием обстояла лучше, чем в России, и поэтому им удавалось обеспечивать местное население едой, хотя между британским и американским правительствами возникали разногласия[171 - NARA. Record Group 182. Box 1594.]. Поставки продуктов за пределы Мурманска были более трудной задачей из?за природных факторов. Архангельск был заблокирован замерзшими водами, что вызывало беспокойство американского правительства, особенно в отношении женщин, вынужденных проживать в тяжелых климатических условиях[172 - NARA. Record Group 120. Boxes 1–3 [Letter from W. Delano Osborne, February 21, 1919].]. Военные искали возможность использовать Мурманскую железную дорогу для поставок по берегу Белого моря, однако весной многие участки дороги затоплялись и становились непригодными для использования[173 - Ibid. [Situation in North Russia Theater, February 26, 1919]. P. 9.].
Такие трудности приводили к тому, что у союзников сформировалось негативное отношение к северной природе. Так, пока дипломаты обсуждали заключение договоров на заготовку древесины и руды под Мурманском, военные часто подчеркивали, насколько недружелюбной была эта территория[174 - О дискуссиях о природных ресурсах Мурманска среди союзников см.: Новикова Л. Провинциальная «контрреволюция». С. 140–141.]. Один американский солдат, участвовавший в ремонте Мурманской железной дороги, в письме домой называл этот край «унылым и мрачным», рассказывая шутливо, что единственным развлечением была поездка на поезде до Мурманска, который солдаты прозвали «компания „Северный Полюс“ или „Раз в три недели“»: он идет на Север в одну неделю и «пытается вернуться назад» в следующую[175 - Bentley Historical Library. Polar Bear Collection. Harry Duink Papers. P. 40–41.]. В то же время союзники обращали внимание на то, что северная природа Кольского полуострова могла обеспечить условия для надежной обороны. Так, в брошюре американского военного ведомства, розданной солдатам, отмечалось, что «топографические условия Мурманского региона таковы, что на Севере у противника будет мало шансов захватить железную дорогу»[176 - Bentley Historical Library. Russia Route Zone A. P. 22.].
Белые, занявшие территорию после ухода иностранных армий, фактически боролись с природой в течение нескольких месяцев в конце 1919 и начале 1920 года. Они планировали начать заготовку лесоматериалов в районе озера Имандра и привезти туда лошадей и фураж[177 - ГАМО. Ф. Р-621. Оп. 1. Д. 22. Л. 32, 73–76.]. Чиновники отчаянно искали способы снабжения региона водой зимой и завоза продовольствия для населения, которое все больше испытывало голод[178 - Там же. Л. 32, 50, 75, 105.]. Работники дороги также пытались справляться с обильными снегопадами и снежными заносами, которые препятствовали нормальному функционированию дороги[179 - Там же. Л. 18, 67.]. В течение этого периода белые были вынуждены заниматься ремонтом уничтоженных мостов к югу от Кандалакши[180 - Там же. Л. 49.]. Белые держали политических заключенных в нечеловеческих условиях в Иоканьге, и несколько сотен из них погибли от болезней и холода[181 - Киселев А. А. ГУЛАГ на Мурмане: История тюрем, лагерей, колоний // Советский Мурман. 1992. № 7. С. 3; Новикова Л. Провинциальная «контрреволюция». С. 201–202.].
Всего за несколько дней до того, как большевики стали контролировать Кольский полуостров в феврале и марте 1920 года, белый инженер, ответственный за северный участок железной дороги, по имени Павел Маслов, рапортовал о совершенно невыносимых природных условиях там. Главным препятствием для функционирования дороги были обильные снегопады, особенно в связи с тем, что лишь небольшое количество рабочих – больше половины из которых были женщины и подростки – могло быть отправлено для очистки путей. Маслов указывал, что в случае, если метель продлится несколько недель, борьба будет совершенно бессмысленной, даже при наличии техники. Маслов просил выделить ему хотя бы сто военнопленных. Он также писал, что «нормальная работа в северных климатических условиях непрерывно от медленного истощения ослабляется». Такая ситуация приводила к настоящему голоду населения и железнодорожных работников и могла обернуться повальным заболеванием цингой: «Без увеличения нормы питания, что представляет вопрос жизни и смерти, всякие мероприятия по усилению транспорта не дадут желательных результатов»[182 - ГАМО. Ф. Р-621. Оп. 1. Д. 22. Л. 32.].
Большевики столкнулись с похожими проблемами. В годы Гражданской войны они занимали южные участки железной дороги. Остро нуждаясь в поставках топлива в другие районы страны и испытывая нехватку квалифицированных лесозаготовителей и необходимого оборудования, Управление лесозаготовок и торфозаготовок Мурманской железной дороги стремилось эксплуатировать, как они говорили, «неисчерпаемые лесные богатства» вдоль нее[183 - ГАМО. Ф. Р-483. Оп. 1. Д. 2. Л. 2–3, 21–24, 29–32, 169–171; Д. 3. Л. 31–38, 53–54, 61–62; Д. 36. Л. 3–5, 13–16.]. Осенью 1918 года чиновники признали «рациональным» закупить максимальное количество лесоматериалов и запросили «всемерное содействие в деле заготовки топлива для железных дорог, имеющих в настоящий момент весьма важное государственное значение»[184 - Там же. Д. 2. Л. 21, 42.]. Рабочие участков, подконтрольных красным, также страдали от нехватки продовольствия и предметов первой необходимости[185 - Там же. Д. 2. Л. 4–6, 22 об., 25; Д. 3. Л. 6, 16–20.].
После поражения белых на Севере проблема нехватки топлива и еды становилась все более острой, особенно в условиях масштабного голода 1921 года, поразившего новое государство. Большевистские чиновники железной дороги особенно негодовали из?за отсутствия горючего на Кольском полуострове и писали, что необходимо принять героические меры и в кратчайший срок заготовить дрова[186 - Там же. Д. 100. Л. 26, 30, 32, 37, 88, 94, 138.]. К концу лета 1920 года недоедание обернулось катастрофой: около десяти процентов от пятитысячного населения Мурманска заболели цингой. Медицинский инспектор, который привел эти цифры, обвинял в заболеваемости не только нехватку продуктов питания, но и северную природу. Он подчеркивал, что ни железнодорожные работники, ни медики не должны были жить в тяжелых арктических условиях этого дикого региона больше года[187 - ГАРФ. Ф. А-482. Оп. 2. Д. 295. Л. 1–2.]. Согласно этому врачу, природа была противником – но теперь, с окончанием войны, можно было не сталкиваться с ней, а избегать ее.
ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
Окончание военных действий не привело к отступлению с Севера, а, напротив, вернуло идеи о необходимости его развития. Снова стали распространяться взгляды на кольскую природу не как на врага, а как на ресурс, который нужно использовать. Многие выражали технократические представления о колонизации и развитии Мурманского края, существовавшие еще до войны и революции. Это показывает преемственность со взглядами чиновников царского правительства, выступавшими за строительство дороги на Мурманское побережье.
Такой подход, делавший развитие приоритетным, перекликался с задачами новой экономической политики (нэпа) в 1920?е годы. В марте 1921 года лидеры большевиков разрешили свободную торговлю, чтобы оживить экономику. Нэп был вынужденным отступлением в условиях разорения, отменой многих централизованных мер управления сельским хозяйством и промышленностью периода военного коммунизма (1918–1921 годы). Это было время большей свободы и плюрализма в определении того, чем была советская культура и общество, если сравнивать с более поздним сталинским периодом. Самым важным было то, что нэп позволял экспериментировать с инструментами возрождения экономики, не приводящими к большим потерям.
Теоретически постройка Мурманской железной дороги должна была немедленно обеспечить плодотворную почву для оживления региона. В реальности же большая часть дороги была разрушена военными действиями в годы Гражданской войны. Это ставило вопрос о том, что делать дальше[188 - Крентышев. Достройка Мурманской жел. дороги // Вестник Мурманской железной дороги. 1923. № 2. С. 15–16.]. Некоторые члены центрального правительства лоббировали идею о том, чтобы закрыть дорогу и лишь позднее заняться ее восстановлением. Лидеры недавно основанной Карельской трудовой коммуны – финские коммунисты, надеявшиеся на присоединение Финляндии посредством пролетарской революции, поддерживали ремонт дороги. Однако они выступали против любых схем, которые противоречили региональной автономии или сокращению национального населения Карелии[189 - Baron N. Soviet Karelia.]. Правление дороги же выступало не только за ее ремонт, но и за то, чтобы сделать ее основным средством экспансии на Севере страны. Так, редакция «Вестника Мурманской железной дороги» писала в первом номере от 2 января 1923 года, что «путь возрождения Севера лежит на путях Мурманской дороги». Дорога должна была, по их мнению, помочь в колонизации региона и интегрировать его в культурную и экономическую жизнь страны[190 - Наш Путь // Вестник Мурманской железной дороги. 1923. № 1. С. 1.].
В конечном итоге чиновники, ответственные за строительство Мурманской железной дороги, сотрудники нового Государственного колонизационного научно-исследовательского института, представители военного и транспортного наркоматов лоббировали план превращения дороги в полноценный инструмент для развития. 25 мая 1923 года, заручившись поддержкой лидера большевиков Владимира Ленина и основателя ЧК Феликса Дзержинского, Совет Труда и Обороны принял постановление, объявлявшее Мурманскую железную дорогу промышленно-транспортным и колонизационным комбинатом. Согласно этому документу, 241 тысяча квадратных километров, большую часть которых составляла территория Кольского полуострова, была передана Правлению Мурманской дороги (см. карту 2)[191 - Сорокин В. В. К истории разработки постановления СТО об освоении Карельско-Мурманского края // История СССР. 1970. № 4. С. 114. В первые годы после революции железные дороги в целом играли важную роль в экономическом развитии государства, см.: Heywood A. Modernising Lenin’s Russia: Economic Reconstruction, Foreign Trade and the Railways. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.]. Сторонники такого решения полагали, что подобное распределение земли заменит государственные субсидии и позволит организовать самофинансирование регионального развития. Они считали, что леса вдоль дороги будут использоваться в качестве источника топлива и строительных материалов для местных нужд и позволят получать прибыль за счет экспорта древесины. Рыбная же промышленность и развитие сельского хозяйства на крайнем Севере позволят накормить его новых жителей.
Сама идея «промышленно-колонизационно-транспортного комбината» открывала новую возможность претворить в жизнь свои технократические цели для бывших чиновников дореволюционного Переселенческого управления. Вощинин и его коллега Иван Ямзин описывали колонизационную деятельность как ускорение «процесса заселения и использования производительных сил недостаточно населенных и экономически недоразвитых территорий значительными массами людей, эмигрирующих из более густонаселенных областей»[192 - Ямзин И. Л., Вощинин В. П. Учение о колонизации и переселениях. М.: Государственное издательство, 1926. С. 4.]. Чиркин указывал, что Мурманская железная дорога играла авангардную роль на Кольском Севере и «как орган государственного хозяйства должна стать сложным промышленно-транспортным предприятием, пробуждающим самыми разнообразными способами к экономической жизни прорезываемый ею безлюдный и пустынный край»[193 - Чиркин Г. Ф. «Канадизация» Мурманской железной дороги // Производительные силы района Мурманской железной дороги. С. 231; Он же. «Канадизация» Мурманской железной дороги // Вестник Мурманской железной дороги. 1923. № 1. С. 3.]. Это был призыв к тому, чтобы максимально полно использовать выгоду, которую могла дать природа, но при этом не разграблять ее хищнически. Чиркин обращался к опыту других стран, в частности Канады, имевшей похожий северный климат, и подчеркивал значение, которое имели транснациональные железные дороги для Северной Америки. Так, по его словам, дороги создали американскую нацию, и таким же образом Мурманская железная дорога могла помочь интегрировать Кольский полуостров в Советский Союз[194 - Он же. Советская Канада (Карело-Мурманский край) // Природа и люди: ежемесячное приложение к журналу «Вестник знания». 1929. № 3. С. 3.].
В это время возобновились разговоры об уникальности природы Кольского Севера. Подобно Витте и Энгельгардту Чиркин считал, что, открыв драгоценный ларец, который представляла собой нетронутая природа, можно было «оживить» регион[195 - Он же. «Канадизация» Мурманской железной дороги. С. 225.]. Другой автор писал, что отважные колонисты должны стать локомотивом для дальнейшей экономической ассимиляции и развития региона[196 - Раевский Н. Три года колонизационной работы // Карело-Мурманский край. 1927. Т. 5. № 3. С. 7–9.]. Леса, рыба, реки, олени, минералы и океан должны были служить переселенцам. Начальник Мурманской железной дороги Арон Арнольдов заявлял, что «богатства края многочисленны. Мы имеем здесь массы залежей железных руд, многочисленные месторождения слюды, полевого шпата и кварца, барита, разные строительные материалы. Леса тянутся на протяжении всего района, рыбные промыслы на Мурманском берегу и на Белом море, обширнейшие оленьи пастбища и белый уголь (так он называл реки с гидроэнергетическим потенциалом. – Э. Б.)»[197 - Арнольдов А. Вторые Дарданеллы: Мурманский выход в Европу. Петроград: Петропечать, 1922. С. 5–6.]. Популяризация научных знаний также способствовала формированию этого манящего образа окружающей среды. Геохимик Александр Ферсман популяризировал экспедиции на Кольский полуостров под своим руководством, в ходе которых были открыты промышленно значимые месторождения полезных ископаемых. Результаты этих экспедиций поколебали все еще распространенные представления о крайнем Севере как о полярной бесплодной пустыне[198 - Ферсман А. Е. Три года за полярным кругом: Очерки научных экспедиций в центральную Лапландию 1920–1922 годов. М.: Молодая гвардия, 1924; Он же. Новый промышленный центр СССР за полярным кругом (Хибинский апатит). Л.: Изд. Академии наук СССР, 1931. О полярных пустынях см.: Он же. Современные пустыни // Природа. 1926. № 5–6. С. 15–26; АРАН. Ф. 544. Оп. 1. Д. 365. Л. 1–6.]. К концу 1920?х годов Мурманская железная дорога стала главным инструментом для интеграции окружающей среды Кольского полуострова в советскую экономику. Управленцы железной дороги создали ряд предприятий – Желлес, Желрыба, Желстрой и Желсиликат, которые отвечали за заготовку и переработку древесины, рыболовство, строительство и кирпичное производство[199 - Каждое из этих названий содержит слово «железная дорога». Например, Желлес расшифровывался как «железнодорожный лес» и т. д. Эти сокращения прочно ассоциировались с промышленным развитием, см.: Хабаров В. А. Магистраль. С. 41–62.]. Доходы от лесозаготовок и инвестиции частных и региональных предприятий позволили быстро отремонтировать и ввести дорогу в строй[200 - Baron N. Soviet Karelia. P. 77–78.]. Объемы древесины, заготавливаемой Желлесом, выросли с 720 тысяч кубометров в 1924 году до 1 460 000 кубометров в 1928–1929 годах[201 - АРАН. Ф. 544. Оп. 1. Д. 115. Л. 3.]. Большая часть высококачественного лесоматериала привозилась из Карелии, а кольская древесина в основном использовалась в качестве топливного сырья. В 1924 году Правление железной дороги также взяло под свое руководство Мурманский порт и расширило промысел рыбы[202 - Хабаров В. А. Магистраль. С. 55–56.]. В период 1923–1929 годов Желрыба заготовила 16 483 тонны рыбы[203 - АРАН. Ф. 544. Оп. 1. Д. 115. Л. 3.]. Наконец, Правление дороги искало новые способы использования болотистых и тундровых земель Кольского полуострова[204 - Baron N. Soviet Karelia. P. 72–78.]. В них входило создание сети гидроэлектростанций, модернизация оленеводства, а также обследование месторождений минералов[205 - См. также: Производительные силы района Мурманской железной дороги.]. К этим практикам также относилась деятельность по мелиорации земель, восстановление лесов и подготовка участков для последующего индивидуального строительства[206 - Мурманская железная дорога как промышленно-колонизационно-транспортный комбинат. Л.: Правление Мурманской железной дороги, 1926. С. 16–17; ГАМО. Ф. Р-397. Оп. 1. Д. 34. Л. 25–28.].
Если экономическая деятельность Мурманской дороги была успешной, то заселение территории оставалось большой проблемой. Чиновники предлагали возможности трудоустройства и земли для переселенцев, однако уговорить людей приехать и остаться оказалось непросто. В первые годы только несколько сотен человек поселилось на Кольском полуострове вдоль дороги, но многие из них вскоре уехали. Больше людей приезжало в Карелию, но даже там не хватало рабочих на лесозаготовительных операциях. Поэтому в течение 1920?х годов там активно использовался труд тысяч сезонных рабочих, а в конце десятилетия власти снова стали привлекать заключенных[207 - Мурманская железная дорога как промышленно-колонизационно-транспортный комбинат. С. 9; Раевский Н. Три года колонизационной работы // Карело-Мурманский край. 1927. Т. 5. № 3. С. 7–9; Население города Мурманска к началу 1925 года. Мурманск, 1925.]. Разочаровавшись в столь малых достижениях в развитии региона, Арнольдов писал в 1925 году, что «переселение как таковое получает не доминирующее, а служебное значение – оно есть средство, а не цель, оно является только одним из элементов колонизационного процесса». Главной целью была «организация всякого рода предприятий по промышленному использованию природных ресурсов колонизуемого края»[208 - Арнольдов А. Железнодорожная колонизация в Карельско-Мурманском крае: По материалам, разработанным колонизационным отделом правления дороги. Л.: Правление Мурманской железной дороги, 1925. С. 12–14.]. Это подтверждало, что служащие Мурманской железной дороги оставались заинтересованными прежде всего в промышленном развитии Кольского полуострова.
Чиновникам удалось добиться более серьезных успехов в заселении региона к концу десятилетия. Чиркин с гордостью констатировал, что население Мурманска возросло с 14 500 человек в 1923 году до 23 000 человек в 1929 году[209 - Baron N. Soviet Karelia. P. 77.]. Однако эти результаты не смогли помешать тому, что советская модель развития Севера уверенно менялась, и вместо ассимиляции природы ее покорение снова стало главной линией. В течение 1930 года Мурманская железная дорога перестала заниматься вопросом заселения региона и к сентябрю потеряла свой статус «промышленно-колонизационно-транспортного комбината»[210 - Хабаров В. А. Магистраль. С. 68; Сорокин В. В. К истории разработки постановления СТО об освоении Карельско-Мурманского края. С. 115.]. Само слово «колонизация», хоть и критиковавшееся, но в целом общепринятое в 1920?е годы, стало все более маргинальным в советском дискурсе первой пятилетки (1928–1932 годы)[211 - Hirsch F. Empire of Nations. P. 87–98.]. В декабре 1929 года член Политбюро Михаил Томский наставлял Василия Кондрикова, одного из самых главных деятелей в промышленном развитии Кольского полуострова, что понятие «колонизация» должно быть отброшено[212 - ГАМО. Ф. 773. Оп. 1. Д. 1. Л. 103.]. Практика регионального развития, пришедшая на смену колонизации, была еще более военизированной и не менее имперской по форме.
ВОЕНИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В СТАЛИНСКУЮ ЭПОХУ
Форсированная индустриализация эпохи высокого сталинизма стала водоразделом в российской истории. С помощью жестких методов за короткий срок страна превратилась из аграрной в промышленно развитую. Историки не раз обращались к различным аспектам истории сталинизма, в том числе к вопросу о том, какое влияние военный период оказал на последующее развитие режима. Многие ученые подчеркивают, что война была для большевиков важным образовательным опытом, заложив основу многих практик сталинского правления, таких как милитаризованность политической культуры, централизация власти, шпионаж и применение методов террора и насилия[213 - См. подробнее в: Tucker R. C. Stalinism as Revolution from Above // Stalinism: Essays in Historical Interpretation / Ed. by R. C. Tucker. New York: Norton, 1977. P. 77–108; Fitzpatrick Sh. The Legacy of the Civil War; Raleigh D. Experiencing Russia’s Civil War; Holquist P. Making War, Forging Revolution; Idem. «Information is the Alpha and Omega of Our Work»: Bolshevik Surveillance in Its Pan-European Context // The Journal of Modern History. 1997. Vol. 69. № 3. P. 415–450.]. Экономические практики взаимодействия с северной природой в сталинский период также имели корни в войнах Первой мировой и Гражданской. Сталинизм соединил исторические милитаристские и мирные формы взаимодействия с окружающей средой. Так, экологические аспекты железнодорожных проектов 1928–1953 годов скорее напоминали именно строительство Мурманской железной дороги в царское время, нежели практики эпохи нэпа.
Железнодорожное строительство на Кольском полуострове в годы правления Сталина имело много общих черт с военным временем[214 - О железнодорожном строительстве в других регионах страны в сталинский период см.: Rees E. A. Stalinism and Soviet Rail Transport, 1928–1941. New York: St. Martin’s Press, 1995; Payne M. J. Stalin’s Railroad: Turksib and the Building of Socialism. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2001.]. Главной задачей была форсированная индустриализация, для чего часто применялись экстраординарные методы организации поставок материалов и продовольствия и привлечения рабочей силы. При этом они допускали разрушительное отношение к природе, понятное только в контексте военного времени. При строительстве новых железных дорог сталинское руководство прибегало к использованию труда заключенных, истоки которого можно видеть еще в строительстве Транссибирской магистрали в начале XX века. Этот труд стал широко распространенной практикой в годы Первой мировой войны. Источниками подневольной рабочей силы при Сталине были ГУЛАГ, спецпереселенцы из числа раскулаченных крестьян и военнопленные. Похожими были проблемы со снабжением рабочих продуктами и их незащищенностью в тяжелых северных условиях в целом. Сложные и военизированные отношения с кольской природой снова провоцировали рост агрессивных настроений по отношению к ней. Как следствие, периодические издания и другие источники 1930?х годов изобиловали описаниями индустриализации как «борьбы», «покорения» и «победы»[215 - Например: Хибиногорский рабочий. 1932. 18 октября. С. 1; Ферсман А. Е. Новый промышленный центр СССР за полярным кругом. С. 5–7, 47–48; Вишневский Б. Камень плодородия. М.; Л.: Партийное издательство, 1932. С. 53–54; Коссов М. М., Каган Б. И. Северный горно-химический трест Апатит во 2?м пятилетии // Карело-Мурманский край. 1932. № 3–4. С. 14; Большевики победили тундру. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1932.].
Первоначально советское руководство планировало расширение железнодорожного строительства в регионе через развитие предприятий по добыче и обогащению фосфорсодержащих минералов на базе созданного треста «Апатит», расположенного в новом городе Хибиногорске в Хибинах. Одновременно с принятием этого решения в сентябре 1929 года плановики решили организовать строительство железнодорожных путей для соединения Мурманской дороги с новыми промышленными предприятиями. Постройку дополнительной ветки планировалось завершить к августу 1930 года за счет труда заключенных Соловецкого лагеря[216 - Часть официальная // Хибинские апатиты: Сборник / Ред. А. Е. Ферсман. Т. 1. Л.: Изд. Гостреста «Апатит», 1930. С. 285.]. К концу 1930 года на строительстве работало около 2000 заключенных, и с приходом крепких морозов стало понятно, что этот проект, как и многие другие в районе Хибин в эти годы, не будет окончен в срок[217 - ГАМО. Ф. 773. Оп. 1. Д. 1. Л. 318–319.]. Как и до революции, из?за тяжелых климатических условий и отсутствия гигиены рабочие массово заболевали тифом, туберкулезом и цингой. В 1930?е годы сама Мурманская железная дорога также требовала ремонта отдельных участков, на которые привлекали подневольных рабочих. Раскулаченные крестьяне строили гидроэлектростанцию «Нива-2», позволившую электрифицировать Мурманскую дорогу[218 - Технические условия на достройку и реконструкцию Мурманской железной дороги. Л.: Изд. Научно-технического совета Мурманской железной дороги, 1934. С. 3–5; Хабаров В. А. Магистраль. С. 78–81; Шашков В. Я. Спецпереселенцы в истории Мурманской области. Мурманск: Максимум, 2004. С. 147–151.]. В 1935 году Хибиногорску и Мурманской железной дороге было присвоено имя Сергея Кирова, убитого годом ранее.
Во второй половине десятилетия был достроен еще один участок дороги для обеспечения доступа к новому центру производства никеля – Мончегорску. В августе 1935 года новый комбинат «Североникель» заключил договор с 14?м отделением Беломорско-Балтийского канала (ББК) о строительстве новой линии от никелевого производства к железнодорожной станции Оленья к северу от озера Имандра[219 - Еремеева А. А. Строительство комбината «Североникель» (период до начала Великой Отечественной войны) в г. Мончегорске Мурманской области // Этнокультурные процессы на Кольском Севере / Ред. В. П. Петров, И. А. Разумова. Апатиты: Кольский научный центр РАН, 2004. С. 90–92; ГАМО. Ф. 773. Оп. 1. Д. 53. Л. 15–16, 60–61, 70, 229, 255–256, 264–265, 309–311; Д. 55. Л. 132–133, 694, 711. О работе Беломорско-Балтийского канала см.: Baron N. Soviet Karelia. P. 137–227.]. Плановики надеялись завершить строительство к ноябрю 1935 года, однако работы затянулись до лета 1936 года[220 - ГАМО. Ф. 773. Оп. 1. Д. 53. Л. 15–16.]. Несколько тысяч заключенных, занятых на строительстве дороги в 1935–1936 годах, испытывали катастрофическую нехватку поставок продуктов питания, привозившихся из Колы, и оборудования; большой проблемой была нехватка жилья. 14?е отделение ББК выделило военные палатки для размещения рабочих, которые сидели и лежали прямо на снегу. Один заключенный описывал: «В них было грязно, как на скотном дворе, и часто не было горячей воды»[221 - Цит. по: Киселев А. А. ГУЛАГ на Мурмане. С. 3.]. Холодный климат, антисанитарные условия и неполноценное питание привели к тому, что почти десять процентов рабочих погибли[222 - Там же.].
Отношения строителей и природы во время возведения дороги Мончегорск – Оленья также можно охарактеризовать как милитаристские. Леса в окрестностях строительства быстро вырубались на стройматериалы, топливо и шпалы. Рабочие также использовали песок для возведения насыпей вдоль дороги[223 - Еремеева А. А. Строительство комбината «Североникель». С. 91.]. Такой подход наносил ущерб природе и при этом не способствовал качественной постройке железной дороги. Нехватка материалов, в частности шпал, в сочетании со спешным строительством привели к тому, что весенние оттепели довольно быстро разрушили дорогу[224 - ГАМО.Ф. 773. Оп. 1. Д. 63. Л. 250–252; Д. 62. Л. 387.]. Обеспокоенный такой ситуацией, Кондриков, теперь возглавлявший «Североникель», писал, как природа реагировала на поспешное строительство: «С железнодорожной веткой положение очень тяжелое: снег весь сошел и, воочию, вскрылась возмутительная работа 14?го отд. по ветке. По существу, ветки нет, так как почти на всем протяжении она проходит по нулевым отметкам и по болотам»[225 - Там же. Д. 62. Л. 160.]. Два актора – время и заключенные – были вынуждены участвовать в покорении Севера, игнорируя методы, которые могли бы быть менее затратными с экономической точки зрения. В итоге, хотя лагерное руководство объявило об окончании строительства железной дороги, рабочие «Североникеля» были вынуждены ремонтировать ее в течение всего лета 1936 года[226 - Там же. Д. 63. Л. 110, 248–252; Д. 62. Л. 160, 385–389; Д. 64. Л. 191–194, 236–237.].
Милитаризация местной экономики в годы, предшествовавшие Второй мировой войне, и в период послевоенного восстановления осуществлялась в рамках все той же модели. С началом Зимней войны между Советским Союзом и Финляндией в конце 1939 года интенсивность использования труда заключенных ГУЛАГа на ремонтных и строительных работах возросла, и такой труд оставался нормой в 1940?е и в начале 1950?х годов[227 - Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923–1960 / Ред. М. Б. Смирнов. М.: Звенья, 1998. С. 165–166, 169–170, 296, 397–398, 410–411, 430–433.]. Заключенные работали на дороге от Ёны до будущего центра горнодобывающей промышленности Ковдора в 1940 году, вырубив все леса в этом районе[228 - Киселев А. А. ГУЛАГ на Мурмане. С. 3.]. Кроме того, военнопленные и после Второй мировой войны помогли завершить ряд проектов, в том числе ремонт железных дорог и развитие Печенгского района[229 - Раутио В., Андреев О. А. Социальная реструктуризация горнодобывающей промышленности Печенгского района Мурманской области. Мурманск: Мурманский гуманитарный институт / Баренц центр исследований, 2004. С. 12–15; Еремеева А. А. Строительство комбината «Североникель». С. 97; Печенга: Опыт краеведческой энциклопедии / Ред. В. А. Мацак. Мурманск: Просветительский центр «Доброхот», 2005. С. 400.]. В начале 1950?х годов была сделана попытка проложить линию, соединяющую никелевые месторождения и главную магистраль Мурманской дороги. Но, как и раньше, каменистый и болотистый ландшафт и переменчивые погодные условия мешали строительству. В итоге дорога от Ковдора до Пинозера, соединившая Печенгский район и Кольский полуостров, была открыта только через несколько лет после смерти Сталина в 1953 году[230 - Потемкин Л. А. У северной границы: Печенга советская. С. 215–225.].
Вместе с концом сталинизма произошло изменение промышленных практик: ушли в прошлое имперские форсированные методы, широко использовавшиеся в годы Первой мировой войны и возрожденные в 1930?е годы. Региональные руководители с середины 1950?х годов выбрали ассимилирующую модель. В частности, они запустили новые проекты строительства дорог для соединения новых добывающих предприятий, включая Ревду у Ловозера, и главной железной дороги (официально переименованной в Октябрьскую железную дорогу после 1959 года). В 1980?е годы была построена железная дорога Кировск – Апатиты, а также автомобильная трасса от Мурманска до Ленинграда. Эти проекты служили интеграции природных ресурсов региона, способствуя развитию нового типа отношений природы, власти и общества.
Глава 3
СТАЛИНИЗМ КАК ЭКОСИСТЕМА
Один из основоположников советской науки геохимик Александр Ферсман часто рассуждал о промышленной экспансии страны. Особую гордость у него вызывали его собственные усилия в освоении Севера. Для него добыча фосфатов в Хибинских горах на Кольском полуострове была убедительным примером того, чего можно было достигнуть при социализме. Ближе к концу первой пятилетки (1928–1932), в 1932 году Ферсман хвастался как одним из достижений основанием нового города Хибиногорска (позднее Кировска) и треста «Апатит»: «За истекший год мне пришлось непосредственно на месте познакомиться с четырьмя гигантами нашей индустрии: Магнитогорском, Кузнецкстроем, Ангарстроем и Хибинами. Передо мною прошли картины грандиозных успехов социалистической стройки и социалистического плана, но ни один из гигантов металлургии и энергетики не может сравниться с Хибинами по сложности постановки самой проблемы и по грандиозным трудностям новизны небывалых полярных масштабов проводимой работы»[231 - Ферсман А. Е. Предисловие // Соловьянов Г. Н. Кольский промышленный узел. М.: Государственное экономическое издательство, 1932. С. 3.]. Благодаря массовой мобилизации материальных и трудовых ресурсов Советскому Союзу даже удалось донести до этой арктической периферии указание Сталина о построении социализма «в отдельно взятой стране». Для Ферсмана ничто так полно не воплощало вновь обретенные возможности советской власти, чем это промышленное преобразование окружающей среды Кольского полуострова.
В конце 1920?х годов советское руководство приняло решение радикально ускорить промышленное развитие в масштабе всей страны. Стремление экономически догнать Запад, повысить обороноспособность страны после военных опасений в 1927 году и возвращение революционных обещаний большевиков уже в сталинском обличье помогли подтолкнуть эту общую кампанию. Составители государственного плана, в частности, выбрали разработку месторождений Хибинских гор специально для того, чтобы создать новый отечественный центр производства химических удобрений. Вместе с этим они хотели продемонстрировать, что Советский Союз был способен создавать целые промышленные города «с нуля» в местах, которые были к этому совершенно не приспособлены. За годы первого пятилетнего плана благодаря развитию Хибин Кольский полуостров встал на путь к тому, чтобы стать одним из самых застроенных и густонаселенных частей глобальной Арктики. Тысячи людей приехали на этот некогда пустынный горный кряж, чтобы помочь добывать и обогащать богатые фосфором минералы – апатиты. Созданная там промышленность послужила основой для быстрого подъема регионального горнодобывающего сектора в течение последующих десятилетий.
Промышленный подъем советской Арктики в 1930?е годы непосредственно зависел от представлений и установок, существовавших ранее, а также от физико-географических особенностей этого региона. Хибины виделись как перспективное место для строительства нового города горнодобывающей промышленности благодаря наличию месторождений апатитов, недавно открытых Ферсманом, и близости к Мурманской железной дороге. Такое сочетание геологического и географического факторов резонировало с давно сформулированными представлениями о необходимости оживить Север, основываясь на возможностях, которые предоставляла природа. Однако недружелюбная окружающая среда Хибин серьезно осложняла эти смелые планы. И государственные руководители снова выражали желание взаимодействовать с миром природы в духе милитаризма.
Однако строительство «социалистического» поселения на полярном Севере не было по своему смыслу простым повторением железнодорожного проекта. Оно также включало в себя попытку установить особые отношения с природой. Действительно, как я утверждаю, индустриализация Хибинских гор включала в себя усилия переделать экосистему в сталинистскую.
Заимствованный из экологии термин «экосистема» обозначает сеть взаимодействий между людьми, растениями, животными, климатом, геологическими процессами, географическими характеристиками и неодушевленной материей. Все существа и силы в природной системе действуют, влияют и изменяют друг друга в рамках экосистемы. Элементы природы, таким образом, являются потенциальными действующими лицами (акторами) истории, хотя и не обладают способностью иметь сознательные цели. Сосредотачивая внимание на совокупности всех элементов природного мира, я буду рассматривать вопросы, выходящие за рамки загрязнения, экологического управления, охраны природы. Так, я буду исследовать проблемы здоровья и условий жизни людей, динамику населения, сезонные колебания климата, свойства добываемых материалов, местную флору и фауну. В самом деле, практически каждая грань промышленного строительства и урбанизации Хибин приводила к новым формам взаимодействий с окружающей средой. Идеи, лежащие в основе того, чтобы сделать Арктику социалистической, отношение к людям, вынужденным работать там, и усилия по освоению тундры в экономических целях опирались на пересмотренные принципы экологии.
Но какой именно тип экосистемы советское руководство хотело создать на Кольском Севере? Она должна была объединить открытое превосходство над природой с беспрецедентным уровнем социалистической гармонии. Промышленники смешивали холизм и доминирование как в своей риторике, так и в своих усилиях принести сталинизм в Хибины. Напряжение между этими противоречащими друг другу повестками помогает объяснить экологические контуры индустриализации в начале 1930?х годов, включая некоторые из ее катастрофических результатов. Надежда на гармонию с природным окружением вдохновила решение построить большой город в Хибинских горах и оформила планы поселения. Она была видна в дискуссиях о том, как полярная природа будет улучшаться благодаря деятельности человека, а также в схемах ограничения промышленного загрязнения, влияющего на жителей. Кроме освоения северной природы в экономических целях усилия государства по установлению гармонии были направлены на создание улучшенной и более пригодной для жизни среды. Напротив, господство над природой означало ее отделение и независимость деятельности людей от нечеловеческого мира. Отчасти советские руководители пытались достигнуть этой независимости, обновив старые практики военизированного завоевания природы. Такая непримиримая позиция по отношению к природе прямо подрывала уверенные надежды на новый тип индустриальной цивилизации, которая будет гармонировать с окружающей средой Арктики. Вместо этого выбор в пользу милитаристского доминирования в мирное время привел к знакомым проблемам. Спецпереселенцы из числа крестьян заболевали в непригодных для жизни условиях, водоемы страдали от незапланированных токсичных сбросов, а беспорядки сводили на нет многочисленные специальные усилия по мобилизации местных ресурсов.
Когда Максим Горький посетил Хибинские горы в июне 1929 года, он жаловался на картину «довременного хаоса, какую дает этот своеобразно красивый и суровый край». Никакие другие горы не дают такой картины: «Природа хотела что-то сделать, но только засеяла огромное пространство земли камнями»[232 - Горький М. На краю земли // Пульс Хибин / Ред. Б. И. Никольский, Ю. А. Помпеев. Л.: Советский писатель, 1984. С. 21.]. Такая риторика должна быть знакома экологическим историкам Советского Союза, которые очень часто подчеркивали враждебное отношение Горького к природе[233 - Rosenholm A., Autio-Sarasmo S. Introduction // Understanding Russian Nature: Representations, Values and Concepts / Ed. by A. Rosenholm, S. Autio-Sarasmo. Aleksanteri Papers. 2005. № 4. P. 9–18; Bolotova A. Colonization of Nature in the Soviet Union; Weiner D. Models of Nature. P. 168–171.]. Однако Горький настаивал на том, что «разумная деятельность людей» может оказаться взаимовыгодной, служащей интересам человека и помогающей полярной природе реализовать ее потенциал[234 - Горький М. На краю земли. С. 21.]. Эта отчасти шизофреническая амальгама покорения и холизма в целом отражает сталинистское отношение к природе. Ее наличие также указывает на необходимость внести две важные коррективы в понимание советской экологической истории.
Во-первых, часто отмечаемый антагонизм по отношению к миру природы в сталинский период был лишь частью истории. Ряд историков считает, что прометеевская антипатия к природе определила советский подход к окружающей среде и даже явилась первопричиной последующих масштабных экологических проблем[235 - Представление о том, что сталинизм был враждебным природе, является довольно распространенным в историографии. См., например: Weiner D. Models of Nature. Пер. на рус.: Вайнер Д. Модели природы; Weiner D. A Little Corner of Freedom; Josephson P. Industrialized Nature; Idem. Would Trotsky Wear a Bluetooth. Алла Болотова показывает, как люди жили в Хибинском регионе, балансируя между любовью к природе и согласием с дискурсом завоевания в позднесоветский период. На мой взгляд, говоря о дискурсе завоевания, следует учитывать его неоднородность, даже среди его сторонников. См.: Bolotova A. Loving and Conquering Nature: Shifting Perceptions of the Environment in the Industrialised Russian North // Europe-Asia Studies. 2021. Vol. 64. № 4. P. 654.]. Но и более холистическая установка повлияла не в меньшей степени на то, что советские руководители попробовали осуществить в Хибинах[236 - Это утверждение во многом совпадает с мнением Стивена Брейна о сталинистской лесной политике, хотя я не утверждаю, что более бережное отношение к природе при сталинизме было проявлением энвайронментализма. См.: Brain S. Song of the Forest: Russian Forestry and Stalinist Environmentalism, 1905–1953. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2011. См. также: Брейн С. Новый взгляд на уничтожение заповедников в СССР в 1950?е гг. // Историко-биологические исследования. 2012. Т. 4. № 1. С. 57–72.]. Я не имею здесь в виду то, что сталинская индустриализация была более дружественной по отношению к природе, чем обычно считается, но предлагаю обратить более пристальное внимание на многообразные и противоречивые элементы отношений между экономической системой и природным миром. Во-вторых, внешне незаметные черты капитализма, скрытые в советском социализме, были менее важны для взаимодействий с окружающей средой, чем это можно было бы предположить, исходя из исследований «сталинизма как цивилизации»[237 - Kotkin S. Magnetic Mountain.]. Совокупная склонность к поглощению и гармонизации определяла сталинистские экосистемы больше, чем ослабленные права собственности и нарушенные рынки. Во многом экологические последствия масштабных преобразований в Хибинах напоминали результаты гигантских индустриальных проектов повсюду в мире. Однако сталинистскую природу лучше всего характеризует именно такой дуализм, нежели представление о том, что она ни в коем случае не была источником капиталистических товаров[238 - Специальный выпуск журнала «Kritika» посвящен пересмотру утверждения о том, что антикапитализм определял сталинскую экономику, а не только экологическое развитие. См., в частности: Sloin A., Sanchez-Sibony O. Economy and Power in the Soviet Union, 1917–39 // Kritika: Explorations in Russian and Eurasion History. 2014. Vol. 15. № 1. P. 7–22; Sanchez-Sibony O. Depression Stalinism: The Great Break Reconsidered // Ibid. P. 23–50; Cowley M. K. The Right of Inheritance and the Stalin Revolution // Ibid. P. 103–123.].
В ПОИСКАХ МИНЕРАЛОВ
Под массивным, но хорошо очерченным географически горным районом на российском северо-западе оказался погребен «камень плодородия». Он находился там миллионы лет, но никто не знал о его ценности. Геологи, исследовавшие Хибинские горы в 1920?е годы, обнаружили там крупнейшие месторождения апатитов, объясняя их важнейшее значение для производства удобрений. Их научная работа основывалась на международном опыте геологических исследований и все более четко сформулированном представлении о том, что химикаты могли быть использованы в сельском хозяйстве. Менее чем через десятилетие эти исследователи помогли превратить Хибины из малоизвестного горного массива, где не было постоянных поселений, в грандиозный промышленный объект социализма. Представления этих ученых были результатом их исследований в геологических экспедициях, а не кабинетных калькуляций. Именно эти экспедиции положили начало трансформациям окружающей среды в регионе.
Естественные процессы сформировали Хибинские горы и их окружающую среду задолго до вмешательства человека. Триста миллионов лет назад вулканическая магма из недр Земли начала медленно просачиваться в породы, образовавшие Фенноскандинавский щит. Застынув, магма превратилась в большой массив нефелино-сиенитовых пород. Позднее геологические процессы способствовали формированию внутри нефелиновой руды апатитов. В течение последних шестидесяти пяти с половиной миллионов лет движение тектонических плит вытолкнуло наружу эти подземные массы. Они стали горным массивом, простирающимся на более чем километровой высоте над уровнем моря и занимающим площадь около 1327 квадратных километров[239 - Подробнее о геологическом формировании Хибинских гор см.: Яковенчук В. и др. Хибины. Апатиты: Лапландия Минералс, 2005. С. 3–31; Онохин Ф. М. Особенности структуры Хибинского массива. Л.: Наука, 1975; Wall F., Zaitsev A. N. Phoscorites and Carbonites from Mantle to Mine: The Key Example of the Kola Alkaline Province. London: Mineralogical Society of Great Britain and Ireland, 2004; Wall F. Kola Peninsula: Minerals and Mines // Geology Today. 2003. Vol. 19. № 6. P. 206–211.]. С этих пор Хибинские горы стали единым целым с окружающей их средой. В центре южной части массива расположилась долина с двумя маленькими озерами – Большой Вудъявр и Малый Вудъявр. Из озера Большой Вудъявр в озеро Имандру на западном конце Хибин вытекает река Белая. Над озерами Вудъявр возвышаются несколько горных массивов, богатых апатитами: Расвумчорр, Кукисвумчорр и Юкспор. Доиндустриальные экосистемы региона представляли собой болотистые таежные леса, в основном сосновые в низинах, и альпийскую тундру на горных участках, где росли лишь мхи и лишайники. Некоторые крупные животные, такие как волки, росомахи, песцы и северные олени, жили на суше, и разнообразные виды обитали в горных реках и озерах[240 - Озера различных ландшафтов Кольского полуострова: Гидрология озер и характеристика их водосборов / Ред. Л. Ф. Форш, Г. В. Назаров. Л.: Наука, 1974. Т. 1.; Большие озера Кольского полуострова / Ред. Л. Ф. Форш, В. Г. Драбкова. Л.: Наука, 1976; Мишкин Б. Л. Флора Хибинских гор, ее анализ и история. М.: Издательство Академии наук СССР, 1953; Рихтер Г. Д. Север Европейской части СССР: Физико-географическая характеристика. М.: Государственное издательство географической литературы, 1946.].
Горы были впервые «открыты» в позднеимперский период. Саамы, проживавшие неподалеку, давно поняли, какие возможности и угрозы заключают в себе Хибины. Они старались избегать крутых и опасных склонов зимой, но периодически заходили в горы для охоты или выпаса оленьих стад в летнее время[241 - Ферсман А. Е. Наш апатит. М.: Наука, 1968. С. 24–25; Зюзин Ю. Л. Хибинская лавиниада. Вологда: Полиграф-Книга, 2009. С. 5–6.]. С конца XIX века отдельные иностранные ученые путешествовали в Хибины, где пытались изучать их минеральный состав научными методами. Образцы горных пород, собранные французским ученым и путешественником Шарлем Рабо в середине 1880?х годов, впервые показали наличие там апатитов. Спустя несколько лет шведский геолог Вильгельм Рамсей предположил примерную дату образования Хибин и описал процесс кристаллизации нефелино-сиенитовых пород. Несмотря на эти исследования, минеральные ресурсы региона оставались все еще плохо изученными к концу столетия, до того как туда были организованы более масштабные геологические экспедиции[242 - Яковенчук В. и др. Хибины. С. 3–6; Энгельгардт А. П. Русский север. С. 60.].
Карта 3. Хибинские горы. Источник: Bruno A. Industrial Life in a Limiting Landscape: An Environmental Interpretation of Stalinist Social Conditions in the Far North // International Review of Social History. 2010. V. 55. № 18. Изготовитель карты: www.cartographicstudio.eu.
В это же время ученые и промышленники в других странах искали способы производства искусственных удобрений из пород, богатых фосфором. Это повышало экономическую ценность Хибинских гор. Улучшить свойства почв пытались за счет питательных веществ и удобрений. В середине XIX века гуано, поставлявшееся из Латинской Америки, стало одним из важнейших и широко использовавшихся удобрений. В этот же период европейские почвоведы-химики выяснили, как можно использовать серную кислоту для производства концентрированных фосфатов из руды. Апатиты (фосфаты кальция с добавочными ионами фтора, гидроксида водорода или хлора) были идеальным исходным материалом для получения суперфосфатных удобрений, которые продавали на международном рынке компании от Северной Америки до Марокко. Суперфосфаты были основными удобрениями, производимыми химической промышленностью во всем мире, до того как после Второй мировой войны стали распространены технологии, основанные на фиксации азота[243 - Smil V. Enriching the Earth: Fritz Haber, Carl Bosch, and the Transformation of World Food Production. Cambridge, MA: MIT Press, 2001; McNeill J. R. Something New Under the Sun: An Environmental History of the Twentieth-Century World. New York: W. W. Norton and Company, 2000. P. 22–26; Гиммельфарб Б. М. Что такое фосфориты, где и как их искать. М.: Государственное научно-техническое издательство литературы по геологии и охране недр, 1962; Wines R. A. Fertilizer in America: From Waste Recycling to Resource Exploitation. Philadelphia: Temple University Press, 1985.].
Несмотря на наличие общих знаний о геологии хребта и возможностях использования апатитовой руды, к началу революционной весны 1917 года даже сторонники оживления Кольского полуострова оставались в неведении о полезных ископаемых Хибин. В обзоре минеральных ресурсов Севера того времени о наличии там апатитовой руды не упоминается[244 - Артлебен М. Н. Горнопромышленные ресурсы Севера // ИАОИРС. 1917. № 3–4. С. 155–160.]. Хотя путешественники часто надеялись выявить экономическую ценность этого края, они все же по-разному смотрели на пустынный ландшафт Хибин. Писатель Михаил Пришвин, например, считал, что девственная северная природа имела особую ценность. Называя Север «краем непуганых птиц», он подчеркивал уникальность природы, не тронутой человеческой деятельностью[245 - Пришвин М. М. В краю непуганых птиц / Осударева дорога. Петрозаводск: Карелия, [1907] 1970; Он же. За волшебным колобком: повести. М.: Московский рабочий, [1908] 1984. Описания природы у Пришвина похожи на то, о чем пишет историк Кристофер Эли, утверждая, что деятели культуры в позднеимперский период воспринимали «скудность» русской природы как национальную ландшафтную эстетику. См.: Ely C. This Meager Nature: Landscape and National Identity in Imperial Russia. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2002.]. Начитавшийся Пришвина еще в подростковом возрасте Гавриил Рихтер, будущий географ Кольского полуострова, вспоминал, как во время поездки в Хибины в 1914 году его глубоко поразила «удивительная красота и своеобразие в то время не тронутой природы»[246 - Рихтер Г. Д. Честь открытия: воспоминания первопроходцев // Мончегорский рабочий. 1977. 7 апреля. С. 2.].
Такое трепетное отношение к девственной природе резко контрастировало с тем, как позднее советские комментаторы описывали те Хибины, которые существовали в позднеимперскую эпоху. Продвигая идею о том, что неиспользуемая природа лишена смысла, местная пресса 1930?х годов изменила значение фразы про «край непуганых птиц», превратив ее в пренебрежительную отсылку к состоянию доиндустриального Севера и назвав эту территорию «пустым местом на карте»[247 - Хибиногорский рабочий. 1932. 8 октября. С. 1; Полярная правда. 1936. 20 ноября. С. 2; Полярная правда. 1938. 5 мая. С. 3; Кировский рабочий. 1939. 28 февраля. С. 2; Богатства Мурманского края – на службу социализму: Итоги и перспективы хозяйственного развития Кольского полуострова. Л.: Государственное социально-экономическое издательство, 1934. С. 7; Брусиловский И., Маркова Н. Магнетиты Кольского полуострова // Карело-Мурманский край. 1933. № 1–2. С. 55; Барсук С. Культурная революция побеждает за полярным кругом // Большевики победили тундру. С. 69. Писатели также высказывались похожим образом, ссылаясь на низкий показатель количества жителей на квадратный километр. См.: Вишневский Б. Камень плодородия. М.; Л.: Партийное издательство, 1932. С. 4–8; Осиновский В. И. Роль хибинских апатитов в колонизации Кольского полуострова // Хибинские апатиты Т. 1. С. 204.]. Другие настаивали на признании «отсталости» таких неразвитых территорий, усматривая вину царского правительства в том, что эти территории оказались изолированными от европейской модерности. Некоторые руководители промышленности воспроизводили ориенталистские стереотипы, такие как: «Кольский полуостров (Мурманский округ) в старое время был одной из самых заброшенных и отсталых окраин России. Дикий консерватизм, неповоротливость и азиатские темпы царского правительства оставили нетронутым и неисследованным этот огромный край»[248 - Каган Б. И., Коссов М. М. Хибинские апатиты. Л.: Издательство Леноблисполкома и Ленсовета, 1933. С. 91. Руководитель треста «Апатит» Василий Кондриков повторял эти слова несколько лет спустя. См.: Кондриков В. И. Итоги и перспективы Кольского промышленного комплекса // Карело-Мурманский край. 1934. № 1–2. С. 49.]. Многие из живших в последние годы существования монархии разделяли это критическое отношение.
Ученые, которые еще до революции считали, что Хибины были недостаточно хорошо изучены, ухватились за возможность их исследования сразу после того, как большевики отвоевали Кольский полуостров у белых. В мае 1920 года исполком Петроградского совета организовал специальную комиссию из числа членов Академии наук для обследования состояния Мурманской железной дороги после войны. Александр Ферсман, побывавший в Хибинах в составе этой комиссии, с восхищением писал о запасах минералов в Хибинских горах. Вскоре после возвращения он организовал полное геологическое обследование массива. Несмотря на то что Ферсман с самого начала достаточно двойственно относился к большевикам, он, как и его знаменитый научный руководитель и коллега Владимир Иванович Вернадский, давно хотел использовать свой опыт для оказания помощи государству[249 - См. подробнее о Ферсмане в: Перельман А. И. Александр Евгеньевич Ферсман, 1883–1945. 2?е изд. М.: Наука, 1983; Щербаков Д. И. А. Е. Ферсман и его путешествия. М.: Государственное издательство географической литературы, 1953; Неизвестный Ферсман: 120-летию со дня рождения А. Е. Ферсмана посвящается / Ред. М. И. Новгородова. М.: ЕКОСТ, 2003; Bailes K. E. Science and Russian Culture in an Age of Revolutions: V. I. Vernadsky and His Scientific School, 1863–1945. Bloomington: Indiana University Press, 1990.]. Движимый научным любопытством и чувством патриотического долга, Ферсман посвятил себя исследованию минеральных ресурсов, которые могли стать важной основой для индустриализации.
Команда, состоящая из профессоров и студентов, включая нескольких молодых женщин, которые учились у Ферсмана в Петрограде, присоединились к этим геологическим экспедициям в начале 1920?х годов. Во время трех поездок 1920, 1921 и 1922 годов они проделали путь в 1450 километров, провели 106 дней в Хибинских горах и собрали около трех тонн образцов. Исследователи воспринимали свой опыт в горах как испытание и угрозу со стороны незнакомого ландшафта, требовавшего осторожности. Не имея возможности перевозить большие объемы провизии в короткое летнее время, участники экспедиций прибегали к помощи местных работников железной дороги и саамских семей, снабжавших их провизией и дававших важные советы. Поднимаясь высоко в горы, ученые разбивались на пары и менялись каждые несколько дней. Условия окружающей среды одновременно создавали как препятствия, так и возможности для их работы. Полярный день позволял им работать дольше, но при этом часто способствовал нарушениям сна. В теплое время они могли уходить от базы на несколько дней без палаток, однако сильные ветра и дожди в холодное время года мешали исследованиям. Летом на низких высотах геологи страдали от комаров, а плоский характер Хибинских плато способствовал тому, что они теряли представление о своем местонахождении[250 - Ферсман А. Е. Три года за полярным кругом: Очерки научных экспедиций в центральную Лапландию 1920–1922 годов. М.: Молодая гвардия, 1924; Он же. Наш апатит. С. 58–122.].
Некоторые писали о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться. Подчеркивая то, как много усилий им пришлось прикладывать в недружелюбных и трудных условиях Хибин, геологи рассказывали истории, которые впоследствии становились частью нарратива о героических первопроходцах Севера. Ученый-минеролог Александр Лабунцов описывал, как его группа стоически пережидала «хибинскую погоду», находясь в палатке во время летнего ливня[251 - Лабунцов А. Как был открыт хибинский апатит // Карело-Мурманский край. 1929. № 11–12. С. 17–19.]. Находясь в полевых условиях, другой исследователь написал следующие строки в стихотворении о Хибинах: «Пейзаж уныл. Суровая природа / для севера дала лишь серые тона: / Горелый лес, валун, печальные болота, / Тоскливый дождь и тусклая луна»[252 - Напечатано в: Летописи событий города Хибиногорска // Живая Арктика. 2001. № 1. С. 20.]. В то время «суровый» характер природы, казалось, просто вызывал у автора депрессию, но позже эти же черты станут свидетельством отсутствия значимости этой местности до начала ее промышленного развития.
Время, проведенное в горах в начале 1920?х годов, дало возможность геологам подтвердить, что горы Кукисвумчорр и Юкспор содержат большие залежи апатитовой руды. Хотя количество минерала оставалось загадкой, Ферсман быстро понял его потенциальную полезность в качестве источника фосфорной кислоты. В дальнейшем исследование сфокусировалось на оценивании объемов месторождений апатита. Через несколько лет были открыты залежи минералов в горе Расвумчорр, увеличившие оценки запасов апатитов в Хибинах до 18 миллионов тонн[253 - Летопись событий города Хибиногорска // Живая Арктика. 2001. № 1. С. 17; Куплецкий Б. Хибинские и Ловозерские тундры // Карело-Мурманский край. 1927. № 3. С. 11–13; Эйхфельд И. В Хибинах за апатитами (Из дневника участника экспедиции) // Карело-Мурманский край. 1927. № 2. С. 8–13; Лабунцов А. Как был открыт хибинский апатит // Карело-Мурманский край. 1929. № 11–12. С. 17–19; Барабанов А. В. и др. Гигант в Хибинах: История открытого акционерного общества «Апатит» (1929–1999). М.: Изд. дом «Руда и металлы», 1999. С. 16; Яковенчук В. и др. Хибины. С. 3–8.]. Это убедило Лабунцова в том, что «хибинский апатит» мог стать «новым фактором колонизации и возрождения Мурманского края»[254 - Лабунцов А. Полезные ископаемые Хибинских тундр и Кольского полуострова // Карело-Мурманский край. 1927. № 5–6. С. 9.].
Затянувшаяся неопределенность в отношении промышленного значения месторождений закончилась после убедительных исследований экспедиции 1928 года. К этому времени ученые подсчитали, что горы содержали как минимум 90 миллионов тонн апатитовой руды. Одновременно с этим научно-исследовательские институты, такие как Научный институт по удобрениям (НИУ) и Институт механической обработки полезных ископаемых (Механобр), пришли к выводу о том, что руда могла быть обогащена до уровня выше 36% концентрации фосфорного пентоксида, активного вещества в суперфосфатных удобрениях[255 - Ферсман А. Е. От научной проблемы к реальному делу. С. 28; Летопись событий города Хибиногорска // Живая Арктика. 2001. № 1. С. 20; Барабанов А. В. и др. Гигант в Хибинах. С. 16.]. Так наука подготовила горы к сталинистскому натиску.
ДВИЖЕНИЕ ВШИРЬ
Вдали от Хибин события развивались стремительно. Сочетание политических, экономических, военных и социальных проблем убедило руководство в Москве отказаться от новой экономической политики 1920?х годов. Сталин предпринял последние шаги по укреплению своего неоспариваемого положения диктатора и начал революционный Великий перелом, чтобы поспешно принести социализм в СССР. Эта хаотичная и зачастую жестокая программа включала в себя коллективизацию сельского хозяйства, форсированную индустриализацию, стремительную урбанизацию и мобилизацию сельского и городского населения, а также создание командной экономики с определенной претензией на централизованное планирование. Это вдохновило культурный подъем, в ходе которого писатели и художники стремились представить эти реформы как решительный отход от угнетения и ограничений, которые накладывал мир природы. Один хибинский автор, восхваляя эпоху Великого перелома, писал «о гигантском росте культуры в доселе необитаемом районе» и рисовал величественную картину «создания нового человека, который в борьбе с природой сам превращается в активного строителя бесклассового социалистического общества»[256 - Майзель М. Борьба за апатит в свете современной художественной литературы // Большевики победили тундру. С. 222.]. Крупные новые промышленные центры, в том числе в Хибинах, были микрокосмом, показывающим, как сталинизм изменил отношения с природой.
Экономические расчеты о выгодах инвестирования в сельское хозяйство, сокращение импорта фосфатов из Марокко и возможности экспорта химических удобрений по отдельности не стали бы причиной принятия решения об увеличении масштабов хозяйственной деятельности на Крайнем Севере[257 - РГАЭ. Ф. 3106. Оп. 1/2. Д. 367. Л. 62–81; Соловьянов Г. Н. Кольский промышленный узел.]. Вначале, прежде чем резко увеличить масштабы проекта, руководители обдумывали проекты для мелкомасштабной добычи в Хибинах. Ограниченная добыча апатита сделала бы масштабы советской индустриализации Арктики более сопоставимыми с тем, что происходило в Северной Америке. Историк Лиза Пайпер показала, как развивались практики добычи минералов в субарктической части Канады в это время, а Эндрю Стуль описал особенности изучения и эксплуатации американской и канадской Арктики. Советское государство действовало в 1930?е годы более амбициозно, стремясь создать свой, социалистический «Новый Север»[258 - Piper L. The Industrial Transformation of Subarctic Canada; Stuhl A. Empires on Ice. PhD diss., University of Wisconsin-Madison, 2013. Стуль также указывает, что дискуссию о «Новом Севере» нужно помещать в исторический контекст. Его утверждение кажется вдвойне верным для советского Севера.]. Это происходило в условиях ускоренного развития страны, когда ажиотаж вокруг выполнения первого пятилетнего плана в более короткие сроки, а также особые материальные и географические характеристики Хибинских гор соблазняли промышленников на расширение производства. Некоторые руководители также считали, что только крупные проекты позволят преодолеть природные ограничения и тем самым сделать Арктику советской.
Выяснив вопрос о размере запасов апатитов в Хибинах, советские власти хотели знать больше о характере местной природы. Эксперты исследовали возможности производства продуктов в местных условиях, резкие смены сезонов, насекомых тундры, а также метеорологические изменения. В 1920?е годы была основана Хибинская опытная сельскохозяйственная станция, деятельность которой позволила пересмотреть прежнее представление о том, что сельское хозяйство на Севере невозможно. Работники станции ежегодно выращивали различные культуры, использовали органические и химические удобрения и постепенно расширяли посевные территории за счет осушения болот и вырубки лесов. Эти попытки не были особенно успешными, тем не менее там выращивали картофель, зерновые, капусту, бобы и другие овощи[259 - Дюжилов С. А. Научное решение проблемы полярного земледелия // Живущие на Севере. С. 82–86; Иорданский Ю. Сельскохозяйственные опытные работы за Полярным Кругом // Карело-Мурманский край. 1926. № 21. С. 1–4; АРАН. Ф. 544. Оп. 1. Д. 161. Л. 10; Эйхфельд И. Победа полярного земледелия // Большевики победили тундру. С. 151–157; Осиновский В. И. Роль хибинских апатитов. С. 204–211.]. Местные руководители также интересовались тем, как влияли на человека местные условия, когда зимой солнце не поднималось над горизонтом несколько недель, а летом было круглосуточно светло в течение полутора месяцев. Лишь к середине 1930?х годов местный инспектор по здравоохранению отказался от теории о том, что полярная ночь вызывает депрессию, а полярный день – бессонницу. Он заявил, что полярные условия не причиняют вред человеку, и считал жалобы на сложности жизни на Севере частью адаптационного процесса[260 - ГАМО. Ф. Р-163. Оп. 1. Д. 141. Л. 9–26.].
Академия наук и промышленники дополнительно поддержали в 1930 году исследования хибинских комаров. Руководитель этих исследований Владимир Фридолин писал, что насекомые были одним из самых больших препятствий для колонизации края, и заявлял о случаях смертей лошадей и детей из?за больших потерь крови[261 - Фридолин В. Ю. Изучение насекомых Хибинских гор в связи с вопросом о колонизации края // Хибинские апатиты / Ред. А. Е. Ферсман. Л.: ОНТИ ВСНХ СССР Ленхимсектор, 1932. Т. 2. С. 446.]. Комары в этих местах были действительно опасными, поскольку их короткий цикл жизни в Арктике заставлял их быстро и агрессивно искать возможность питаться. Проект Фридолина позволил детально изучить среду обитания комаров в Хибинах, выявить связь между насекомыми, их хищниками и добычей, а также обнаружить простейших, вызывающих малярию. Один экологически настроенный исследователь выступал против популярной в то время идеи о том, что иссушение болот позволяет бороться с комарами. Он показал, что иссушение некоторых торфяников и болот может изменить гидрологию местности и привести к появлению новых влажных зон. В некоторых случаях дренаж болот мог уничтожить личинки стрекоз, одного из главных хищников в этой местности, тем самым увеличивая популяцию комаров. Однако основным выводом этого исследования было то, что хибинские комары не являются переносчиками малярии. Так холод смягчил угрозу распространения заболевания[262 - АРАН. Ф. 544. Оп. 1. Д. 161. Л. 19–26; Фридолин В. Ю. Изучение насекомых Хибинских гор. С. 446–451.].
Сложности горного климата и топографии также требовали дополнительной информации. Хотя атмосферные фронты и океанические течения помогали поддерживать относительно мягкую для этой широты температуру, зимы в Хибинах были все же суровее, чем на остальной части Кольского полуострова. Было холоднее, ветренее и больше снега в горах, особенно по мере увеличения высоты над уровнем моря. По сравнению с остальной частью полуострова период постоянного снежного покрова длился в среднем на сорок дней больше – в общей сложности 220 дней в году, – и хребет получал вдвое-втрое больше осадков с частыми метелями[263 - Вводный очерк // Кольская энциклопедия. Т. 1. С. 39–41.]. Эти снежные условия в сочетании с крутыми склонами гор способствовали тому, что регион оказался подвержен сходу лавин и селевых потоков. В дополнение к более описательным свидетельствам и периодическим наблюдениям с началом промышленной деятельности метеорологическая станция в горах начала систематически регистрировать ветер, температуру и осадки[264 - Беленький Б. М. Из истории исследования снега и лавин в Хибинах // Природа и хозяйство Севера / Ред. Е. Я. Замоткин, Н. М. Егорова. Апатиты: Академия наук СССР; Географическое общество СССР. Северный филиал, 1971. Т. 2. Ч. 2. С. 305–310.].