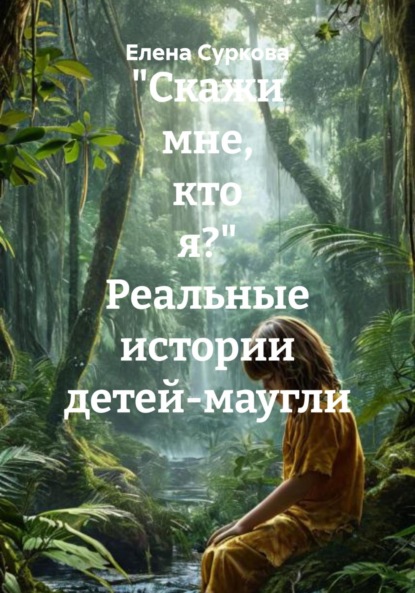
Полная версия:
«Скажи мне, кто я?» Реальные истории детей-маугли

Елена Суркова
"Скажи мне, кто я?" Реальные истории детей-маугли
«– Вот человек! В этом виден человек…»
Багира, «Книга джунглей» Р. Киплинг
От автора.
Вы держите в руках книгу, которую невозможно было написать – ее пришлось собирать по крупицам из тысяч источников, как археолог восстанавливает древнюю вазу по осколкам. Это история не вымышленного Маугли Киплинга, а реальных детей, чьи судьбы оказались разорванными между миром людей и дикой природой. Каждая такая судьба – это глубокая психологическая и философская загадка, бросающая вызов нашему самомнению. Мы привыкли считать себя венцом творения, существами, чья природа предопределена генетически и культурно. Но что остается от этой природы, если человека лишить самого главного – общества себе подобных в самый чувствительный период его развития? Ответы, которые дают нам эти истории, порой бывают пугающими и неудобными, заставляя пересмотреть самые фундаментальные представления о детстве, развитии и воспитании.
Феномен детей-маугли – это не просто коллекция курьезных случаев из прошлого. Это ключ к пониманию самой природы человеческого сознания. Каждый такой ребенок – живое свидетельство того, как формируется личность. Их истории ставят перед нами фундаментальные вопросы: что делает нас людьми? Является ли наша сущность биологической данностью или она формируется под влиянием общества? Где проходит та невидимая граница, что отделяет человека от животного? Ученые разных эпох пытались найти ответы, но чем глубже они погружались в проблему, тем более сложной и многогранной она оказывалась. Нейробиология говорит нам о «критических периодах» развития мозга, когда формируются языковые центры, социальные навыки, эмоциональный интеллект. Если эти окна возможностей захлопываются, не будучи использованными, последствия становятся необратимыми. Психология развития указывает на важность привязанности, без которой не зарождается доверие к миру. Философия спорит о «естественном состоянии» человека, а этика – о нашей ответственности перед теми, кто стал жертвой чудовищных обстоятельств.
За последние сто лет документально зафиксировано более ста случаев так называемых «феральных детей». Но эта цифра – лишь верхушка айсберга. Сколько их осталось незамеченными в джунглях Амазонки или африканских саваннах? Сколько погибло, так и не встретив человека? И самое страшное – сколько таких детей прямо сейчас живет в подвалах современных городов, запертых родителями-алкоголиками или религиозными фанатиками? Проблема «социальных маугли», таких как Джинни или Суджит, возможно, гораздо масштабнее, чем мы предполагаем. За стенами благополучных домов могут скрываться тихие трагедии детей, лишенных не только любви, но и самого понятия о человеческом общении. Их страдания не менее ужасны, чем у тех, кого вырастили волки. Они – молчаливое обвинение обществу, которое слишком часто предпочитает не замечать того, что происходит за закрытыми дверями.
В этой книге мы проследим историю феномена от первых задокументированных случаев до наших дней. Вы узнаете о Джоне Ссебунье из Уганды, которого вырастили обезьяны и который стал певцом; об Оксане Малой из Украины, которая нашла тепло в собачьей будке, когда его не оказалось в родном доме; о Джинни, для которой самые близкие люди стали палачами. Мы увидим, как по-разному может сложиться судьба в зависимости от возраста изоляции, продолжительности депривации и, что немаловажно, от усилий общества, которое пытается вернуть потерянную душу. Одни случаи, как история Мари-Анжелики, вселяют осторожный оптимизм, демонстрируя невероятную пластичность психики. Другие, как судьба Виктора из Аверона или Дина Саничара, с безжалостной ясностью показывают жесткие границы этой пластичности.
Но эта книга – не просто сборник трагических биографий. Это исследование того, как общество на разных этапах истории воспринимало таких детей. В Средневековье их считали порождением дьявола, одержимыми или, наоборот, божьими посланниками, чье появление было знамением. В эпоху Просвещения – объектом для научных экспериментов, живым доказательством теорий Руссо о «благородном дикаре» или, наоборот, чистым листом, на котором можно написать все что угодно. В XIX и XX веках к ним подошли с клиническим, медицинским интересом, пытаясь понять механизмы развития речи и интеллекта. Сегодня мы видим в них, прежде всего, жертв социального неравенства, человеческого равнодушия и чудовищного насилия. Эволюция этого восприятия – это и есть история нашей собственной цивилизации, ее страхов, надежд и уровня гуманизма.
Эта книга может изменить ваше представление о детстве, развитии и самой человеческой природе. Она не оставит вас равнодушным, потому что за каждой историей стоит судьба реального ребенка. Это не абстрактные персонажи, а живые люди, которые плакали, страдали, пытались выжить и, в большинстве своем, проиграли эту неравную борьбу. Йоганнес Бехер утверждал: «Человек становится человеком только среди людей». Эти слова как нельзя лучше отражают суть феномена детей-маугли. Приготовьтесь к путешествию в мир, где стираются границы между реальностью и мифом, между человеком и зверем, между прошлым и настоящим. Пусть эта книга станет для вас не просто чтением, а опытом соприкосновения с одной из самых загадочных тайн человеческой природы. Тайны, которая, возможно, хранит ключ к пониманию нас самих.
Легенда о Ромуле и Реме.
Рассвет залил холодные воды Тибра багровым светом. Уставшая река, вечная свидетельница человеческих судеб, вынесла на илистый берег хлипкую корзину, где замерзали два крошечных сердца. Их тихий плач разорвал утреннюю тишину. Этот плач был не просто криком голода и страха; это был первый, бессознательный протест против несправедливости, брошенный в лицо жестокому миру взрослых интриг. Младенцы, обреченные на смерть собственным дядей, еще не знали, что их судьба станет краеугольным камнем великой империи, а их имена будут веками повторять миллионы.
Вой отозвался в приречных лесах. К берегу вышла дикая волчица, привлеченная криком младенцев. Склонив морду над корзиной и принюхавшись, она учуяла не добычу, а жалкий трепет угасающей жизни. Что-то глубже инстинкта шевельнулось в ее свирепой душе. Может быть, недавняя потеря собственного выводка заставила ее сердце оттаять, а может, в этих беспомощных существах она увидела не жертву, а детенышей, нуждающихся в защите. Осторожно, чтобы не поранить клыками, она подхватила младенцев и понесла в свое логово, находившееся в пещере Луперкал у подножия Палатинского холма. Это путешествие от реки к пещере стало символическим переходом из мира человеческой жестокости в мир инстинктивной, но спасительной животной любви.
Там, в сыром полумраке, она стала им матерью. Ее молоко, густое и живое, наполнило их силой, какой не могло дать ни одно кормилица. Она вылизывала их ладони, которым однажды предстояло сжать рукояти мечей, и грела своим дыханием. А по ночам она пела им свою колыбельную – завывающий напев о лесах, свободе и нерушимой верности. Она научила их не бояться темноты, читать следы на земле и понимать язык ветра и зверей. Она дала им физическое выживание, но не могла дать того, чего у нее не было – понимания добра и зла, чести и предательства, любви и ненависти в человеческом их понимании. Она дала им жизнь, но не могла дать единства. Она спасла их от реки, но не смогла спасти друг от друга. Та самая дикая кровь, что заставляла их бороться за место у ее сосцов, однажды столкнет их насмерть у подножия тех самых холмов, что были их первым домом. Ирония судьбы заключалась в том, что дикость, спасшая их, же и погубила их братство.
Легенда о Ромуле и Реме является фундаментальным мифом Древнего Рима, призванным объяснить и возвеличить происхождение города. Её каноническая версия была оформлена римскими историками, такими как Тит Ливий, в I веке до н.э., то есть спустя столетия после предполагаемых событий (традиционная дата основания Рима – 753 год до н.э.). Этот временной разрыв позволяет рассматривать историю не как документальный отчет, а как мощный идеологический конструкт. Миф соединил в себе несколько архетипов: божественное происхождение (Марс), чудесное спасение, воспитание дикими животными как знак избранности и братоубийственную борьбу за власть, которая оправдывала жестокость ранней римской истории. Образ волчицы, вскормившей основателей, был глубоко символичен: он подчеркивал воинственный, свирепый дух римлян, их близость к природным силам и, одновременно, их способность к милосердию (по отношению к своим). Интересно, что в некоторых трактовках «lupa» означало не только волчицу, но и проститутку, что добавляло истории еще один, социальный пласт, возможно, указывающий на более приземленное происхождение близнецов.
Согласно легенде, братья-близнецы Ромул и Рем были потомками троянского героя Энея и детьми бога Марса и весталки Реи Сильвии. Их царственный дед, Нумитор, был свергнут с престола города Альба-Лонга своим братом Амулием. Чтобы обезопасить себя, Амулий приказал бросить младенцев в Тибр. Однако корзину с близнецами волны вынесли на берег у Палатинского холма, где их нашла и вскормила волчица. Позже детей обнаружил царский пастух Фаустул, который вместе с женой Аккой Ларенцией воспитал их как своих сыновей. Возмужав и узнав о своем происхождении, братья свергли Амулия и восстановили на троне деда. Они решили основать новый город на том месте, где были спасены. Возник спор о том, на каком из холмов должно быть заложено поселение. В ходе ссоры Ромул убил Рема. Став единоличным правителем, Ромул основал Рим и стал его первым царём. Для увеличения населения он предоставил убежище беглецам и бродягам, а чтобы добыть им жён, организовал похищение сабинянок. Вся эта история полна архетипических мотивов, которые встречаются в мифологиях многих народов, что говорит об универсальности темы «потерянных и обретенных» детей, ставших основателями наций.
Но если легенда о братьях, вскормленных волчицей, – это всего лишь красивая сказка, то следующие истории в большинстве своём реальны. Они лишены героического пафоса и божественного вмешательства. Это трагические, а порой и шокирующие своим реализмом свидетельства того, что происходит с человеком, когда он выпадает из общества. В них нет места романтике Киплинга; вместо благородных законов джунглей – жестокая борьба за выживание, а вместо мудрых наставников вроде Балу и Багиры – животные, руководствующиеся лишь инстинктами.
Мальчик из Гессена.
Лето 1341 года от Рождества Христова выдалось в Гессене, в самом сердце Германии, невыносимо знойным. Воздух стоял густой и неподвижный, напоенный запахом хвои, нагретой смолы и влажного перегноя. Древние, непроходимые леса дремали в душном мареве. Именно на опушке такого леса, неподалеку от одного из небольших городов, группа крестьян, возвращавшихся с поля, и нашла его. Их взглядам предстало существо, которое сложно было сразу идентифицировать как человека. Оно казалось порождением самого леса – нечистью, духом, оборотнем, застигнутым врасплох при свете дня.
Он сидел на корточках у подножия старого дуба, сливаясь с тенями и буреломом. Его пальцы, длинные и цепкие, с огрубевшими ногтями, с жадностью разрывали землю, выкапывая съедобные корешки и личинки. Он наклонялся к земле, прижимаясь к ней всем телом, и дико, по-звериному, втягивал носом воздух, улавливая невидимые людям запахи. Время от времени он замирал, как дикий зверь, чутко вслушиваясь в каждый шорох, а затем снова возвращался к своему занятию – быстрому, точному, управляемому голодным инстинктом. Его кожа, темная от грязи и загара, была покрыта ссадинами и шрамами, а волосы спутались в плотную, войлочную массу, скрывающую черты лица. При виде людей из его глотки вырвалось низкое, предупреждающее рычание. Это был не крик испуга, а угроза, ясный сигнал, означающий: «Не подходи! Это моя территория!». В его глазах, диких и бегающих, не было ни искры разума, ни проблеска любопытства – лишь первобытный страх и агрессия загнанного зверя.
Случай с гессенским мальчиком представляет собой один из наиболее ранних задокументированных примеров так называемых «феральных детей» в Европе. Данный эпизод относится к историческому периоду, когда подобные феномены интерпретировались преимущественно через призму религиозных и суеверных воззрений, а не научного анализа. Основным источником сведений выступают хроникальные записи, сделанные в гессенском регионе в 1344 году. Для средневекового сознания такое существо не могло быть просто заблудившимся ребенком. Оно было либо наказанием Божьим, либо дьявольским наваждением, либо подменышем. Его появление нарушало божественный порядок, в котором каждое творение знало свое место. Человек, ведущий себя как зверь, был кощунством, вызовом самой основе мироздания.
Согласно историческим хроникам, летом 1344 года в лесах Гессена (центральная часть современной Германии) местными крестьянами был обнаружен мальчик, чье поведение и внешний облик кардинально отличались от принятых человеческих норм. Точный возраст ребенка не указан в источниках, однако сохранившиеся описания позволяют предположить, что он провел в условиях дикой природы значительную часть своей жизни. Источники содержат следующие характеристики мальчика: Кожные покровы имели значительные огрубления от длительного воздействия солнца, ветра и загрязнений, что свидетельствовало о длительном пребывании без одежды и крова. Передвижение осуществлялось на четвереньках с заметной скоростью и ловкостью, при этом навык прямохождения отсутствовал. Речевые способности полностью отсутствовали, а издаваемые звуки характеризовались как рычание, имеющее сходство с волчьим. Понимание человеческой речи и попытки коммуникации не наблюдались. Пищевой рацион состоял из природных ресурсов леса: сырых кореньев, лесных ягод, возможно, мелких животных или насекомых. Отмечался отказ от приготовленной человеческой пищи, включая хлеб, что указывало на полную адаптацию к диете дикой природы.
Исторические записи лаконично фиксируют факт поимки мальчика и его доставки в ближайший городской населенный пункт (предположительно Гамельн или его окрестности). Можно только представить, каким шоком для него стал переход из тишины леса в шумный, вонючий и тесный мир средневекового города. Звон колоколов, крики торговцев, запах толпы – все это должно было обрушиться на его неадаптированные органы чувств лавиной болезненных раздражителей. Дальнейшая судьба ребенка остается невыясненной и, с высокой долей вероятности, имела трагический исход. Ребенок, сформировавшийся в условиях полной социальной изоляции, не смог адаптироваться к новым условиям существования. Отсутствие речевых навыков, социальных паттернов поведения и неприятие традиционной пищи делали процесс интеграции в человеческое сообщество невозможным. Учитывая суровые социальные нормы и уровень развития медицины в XIV столетии, наиболее вероятными сценариями завершения этой истории могли стать: летальный исход от заболеваний (вследствие неадаптированности иммунной системы к городской среде), голодная смерть из-за отказа от непривычной пищи либо содержание в заключении как лица, считавшегося «одержимым» или «порождением дьявола». Его могли запереть в монастырской келье или в городской темнице, где он медленно угас бы в одиночестве, так и оставшись загадкой для своих современников. Его история стала первым, но далеко не последним звонком, предупреждающим человечество о хрупкости его собственной природы.
История Джона из Льежа.
Лето 1621 года в окрестностях Льежа было тревожным. Недавно отгремели бои, и хотя религиозные страсти на время утихли, земля еще помнила топот солдатских сапог. Именно в этот неустойчивый мир вернули его, маленькую жертву взрослых споров, одиноко скитавшуюся по лесам целых шестнадцать лет. Его нашли в амбаре, где он, прижавшись в углу, дико пожирал украденную репу. Два десятка лет, проведенных в лесу, наложили на его облик неизгладимый отпечаток. Кожа, покрытая слоем грязи и загара, поросла густым волосяным покровом, делавшим его похожим на дикого зверя. Он не понимал слов, которые ему кричали, и в ответ лишь скалился и рычал, пытаясь защитить свою скудную добычу. Его движения были резкими, порывистыми, а взгляд, острый и пугливый, метался по углам, выискивая путь к бегству. Но в отличие от гессенского мальчика, в его поведении, возможно, иногда проскальзывали смутные тени воспоминаний. Может быть, запах хлеба или звук колокола будили в глубинах его памяти давно забытые образы из прошлой, человеческой жизни.
Случай Джона из Льежа представляет собой сравнительно успешный пример реабилитации ферального ребенка. Его изоляция не была абсолютной с младенчества, а началась в осознанном возрасте пяти лет, что, вероятно, и предопределило возможность частичного возвращения к социальной жизни. Пять лет – это критический возраст, когда ребенок уже овладел основами языка, усвоил первичные социальные навыки и эмоционально привязался к семье. Этот фундамент, хотя и был сильно поврежден годами одичания, не был уничтожен полностью. Где-то глубоко внутри сохранилась память о тепле человеческого общения.
Согласно сохранившимся свидетельствам, мальчик бежал в леса, спасаясь от насилия религиозного конфликта. Прожив в одиночестве шестнадцать лет, он был захвачен местными жителями при попытке воровства пищи в 1621 году. Источники фиксируют следующие ключевые особенности его состояния на момент обнаружения: Физическое состояние: Тело было покрыто густыми волосами, кожа огрубела от постоянного воздействия стихий. Передвижение было преимущественно на четвереньках, хотя сохранялась способность к прямохождению. Коммуникативные навыки: Речь была полностью утрачена. Коммуникация ограничивалась нечленораздельными звуками, рычанием и мимикой, выражавшими базовые эмоции – страх, голод, агрессию. Сенсорные особенности: Наблюдалось аномальное развитие обоняния. Джон мог обнаруживать пищу на значительном расстоянии, что указывает на компенсаторную адаптацию сенсорных систем к условиям дикой природы. Данная способность атрофировалась после возвращения в социум. Поведенческие паттерны: Рацион состоял из сырой растительной пищи, отмечалось отсутствие навыков использования инструментов и приготовления еды. Поведение регулировалось базовыми инстинктами выживания.
После длительного периода адаптации ему удалось вновь овладеть речью, хотя и на примитивном уровне, и усвоить основные социальные нормы. Он научился одеваться, пользоваться простой утварью, возможно, даже посещал церковь. Его история стала живым доказательством того, что человеческая психика обладает определенным запасом прочности. Этот пример свидетельствует о том, что даже продолжительная изоляция в критический для развития период не всегда является полностью необратимым фактором, если у индивида сохранилась докризисная память о социальном опыте. Однако процесс реинтеграции остается крайне сложным и редко приводит к полному восстановлению утраченных функций. Джон, вероятно, навсегда остался человеком с ограниченными возможностями, «чудаком», но все же человеком, а не зверем. Его случай дает нам первую важную подсказку: возраст, в котором ребенок теряет связь с обществом, является решающим фактором для его возможного возвращения.
Питер из Хамельна: Дикарь при дворе.
Прошло почти четыре столетия. На смену мрачному Средневековью пришла эпоха Разума, Просвещения. Европа стремилась измерить, классифицировать и объяснить весь мир. И вот, в 1725 году, эпоха получила свой живой экспонат. В лесах близ немецкого города Хамельн был обнаружен мальчик, чья судьба стала символом столкновения «естественного» и «цивилизованного» состояния. Если в Средневековье в таком ребенке видели дьявола или чудо, то в XVIII веке в нем увидели объект для научных изысканий. Он стал живым воплощением спора между Джоном Локком, считавшим сознание «чистой доской» (tabula rasa), и идеями о врожденных идеях.
Летом 1725 года вблизи города Хамельн произошло событие, привлекшее внимание как широкой публики, так и научного сообщества. Местные жители, обследовавшие окрестные леса, обнаружили мальчика, чей внешний вид и поведение свидетельствовали о длительной изоляции от человеческого общества. По приблизительным оценкам, его возраст составлял 10–12 лет. Ребенок, получивший имя Питер, передвигался исключительно на четвереньках, демонстрируя поразительную ловкость, и не проявлял никакого понимания человеческой речи. На момент обнаружения поведенческий репертуар Питера был крайне ограничен и напоминал повадки дикого животного. Речь была полностью недоступна для понимания или воспроизведения. Прямохождение вызывало значительные трудности; естественным и эффективным способом передвижения оставалось передвижение на четвереньках. Отмечалось отвержение приготовленной пищи и явное предпочтение сырым продуктам растительного происхождения. Мальчик не реагировал на попытки коммуникации, проявляя страх или безразличие к окружающим его людям.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



