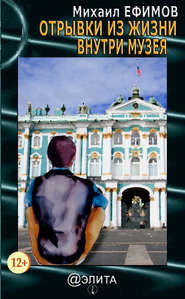
Полная версия:
Отрывки из жизни внутри музея (сборник)

Михаил Ефимов
Отрывки из жизни внутри музея (сборник)
© ЭИ «@элита» 2017
* * *«– Учитель, вот вы нас учите поступать именно так, а ведь сами живете по-другому!
– А я вас и не учу, чтобы вы жили, как я. Я вас учу жить так, как надо».
ОвидийПочему хозчасть назвали «обозом», я не знаю, но название получилось ёмкое и содержательное. К сожалению, я не застал того золотого времени расцвета хозяйственной части, когда там работали известнейшие в будущем люди или не совсем известные, но ставшие местными легендами. Хотя кое-что я всё-таки зацепил, и этого «кое-что» было достаточно, чтобы поменять моё мировоззрение.
Итак, помещение называлось «обозом», а люди – «обозниками». И эти «обозники» имели свои старые установившиеся традиции и даже ритуалы, а также являлись кузницей кадров для других отделов Эрмитажа. «Страна непризнанных гениев» – как-то провела параллель одна научная сотрудница. Неудивительно. Ведь только в этой «стране» можно увидеть монтажника с томиком Сартра в кармане рабочей куртки.
Научники
Лицо любого человека – это отражение его внутреннего мира и, как считают физиогномисты, показатель его жизненного пути, если, конечно, уметь это читать. Можно приблизительно увидеть даже профессию человека, его предназначение. И насколько счастлив тот, чьё предназначение совпадает с фактически выбранным местом работы, настолько же несчастлив другой, идущий не по своему пути. Я часто встречал бородатых археологов или философов с горящими глазами и крупными добродушными, но интеллигентными чертами лица; тонких аристократов-учёных, занимавших высокие посты, но простых и добрых в общении, не любящих пользоваться властью, а все силы тратящих на науку; рабочих с простыми, охочими до удовольствий лицами и усталым стальным взглядом, и я был рад за них: все были на своём месте. Так вот, по Эрмитажу бродят именно такие типажи, и в очень большом количестве. А те научные сотрудники, подходящие под первые два типа и имеющие счастье жить в гармонии с самим собой, и есть двигатели исторической науки и жизни музея.
Хотя среди научных сотрудников встречались люди разных формаций и, соответственно, разных взглядов на внутреннюю жизнь Эрмитажа. Одни вошли в эту элиту, пройдя долгий путь с самых низов, то есть будучи вначале рабочими в различных обслуживающих отделах и одновременно студентами вузов, они знали изнутри всю эрмитажную жизнь. Другие стали научниками сразу, то есть имели влиятельных родственников или знакомых в высшем эшелоне власти музея. Вот эти другие на самых первых порах своей работы в музее приносили свои понятия о месте каждого рабочего на социальной лестнице и вообще о том, как надо работать. Но такие понятия очень сильно отличались от действительных, так как Эрмитаж – необычное предприятие, и даже самый последний рабочий здесь может оказаться кандидатом наук, военным реконструктором, музыкантом, писателем или специалистом в каком-нибудь узком направлении истории. Почему Эрмитаж притягивает таких людей, понятно, хотя в этом есть и что-то мистическое, видимо, у музея такое поле, притягивающее людей творческого склада. Эти люди могли работать грузчиками, столярами, операторами, а в свободное время заниматься творчеством, причём вполне успешно, ну, или просто ждать место в каком-либо научном отделе.
Конечно, как и в каждом необычном учреждении, здесь были и те, кто совершенно не походил на добрых рафинированных интеллигентов, кои, по сути, и должны работать в Эрмитаже. В таких людях не было налёта того добродушного интеллигентного лоска, и за много лет работы они так и не становились «эрмитажниками». Для любой другой организации их стиль работы и жизни, то есть сначала начальник, а потом человек, очень даже подошёл бы. Но это Эрмитаж, и, насколько я знаю и вижу, здесь работают в первую очередь люди, кем бы они ни являлись. Вообще, чтобы принять эрмитажную формацию либо не принять и уволиться, как правило, требуется 5-10 лет. Но кто-то, проработав здесь намного дольше, так и остаётся в отдалении от всех прелестей эрмитажной семьи.
Андрей с Денисом как-то в выходной для Эрмитажа понедельник пошли вешать картины в нескольких залах. Картины небольшие, поэтому их и послали вдвоём. А хранителем этих картин как раз был назначен научный сотрудник из тех, о которых я говорил выше, то есть явно незнакомый с тем, какие люди у нас работают.
Работа кипела. Подняв одну из картин, Андрея заинтересовал её сюжет. Андрей, кроме увлечения путешествиями по древним местам монашества и написания статей об этом, закончил СПбГУ и учился в аспирантуре. Сюжет картины как раз был связан с темой его кандидатской.
– Извините, можно вас на минутку, – позвал Андрей научника. – Вы не могли бы поподробней рассказать об этом сюжете, мне очень интересно.
– Интересуйтесь своей непосредственной работой, – последовал неожиданный ответ сотрудника, смотрящего как будто сверху вниз на Андрея. – Вы кто, монтажник? Вот и вешайте картины. Какая вам разница, что там нарисовано, всё равно не поймёте.
Отвечать ни Андрей, ни Денис не стали. Аккуратно поставив картину обратно на пол, они развернулись на глазах у удивлённого научного сотрудника и ушли из зала. Может, это было и неправильно с точки зрения рабочего процесса, но среди эрмитажников отношения другие, а тут налицо оскорбление. В хозчасти Андрея с Денисом встретила Ольга Николаевна.
– Вы почему ушли с работы? – Понятно, научник уже нажаловался. Но нас голыми руками не возьмёшь.
– Да мы ему сказали, что уходим на перекур на десять минут, просто он не услышал, он вообще странный какой-то. – И это была святая ложь во имя справедливости. Конечно, после перекура пришлось идти обратно и довешивать, но какое-то удовлетворение этот жест принёс.
Но картинами эта эпопея не ограничилась. Совместная мысль оформителя и человека от науки решила усилить сюжеты живописные сюжетами скульптурными. Так как скульптуры были достаточно тяжёлыми, для снятия скульптуры с постамента хозчасть использовала гидравлический подъёмник. По этому поводу был объявлен всеобщий сбор людей – подъёмник-то тяжёлый, вдвоём, как каролину, не поднимешь. А после последней работы со скульптурами в Греческом зале он находился на первом этаже.
– Все на Советскую лестницу, – была громогласно объявлена команда.
И Андрей с Денисом, и все остальные, кого могли найти работающими поблизости, собрались внизу. Вначале была поднята платформа, то есть полностью выкачана наверх, чтобы распределить вес по всей длине подъёмника.
– Раз, два, три! – скомандовал Андреич, и всю конструкцию начали медленно заваливать на спину.
– Так, облепили все! – раздалась следующая, привычная в таких случаях команда. Человек десять встали по периметру, охнув, оторвали от земли и понесли. От тяжести у некоторых заплетались ноги, но жёсткий голос бригадира, как всегда, не давал расслабиться. Два лестничных пролёта были пройдены меньше чем за минуту. Как только идущие впереди и несущие нижнюю часть подъёмника ступили на последнюю ступеньку, колеса тут же были поставлены на лестничную площадку, а идущие сзади привели агрегат в вертикальное положение.
– Так, Денис с Андреем и ещё двое остаются на скульптуры, остальные в «обоз», – сказал бригадир и сам последовал примеру остальных.
Скульптуры следовало переместить из одного зала в другой, а на прежнее место привезти произведения искусства из кладовой, расположенной там же, на втором этаже, в Круглом зале. Дело привычное: как и картины, скульптуры перемещались из зала в зал, ездили выставляться в других музеях, а их место занимали другие произведения, привезённые из бездонных кладовых – свято место пусто не бывает.
Когда мы и подъёмник оказались в нужном месте, оказалось, что массивность данных произведений искусства не позволит забрать их целиком. Постаменты оказались тоже мраморными и весили килограммов сто. Вот если бы нам попались их собратья – стюковые постаменты, которые внешне мало чем отличались, но сделаны из стюка и, соответственно, мало весили, то проблем бы не было.
– Придётся везти отдельно, а это займёт времени в два раза больше, – молвил Денис с сожалением, больше обращаясь не к нам, а к научному сотруднику.
Тот всё понял и пошёл вызванивать реставраторов.
– Сейчас придёт реставратор, ребята, не волнуйтесь, – успокаивал научник. За последние полчаса он явно поменял своё мнение о нас.
Ждать долго не пришлось, через десять минут в пустом соседнем зале гулко зазвучали торопливые шаги. Это шёл реставратор, и был он во всеоружии: нёс молоток и инструмент наподобие стамески, только очень тонкой.
– Привет, – поздоровался он со всеми и улыбнулся. – Надеюсь, не долго ждали? Так, ну что тут у нас?
Работа заспорилась. Стамеска ставилась между постаментом и скульптурой, там, где они крепятся гипсом, молоток стучал по стамеске, которая продвигалась вглубь, и разъединяла две части композиции. Всё заняло минут пять.
– Не уходите, пожалуйста, – сказал научный сотрудник закончившему своё дело реставратору, – надо на новом месте пригипсовать всё обратно.
Теперь началась наша работа. Рога подъёмника, на которых лежала платформа, подняли с помощью педали на высоту вершины постамента. Выполняющий обязанности нажимателя на педаль остался сзади держать подъёмник, а остальные трое начали медленно передвигать тяжёлую скульптуру на край постамента, толкая поочерёдно то одну сторону, то другую. Сначала платформа находится чуть ниже уровня постамента. Но как только треть основания скульптуры оказывается на платформе, она поднимается чуть выше уровня, чтобы исключить нагрузку на край постамента, а то сломается, не дай бог. И вот, закончив эти нехитрые процедуры, скульптура оказалась полностью стоящей на подъёмнике, его опустили до уровня пола и повезли по залам. Постамент на подъёмник ставить не решились. Привезли каролину, с огромными усилиями наклонили мраморный параллелепипед и, подкатив под него рога, привели в вертикальное положение. Мерный гул от колёс сопровождал процессию. Сначала по залам ехал подъёмник, за ним – каролина. Довезя до места, были произведены операции с точностью до наоборот.
– Всё, пригипсовывайте, – сказал научник сопровождающему нас реставратору, – а мы, ребята, поедем за следующей скульптурой.
– Нет, нет, подождите, мне одному не справиться. Надо одновременно наклонять скульптуру и подкладывать под неё гипс! – взмолился реставратор.
Уже через три минуты мы шли за следующей партией «скульптура-постамент».
Лаборанты и «игра» картинами
Лаборанты были нашей творческой интеллигенцией. Выйдя из народа, то есть из «обоза», эти ребята обрели своё счастье за стенами научных отделов. Некоторых из них можно назвать аристократией – в современном понятии, конечно. Им не нужно строить из себя «высоких» людей и выдавливать высокопарность. А в чём это выражалось? Да во всём. В манерах, в строгости, в равнодушии к прикрасам в одежде и в разговорах. О разговорах надо сказать отдельно. Ум, интеллект и юмор стояли на высоком уровне. А ведь не часто бывает, что и ум и интеллект у человека развиты в одинаковой степени.
Мне часто приходилось наблюдать в Эрмитаже – храм культуры как-никак – людей, как правило научных сотрудников, с довольно высоким уровнем интеллекта. Ничего удивительного, по должности полагается иметь большой багаж знаний. Но когда разговор заходил за рамки багажа по истории, литературе, искусству, и выходил на уровень более жизненных и философских проблем, некоторые научные сотрудники тут же опускались на уровень обычного среднестатистического человека с таким же простым юмором. То есть, не в обиду будет сказано, ум, как способность к размышлению и видению, был у них не на такой высокой ступени, как интеллект.
Мои же знакомые лаборанты владели и тем и другим в совершенстве. В любом, даже мелком жизненном вопросе, они показывали себя такими же умными людьми, как и в глобальных, и в профильных сферах. Общаться с ними было приятно и поучительно, их мир был цветастый, мягкий и имел превосходный вкус. В жизни всегда надо за кем-то тянуться, чтобы не остаться на одном уровне развития до конца своих дней. Я тянулся за этими людьми, часто слушал их разговоры между собой и анализировал, иногда стараясь «примерить их маску», вникнуть в их мир. Для чего? А чтобы если в какой-то ситуации мой обычный уровень общения окажется неприемлемым, я всегда мог сыграть поведением и стилем разговора. Честно говоря, я хотел бы вообще стать таким, как некоторые из них, но мне тогда не хватало ума и в ещё большей степени интеллекта.
Хотя, что говорить, меня с такими людьми тоже много чего связывало. Например, абсолютная самодостаточность. Объясню на отвлечённом примере. Если считать, что тоталитарность любого государства действует угнетающе на большинство своих граждан, то выход один: самому являться для себя целым миром, то есть иметь этот мир в себе. Тогда наружные раздражители не смогут сильно повлиять на тебя, а ты сможешь смотреть на всё со стороны, как будто изолирован от воздействия. Причём смотреть с иронией и смехом. Как раз это с успехом и получается у таких людей, как они, и у меня вроде тоже, хотя и по другим причинам.
Разговоры о политике и истории были частой темой, но я не в состоянии привести примеры разговоров наших корифеев этих наук, так как сам в них слаб. Но работать с лаборантами всегда было весело, и чаще всего мы встречались за развеской картин на втором и третьем этажах.
Картины, висящие на третьем этаже, в большинстве своём были небольшими и, соответственно, лёгкими, в противоположность своим величественным старшим и мудрым братьям, живущим на втором этаже. Их лёгкость обеспечивалась в основном за счёт рам, выполненных не в виде массивного резного произведения искусства, а из тонкого лёгкого багета, который сам по себе не служил раритетом. Эти картины являлись яркими представителями современного искусства импрессионистов и экспрессионистов и пользовались особым успехом у западной богемной публики, да и нашей, особо просветлённой в этих вопросах.
Когда мы пришли в зал, там уже печально трудились лаборанты и прохаживался «глаз-алмаз» научный сотрудник. Картины только что прибыли из заграничного турне по известным музеям и спешили занять своё место на стенах родного дома. А пока они сиротливо стояли, облокотившись на стены, и научный сотрудник, с помощью лаборантов и нас пытался подобрать для них идеальное место, с его точки зрения.
– Эту картину туда, те две – на левую стену. Поменяйте местами две самые правые и две самые левые… – деловито командовал научный сотрудник, он же хранитель этих картин.
«Обозники» с лаборантами не спеша мелькали перед его глазами.
– Так, стоп, – сказал он, когда вроде всё было расставлено.
Все замерли, понимая, что сейчас будет. Научник метался в творческом поиске идеальных форм, пытаясь уловить и сопоставить только ему понятные нюансы, в каком порядке должны висеть картины.
– Что-то мне не нравится. Давайте-ка поиграем. Все картины с этой стены заменим на картины с той, только ставьте их в другом порядке, я скажу в каком.
Что такое игра с картинами, знает каждый опытный «обозник», ничего для него хорошего она не несёт. И опять все бегают, а научный сотрудник показывает, куда. Через пять минут всё останавливается, работы расставлены по-новому, все замирают в надежде. Сотрудник смотрит и произносит фразу, которую все боялись, но ожидали:
– Нет, так ещё хуже, давайте обратно.
Скрежеща зубами, начинаем ставить, как было. Обиды никакой, все понимают процесс, просто люди морально устали.
Минут через пятнадцать научник, довольный собой, произнёс: «Всё, можно вешать».
Развеска зала занимает минут двадцать, а впереди ещё четыре таких, люди торопятся. Средний уровень расположения картины на стене известен, он стандартный и рассчитан на посетителя среднего роста. А уже от него считаем для каждой картины расстояние от пола до низа рамы – если приноровиться, то несколько секунд. Одна команда вешает картины на левую стену с собранной вышки, другая, с лестницы – на правую. Тросов нам в этот раз не дали, поэтому вешаем на верёвки. Вверху, как правило, тот, кто хорошо умеет завязывать специальные скользящие узлы, чтобы в любой момент можно подрегулировать высоту картины. Молча хозчасть работать не умеет, поэтому весь процесс сопровождается язвительными шутками, спорами и громким смехом.
Близится время обеда, работа становится всё интенсивнее: надо повесить до обеда хотя бы в одном зале. И вот наконец всё повешено.
– Всё, проверяйте работу, – сказал усталый «обозник», надеясь на чудо и, как следствие, обед пораньше.
Секунд тридцать понадобилось научному сотруднику, чтобы охватить взором весь зал. Он поморщился и глаголил:
– Ребята, извините, но надо всё перевесить. Меняем эту стенку на ту. Мне кажется, что так всё-таки лучше будет, теперь это хорошо видно.
Зубовный скрежет лился из наших глаз. Тишину заполнил напряжённый звон злости.
– Зараза, – шипел «обоз», – теперь точно обеда не будет.
Уже уныло и не спеша принялись срезать верёвки и переносить картины. Азарт как рукой сняло.
– Ребята, ну ладно, давайте «повесим» одну стену и в соседнем зале повесим «Танец», и на этом до обеда всё, – сжалился научник.
Стимул был снова найден, работа закипела, стену оформили за десять минут. Потом перешли в другой зал. «Танец» был очень тяжёлой картиной, поэтому на неё требовались все. Верёвку сделали в четыре слоя, но вес картины и острые кольца, которыми оснащена рама, вызывали опасения. Всё же картина была повешена, и все рванули на обед.
Под конец обеда прибежала Валентина с горящими от ужаса глазами.
– Ребята, там «Танец» упал, такой грохот был, все сбежались.
Придя на место, мы нашли картину одним концом стоящую на полу, хотя другой ещё мужественно держался. Это перетёрлись все четыре слоя верёвки об острое кольцо. Так пробным методом было найдено, что на верёвки «Танец» вешать нельзя. Естественно, тут же нашлись толстые тросы, на которые мы и водрузили картину, после чего перешли опять к многострадальным залам, постоянно путающим образное мышление нашего научника.
Но на этот раз в других залах обошлось без особых перевешиваний и игры «стенка на стенку». Под самый конец, по договорённости с научным сотрудником, мы оставили обречённых лаборантов довешивать самые лёгкие картины, а сами ушли. Рабочий день у нас и у лаборантов не совпадал. Мы приходили и, соответственно, уходили раньше. Научная же элита имела больше времени для сладкого сна, зато и рабочий день отбывала до конца. А довешивать картины в остальных залах нам, конечно, пришлось, но то уже был следующий день.
Наши катакомбы
Под Эрмитажем по всему периметру тянется бесконечная вереница подвалов. Каждый из подвалов представляет собой длинные коридоры, освещаемые сверху редкими лампами. Когда идёшь по нему, кажется, что вот сейчас дойдёшь до конца пятидесятиметрового коридора – и будет выход или тупик, в крайнем случае. Но не тут-то было: взгляду открывается новый коридор справа или слева, и точно такой же длины – настоящие катакомбы. В принципе, они таковыми и являлись. Ведь во время Великой Отечественной в них прятались от бомбёжек и вообще жили сотрудники Эрмитажа, некоторые с семьями. Питались столярным клеем, коего в запасниках нашлось предостаточно, ведь он состоял из картофельного крахмала. Так весь и съели за время войны. Зато выжили.
По рассказам эрмитажных старожилов, на этих стенах когда-то рисовал своих кошек Михаил Шемякин. Возможно, если соскрести покраску или побелку, взгляду откроются фрески, которые могли бы стать шедеврами.
По бокам бесконечных коридоров были двери или небольшие тупиковые углубления. За дверями располагалось по несколько комнат. И хоть на первый взгляд подвалы казались пустыми и страшными, в них тоже кто-то жил. А жили в этих комнатах реставраторы камня, мрамора и различных металлических изделий. В таких суровых подвальных условиях могут выжить только такие же суровые мужики. Именно таковыми мужики и являлись. Они редко выходили на улицу или просто наверх из своей темницы. А постоянная сырость и мрачный давящий каменный мешок вырабатывали склонность мужиков к алкоголю, что неудивительно. Иначе можно заработать депрессию и хроническую простуду. Небольшие дозы водки убивали микробы и лечили душу, делая жутко унылое помещение чуть светлей.
Мы в подвалах бывали нечасто, но это был как раз такой день. Наша задача была вытащить тяжеленные отреставрированные камни с надписями на древних языках и весившие сотню-две килограммов, поднять по нескольким ступенькам и поставить на погрузчик. Всё действо производилось с криками и руганью, в общем, как всегда, весело. Камни грузились на салазки, которые, в свою очередь, тащились волоком по каменному полу, затем по постеленным поверх лестницы мосткам и наконец по улице до погрузчика.
– Три, шестнадцать! – орал Дима, и все с криком, а может, стоном «Ха!» передвигали камень на несколько сантиметров. Настоящие «бурлаки на Волге».
Два самых больших каменюки мы уже осилили, бригадир объявил пятиминутный перекур. И только разогнув натруженные спины, услышали знакомое шарканье.
– О, Вадик идёт, – раздался чей-то смех. Вадика сложно не узнать даже издали. Такую уж оригинальную походку он получил свыше… ну, или тяжёлая жизнь в процессе преподнесла, что вероятнее. Он шёл, вынеся туловище вперёд, как бы нависая над землёй головой и телом, но нависая не грозно, а как-то обречённо, но с юмором, не жалостливо. Получалось, что голова стремилась вперёд, чуть за ней поспевало туловище, а ноги волочились сзади, издавая шаркающие звуки. Видимо, на них и висел весь груз бытия. Характер Вадика был под стать: снаружи весёлый и остроумный, внутри нервный и напряжённый, что доказывала привычка нервно грызть ногти.
– Ты чего, только пришёл на работу? – заорал Андреич. – Мы уже половину сделали… припёрся он. Иди, откуда пришёл, мы не нуждаемся в твоей помощи.
Ситуация знакомая: чтобы избежать дальнейших вспышек ярости, надо промолчать, потупить взор и затеряться где-нибудь среди ребят, дабы не раздражать взор бригадира. Это Вадик и сделал. Салазки с очередным камнем мы толкали уже вместе с ним.
После погрузчика камни должны попасть в стоящую рядом фуру, которая повезёт их в фондохранилище. Поэтому камень, после того как его вытаскивали на поверхность из подвала, ставился на каролину. Каролина завозилась на ковш погрузчика, поднималась, а четыре человека принимали эту конструкцию в машине. Там полегче: всего-то провести камень в самый конец длинного кузова и опустить. Так как наша четвёрка хорошо справилась с такой работой, она же и поехала разгружать камни в Старую Деревню. Разгрузка в фондохранилище не требовала таких физических подвигов, как погрузка. Полы там ровные, а также имелся грузовой лифт. Такой лифт мог бы находиться и в здании Эрмитажа в каком-нибудь из внутренних дворов, во всяком случае, так во многих музеях мира, но по досадной причине у нас он отсутствовал. А причина такова: невозможно внести изменения в архитектуру старинного здания, являющегося само по себе экспонатом, даже если это действо желаемое и нужное.
К обеду мы вернулись в Эрмитаж. А ровно в час, с подачи Ольги Николаевны опять оказались в родных катакомбах. Правда, на этот раз по другому делу.
– Мальчики, все идём за бойлерную, будем расчищать подвал.
Насколько я помню, так было заведено всегда, когда не имелось срочных работ в самом музее. Бойлерная являлась диким местом, где до сих пор витал дух социализма. Нагромождение когда-то нужных вещей, а сейчас ставших раритетами, вызывало интерес и благоговение. Тут находились портреты и скульптуры дедушки Ленина, флаги, доски почёта, и старые, видавшие виды советские вешалки. Когда сюда заходили люди, а это случалось очень редко, казалось, что со щелчком тумблера, включающего свет, и скрежетанием ключа в старом амбарном замке, висящем на покорёженной железной двери, из старого сырого помещения исчезают призраки былых лет и совсем другой жизни Эрмитажа. Причём исчезали они недовольно, и как только дверь за последним человеком закрывалась, и тушился свет, призраки тут же возвращались в принадлежащее только им логово. «Тут бегают дикие бойлеры», – шутили мы.
И вот когда вслед за нами сюда вошла и Ольга Николаевна, и от её громогласных команд в помещении стало людно и совсем не страшно, работа закипела.
– Ребята, вы видите эту кучу?
В самом углу подвала лежали друг на друге деревянные ящики.
– Их надо перебрать, то, что уже негодно к использованию, выкинуть, а остальное аккуратно сложить в другой угол.
Первая пара ящиков порадовала своим целым и крепким видом, но, подняв третий, нижний, на пол посыпались прозрачные пластмассовые коробочки, перемешанные с трухой.



