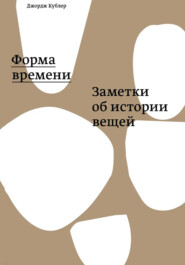скачать книгу бесплатно
Но есть и такие сложные сообщения, которые, вероятно, основываются на первичных сигналах особого рода, не вполне доступных для нашего понимания, так как они исходят от больших длительностей и крупных единиц географии и населения. Это сложные, неясно воспринимаемые сигналы, мало связанные с историческим повествованием. К их регистрации приближаются лишь новые статистические методы вроде тех, которые предложила в лексикостатистической области глоттохронология, наука о темпах изменения языков (см. ниже).
Основные и сопутствующие сигналы
Вплоть до настоящего момента наши заметки касались главным образом одного класса исторических сигналов. Но есть и другой, объединяющий более четкие сообщения, которые – в их число входят письменные источники – присоединяются к основному сигналу, будучи заметно отличными от него, не столько самостоятельными, сколько сопутствующими. Основной сигнал можно представить как немое экзистенциальное заявление вещи. Так, молоток на верстаке заявляет о том, что рукоятка позволяет взять его в руку, а боек готов стать продолжением той же руки, если она решит вогнать гвоздь между волокнами доски, чтобы сделать крепкий и долговечный стул. Сопутствующий сигнал, вытисненный на молотке в виде клейма, говорит лишь о том, что его дизайн защищен торговой маркой и адресом изготовителя.
Произведение живописи тоже подает основной сигнал. Его цвета и их распределение на плоскости заключенного в раму холста сигнализируют о том, что, приняв некоторые оптические условия, зритель сможет одновременно насладиться восприятием реальных поверхностей и иллюзий глубокого пространства, занятого твердыми телами. Эти взаимоотношения реальной поверхности и иллюзорной глубины кажутся неистощимыми. Часть основного сигнала картины состоит в том, что за тысячелетия своей истории живопись не исчерпала возможностей такой простой, на первый взгляд, модели ощущения. Между тем в мощном потоке сигналов, подаваемых картиной, этому основному сигналу придается меньше всего значения и часто вообще не уделяется внимания.
При восприятии живописи, архитектуры, скульптуры и всех связанных с ними искусств сопутствующие сигналы притягивают к себе почти всё внимание индивида в ущерб сигналам самостоятельным. Например, если в картине темные фигуры первого плана напоминают людей и животных, свет изображен так, будто исходит от тела младенца в непритязательном хлеву, нарративом, объединяющим все эти формы, является, скорее всего, история Рождества в изложении святого Луки, а нарисованный кусочек бумаги в углу картины сообщает нам имя художника и дату работы, то всё это – сопутствующие сигналы, складывающиеся в замысловатое послание скорее в символическом, чем в экзистенциальном измерении. Конечно, сопутствующие сигналы играют существенную роль в нашем исследовании, но их отношения друг с другом и с основными сигналами составляют лишь часть игры, схемы или проблемы, с которой имел дело художник и решением которой в актуальном опыте выступает картина.
Экзистенциальное послание произведения искусства, его заявление о бытии, не может быть извлечено из одних сопутствующих или из одних основных сигналов. Основные сигналы в отдельности подтверждают только существование; сопутствующие сигналы в отдельности подтверждают только наличие значения. И насколько значение без существования – пустая банальность, настолько же существование без значения – кошмар.
Недавние направления в художественной практике, например абстрактный экспрессионизм, делают упор только на основные сигналы; и наоборот, недавние тенденции в истории искусства, например иконографические исследования, делают упор только на сигналы сопутствующие. Результатом становится взаимное непонимание историков и художников: неподготовленный историк видит в прогрессивной современной живописи ужасающую и бессмысленную авантюру; художник, в свою очередь, видит в искусствознании лишенный значения ритуал. Подобные разногласия так же стары, как сами искусство и история. Они воспроизводятся в каждом поколении: художник ждет от ученого одобрения своего творчества историей еще до того, как сложится ее паттерн, а ученый путает свою позицию наблюдателя и историка с позицией критика, высказываясь о современных вещах, тогда как его навыки восприятия и инструментарий подходят для этого куда хуже, чем для изучения конфигураций прошлого, уже вышедших из состояния активного изменения. Разумеется, некоторые историки обладают чуткостью и точностью, достойными лучших критиков, но их число невелико и они проявляют эти качества не как историки, а именно как критики.
Для современного произведения лучшим критиком будет другой художник, занятый в той же игре. При этом между двумя художниками, решающими разные проблемы, риск недоразумения велик, как ни в каком другом случае. Лишь спустя продолжительное время, когда их игры будут полностью завершены и доступны для сравнения, наблюдатель сможет «свести их счеты».
Орудия и инструменты распознаются по практическому характеру их основного сигнала. Обычно это одиночный, а не множественный сигнал, говорящий, что определенное действие должно быть выполнено указанным образом. Произведения искусства отличаются от инструментов и орудий обилием и разнообразием сопутствующих сигналов. Они не взывают к прямому действию и не ограничивают узкими рамками область своего использования. Они подобны вратам, через которые человек может войти в пространство художника или во время поэта, чтобы оценить с той или иной стороны всесторонне преобразованную ими область. Но этому человеку стоит подготовиться: с пустой головой и неразвитой чуткостью он не увидит ничего. Поэтому сопутствующее значение относится преимущественно к сфере конвенций разделяемого опыта, перестройка и обогащение которого в известных пределах и есть привилегия художника.
Иконографические исследования
Иконография изучает формы, принимаемые сопутствующим значением на трех уровнях, в соответствии с которыми оно может быть естественным, условным или внутренним. Естественное значение касается первичной идентификации вещей и персон. Условное значение возникает в том случае, если изображенные действия или аллегории могут быть объяснены ссылкой на литературные источники. Внутренние значения требуют толкования культурных символов и составляют предмет дисциплины, называемой иконологией[16 - См.: Панофский Э. Этюды по иконологии [1938] / пер. Н. Лебедевой, Н. Осминской. СПб.: Азбука-классика, 2009.]. Иконология – это разновидность культурной истории, изучающая произведения искусства с целью извлечения из них выводов о культуре. В силу своей зависимости от длительных литературных традиций иконология вплоть до недавнего времени ограничивалась изучением греко-римской традиции и того, что от нее осталось. Ее главное содержание – преемственность тем: разрывы и сломы традиции, как и все прочие выражения цивилизации, не подкрепленные обильной письменной документацией, лежат вне интересов иконологов.
Конфигурационный анализ
Схожими вопросами значения, особенно в плане отношений между поэзией и изобразительным искусством, задавались и некоторые археологи-классики. Покойные Гвидо фон Кашниц-Вайнберг и Фридрих Матц[17 - Matz F. Geschichte der griechischen Kunst. 2 Bd. Frankfurt, 1950. Введение представляет собой изложение Strukturforschung, что можно приблизительно перевести как «исследование отношений между формой и фоном».] были главными представителями этой группы, прилагающей к изучению значений метод Strukturanalyse, или конфигурационного анализа, призванный установить предпосылки, которые определяют литературу и искусство одного поколения на одной территории – например, гомеровскую поэзию и современную ей геометрическую вазопись VIII века до нашей эры. Таким образом, Strukturforschung[18 - Нем. букв. структурное исследование, то же, что и Strukturanalyse.] исходит из того, что поэты и художники одного места и времени являются носителями общего базового паттерна чувствительности, от которого расходятся, подобно лучам выражения, все их творческие усилия. Тут археологи совпадают с иконологами, для которых литература и искусство более или менее взаимозаменяемы. Археологов, правда, сильнее смущают несовпадения живописи и поэзии: соотнесение гомеровского эпоса и дипилонских ваз кажется им проблематичным. Сходным образом оказываются озадачены исследователи модернистского искусства, в котором литература и живопись резко расходятся по содержанию и технике. В современной литературе приветствуются и сосуществуют эрудиция и порнография, которые, напротив, практически изгнаны из живописи, где главной задачей нашего столетия стал поиск неизобразительной формы.
Это затруднение может быть преодолено путем модификации постулата о базовом паттерне чувствительности, присущем поэтам и художникам одного места и времени. Нет необходимости отказываться от идеи базового паттерна вообще, ведь, например, поэтам и художникам Европы XVII века было в равной степени свойственно стремление к ученой выразительности. Достаточно смягчить концепцию доминирующей конфигурации (Gestalt) концепцией формальной последовательности, изложенной ниже. Формальные последовательности допускают, что независимые системы выражения могут сблизиться. Их сохранение и сближение отвечают некой общей задаче, определяющей силовое поле. С этой точки зрения полное поперечное сечение конкретного момента в конкретном месте напоминает скорее мозаику из фрагментов разного возраста, стоящих на разных ступенях развития, чем некую лучевую систему, передающую всем фрагментам свое значение.
Таксономия значения
Сопутствующие значения категориально различаются в зависимости от облекаемых ими сущностей. Сообщения, передаваемые майсенским фарфором, совсем не таковы, как те, что несет в себе крупная бронзовая скульптура. Сообщения архитектуры не похожи на сообщения живописи. Разговор об иконографии или иконологии напрямую упирается в вопросы таксономии, подобные тем, что возникают при различении между мехом, оперением, шерстью и чешуей в биологических рядах: всё это виды наружного покрова, но они отличаются друг от друга по функции, структуре и составу. Преобразование значений происходит путем простого переноса, который ошибочно принимают за изменения в содержании.
Другая трудность, возникающая при попытке рассматривать иконографию как гомогенную и единообразную сущность, – это наличие больших исторических групп в теле сопутствующего значения. Эти группы скрепляются скорее ментальными обычаями отдельных периодов, чем тяготением к архитектуре, скульптуре или живописи. Наши исторические различения всё еще слишком неточны, чтобы документировать ментальные изменения от поколения к поколению, но очертания больших, мощных сдвигов бросаются в глаза, как, например, в случае трансформации иконографической системы западной цивилизации около 1400 года.
В Средние века или в Античности всякий опыт обретал свои визуальные формы внутри единой метафорической системы. В Античности представление о текущем ходе событий заворачивалось в оболочку gesta deorum[19 - Деяния богов (лат.).]. Греки предпочитали обсуждать происходящее в их время с помощью мифологических метафор вроде подвигов Геракла или с помощью языка эпических ситуаций из гомеровской поэзии. Римские императоры заимствовали биографические архетипы у богов, принимая их имена, атрибуты и культы. В Средние века ту же самую функцию выполняли жития святых: так, региональные истории Реймса или Амьена обретали выражение в статуях местных святых в проемах соборов. Варианты основных мотивов Священного Писания тоже служили проводниками местных преданий и чувствований. Это стремление привести весь опыт к единой схеме, выстроенной вокруг нескольких главных тем, сродни дымовой трубе: собираясь в один мощный поток, опыт сводится к немногим темам и паттернам, но набирает силу значения.
Около 1400 года под влиянием или, вернее, при поддержке множества технических открытия в области картинного представления оптического пространства возникла другая схема выражения опыта. Эта новая схема напоминала уже не дымовую трубу, а, скорее, рог изобилия. Из нее вырвалось невероятное разнообразие новых типов и тем, на фоне прежнего изобразительного строя куда более близких к повседневному чувствованию. Пробудившаяся вновь классическая традиция была лишь одним из течений в охватившем весь опыт потоке новых форм. В XV веке этот поток достиг порога наводнения и только нарастал в дальнейшем.
Возможно, возрождение Античности привлекло к себе внимание историков главным образом потому, что классика в конце концов была вытеснена и перестала быть живой рекой традиции: теперь мы уже не внутри нее, а вовне[20 - Эрвин Панофский в книге Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада (1960) подробно говорит о завершении Нового времени в нашем столетии. Рус. пер.: Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада / пер. А. Габричевского. М.: Искусств о, 1998.]. Она больше не несет нас подобно течению: она видна нам с расстояния и в перспективе лишь как часть, пусть и значительная часть, исторического ландшафта. Напротив, главные течения нашего времени для нас неуловимы: мы слишком погружены в вихри текущего хода событий, чтобы суметь очертить их потоки и объем. Перед нами предстают как внешние, так и внутренние поверхности истории (см. ниже), и только внешние поверхности завершенного прошлого доступны историческому познанию.
II
Классификация вещей
Лишь немногие историки искусства пытались выявить надежные способы обобщения в огромной области художественного опыта. Характеризуя типы организации, которые мы наблюдаем во всех произведениях искусства, они стремились установить принципы для архитектуры, скульптуры и живописи на промежуточной территории, частично вдающейся в сами объекты, частично – в наш опыт.
Одна из стратегий потребовала расширения границ исторического события. В начале века в этом направлении пошли Франц Викхофф и Алоиз Ригль. Они отказались от старых морализаторских суждений о «вырождении», выносившихся в адрес позднеримского искусства, в пользу гипотезы смены одной системы или организации другой, новой и не менее ценной. В терминах Ригля это означало, что одна «воля-к-форме» уступила путь другой[21 - Riegl A. Die Sp?tr?mische Kunstindustrie. 2 Bd. Wien, 1901–1923.]. Подобная разметка истории с помощью структурных линий, пересекаемых границами типов формальной организации, была одобрена почти всеми искусствоведами и археологами XX века.
Эти идеи резко расходятся с концепцией необходимой последовательности, впервые выдвинутой швейцарским историком искусства Генрихом Вёльфлином, чью работу Бенедетто Кроче классифицировал как «теорию чистой зримости»[22 - Согласно Кроче, этот термин возник в беседе между Хансом фон Маре, Конрадом Фидлером и Адольфом фон Гильдебрандом в Мюнхене, приблизительно в 1875 году (см.: Croce B. La teoria dell'arte come pura visibilit? // Nuovi saggi di estetica. [Bari, 1926]. P. 233–258). Самая известная работа Вёльфлина – Основные понятия истории искусств – вышла в Мюнхене в 1915 году (рус. пер.: Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / пер. А. Франковского. М.; Л.: Academia, 1930).]. Сопоставляя итальянское искусство XV и XVII веков, Вёльфлин ввел пять оппозиций, характеризующих реализацию формы (линейность – живописность, плоскость – глубина, замкнутость – открытость, множественность – единство, ясность – неясность), и внятно описал с их помощью некоторые фундаментальные различия в морфологии двух периодов. Другие авторы вскоре распространили эту концепцию на греко-римское и средневековое искусство, разделив каждое из них на три этапа: архаический, классический и барочный. Примерно в 1930 году между классикой и барокко был очерчен четвертый этап – маньеризм (XVI век). Отдельные авторы предлагали возвести в ранг отдельных этапов жизненного цикла рококо и неоклассицизм. Вёльфлиновы категории оказали значительное влияние на исторические исследования в области музыки и литературы, но так и не получили безоговорочного признания среди самих историков искусства.
Искусствоведы с архивным складом ума нашли, как и следовало ожидать, новые документы, более убедительные, чем высказанные Вёльфлином в его Основных понятиях суждения о стилях, а строгие историки, наоборот, осудили Вёльфлина за то, что он пренебрег индивидуальными качествами вещей и художников, пытаясь обобщить наблюдения над их классами. Самым дерзким и поэтичным утверждением биологической концепции истории искусства стала Жизнь форм (1934) Анри Фосийона. Разумеется, биологическая метафора была лишь одним из множества дидактических инструментов, которыми пользовался этот блистательный педагог, не упускавший ни одной возможности вызвать интерес в умах своих слушателей. Одни критики, не разобравшись в предмете, ошибочно видели в редкой изобретательности его интеллекта риторическое бахвальство, другие, более вдумчивые, – считали его еще одним формалистом.
Формы времени – вот предмет нашего поиска. Время истории слишком неоднородное и плотное, чтобы его можно было представить как равномерно структурированную длительность вроде той, какую физики видят во времени природы; оно больше похоже на море, по которому рассеяны бесчисленные формы конечного числа типов. Тут нужна особо ячеистая сеть, отличная от всех, используемых в настоящее время. Понятие стиля имеет не больше ячеек, чем упаковочная бумага или коробки для хранения. Биография режет и кромсает замороженную историческую субстанцию. Традиционная история архитектуры, скульптуры, живописи и родственных им искусств упускает как мельчайшие, так и самые основные детали художественной деятельности. Монография об отдельном произведении искусства напоминает фасонный камень, готовый к установке в стену, построенную, однако, без цели и плана.
Формальные последовательности
Любое значительное произведение искусства можно рассматривать и как историческое событие, и как выстраданное решение той или иной проблемы. В данный момент совершенно неважно, было это событие оригинальным или обычным, случайным или намеренным, неловким или искусным. Важно, что любое решение указывает на существование проблемы, которую решали и по-другому, и что вслед за ним для этой же проблемы будут, скорее всего, найдены новые решения. По мере накопления решений проблема меняется, и в то же время цепочка решений очерчивает проблему всё точнее.
Связанные решения
Проблему, выявляемую любой последовательностью артефактов, можно рассматривать как ментальную форму этой последовательности, а связанные друг с другом решения – как класс ее бытия. Соединение проблемы и ее решений образует форм-класс. Исторически только такие решения, которые связаны друг с другом узами традиций и влияния, складываются в последовательность.
Связанные решения располагаются во времени самыми разными способами, о которых пойдет речь в оставшейся части этой книги. Они очерчивают конечную, но еще неизведанную область ментальных форм. Большинство таких областей еще открыты для дальнейшей разработки с помощью новых решений, но некоторые области представляют собой закрытые, завершенные ряды, ставшие достоянием прошлого.
В математике ряд – это определимая сумма множества членов, а последовательность – это любое упорядоченное множество величин, например положительных целых чисел[23 - Mathematics Dictionary / ed. G. James and R.C. James. Princeton, 1959. P. 349–350. Профессор Йельского университета Ойстин Оре, которому я показал эту главу после того, как он поведал мне о своей работе над теорией графов, написал следующий отзыв:«При попытке дать систематическое изложение столь сложного предмета может возникнуть искушение, как и в естественных науках, обратиться к математикам за образцом, который послужит в качестве дескриптивного принципа. На ум приходят математические понятия рядов и последовательностей, но по некотором размышлении они представляются слишком специфическими для данной проблемы. Куда более подходящей здесь кажется не столь известная область сетей, или ориентированных графов.Нас интересует разнообразие стадий в истории творчества людей. В процессе развития происходит переход с одной стадии на другую. На выбор предлагается множество направлений. Некоторые из них отражают реальные события. Другие являются единственно возможными шагами из множества доступных. Аналогичным образом и каждая стадия может состоять из нескольких возможных шагов, ведущих к одному и тому же результату.Это можно представить в общем виде с помощью математической концепции ориентированного графа, или сети. Такой граф состоит из нескольких точек, вершин или стадий. Некоторые из них соединены направленной линией, ребром или шагом. Таким образом, на каждой стадии существует ряд альтернативных ребер, по которым можно следовать, а также несколько входящих ребер, которые могут вывести на эту стадию. Фактическое развитие соответствует одной (ориентированной) цепи в графе и является единственным из множества возможных.Можно задаться вопросом, составляют ли графы, подходящие для нашей цели, особый тип во множестве графов, которые могут быть построены. Кажется, у них есть одно существенное ограничение: нужные нам графы должны быть ацикличными. Это значит, что не существует циклически ориентированной цепи, возвращающейся к своей исходной стадии, что, по сути, соответствует замечанию, согласно которому прогресс человечества никогда не возвращается в прежнее состояние».]. Ряд, таким образом, предполагает замкнутую группу, а последовательность – открытый, расширяющийся класс. Это математическое различение в данной дискуссии стоит сохранить.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: