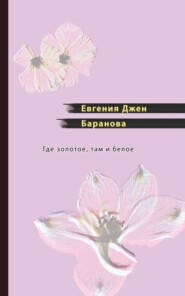скачать книгу бесплатно
словно курица
бьёт соседку
клювом
по голове.
«Мы внуки выживших детей…»
Мы внуки выживших детей.
Мелкоморщинистые дни
глядят из кожи веселей,
как будто вечные они.
Как будто шалость удалась,
оставлен в Избранном физрук.
Нас тренирует божий глаз,
мы реагируем на звук.
Мы начинаемся как пыль
и завершаемся на ней.
Мелкоморщинистый текстиль
незаживающих людей.
«Много говорили, мало спали…»
Много говорили, мало спали,
разливали в чашки кипяток.
В серебристом холоде эмали
растворяли огненный восток.
В комнату входили, как в молитву,
дни перебирали, как пасьянс.
Мягко разжимали челюсть лифта,
ссорились, слонялись по друзьям.
В сущности, история простая.
Дрожь в ресницах, вынужденный смех.
Видишь, недотыкомка летает,
пьёт из лампы, словно человек.
В метро
О подозрительных предметах
не говорите машинисту.
А вдруг там облако в кальсонах,
креветка, утица, фонарь.
А вдруг там Панночка, а вдруг там…
Хотя чём я? Только чистый
испуг, отмеченный приливом,
застывший в бабочке янтарь.
О подозрительных контактах
не сообщает микросхема.
Под нашим куполом несложно
любых во всём подозревать.
Состав скрипит, состав получен
от Одиссеевой триремы,
он скручен мышцей икроножной
и обречён не успевать.
О, сколько зрителей ненужных
закрыто в банке из-под джема!
Стеклянный видится зверинец
в краю седых пуховиков.
Как подозрительные лица,
глядят на рельсы хризантемы.
И я стою внутри вагона,
как подозрительный Иов.
«Жизнь – возможность тратить время…»
«Жизнь – возможность тратить время», —
говорил мой друг-певец.
У меня внутри деревня
из несбывшихся сердец.
Там, где музыка гремела,
где клубился Амстердам,
остаётся только тело,
то, что пляшет неумело
по стихам.
То, что пляшет водомеркой
и скулит – о ком? о ком?
Нарезает зелень мелко,
заправляет чесноком,
выбирает соус (лучший
из предложенных) в салат.
Жизнь – возможность тратить душу
на ненужные дела.
Переезд
Жизнь уместилась в 14–20 коробок.
(Грузчики выпьют, но только когда привезут.)
Так комсомолки цветастых боятся колготок,
так остывает души пережжённый мазут.
Лампа (сгорела?), фонарик (поломан? потерян?).
Тени как зебу, к луне холодильник прибит.
Под одеялом уснули стеклянные двери.
Зеркалу странно, когда отраженье болит.
Сон непрерывен,
смотри, как сугробы накрыло.
Им хорошо,
их снежинки влюблённые ждут.
Снится сугробам, что в ямах межзвёздного ила
люди плывут – и коробки за ними плывут.
«Человек за розовым выходит…»
Человек за розовым выходит,
человеку странно одному.
У него кристальная решётка
прохудилась, атомы звенят.
Он идёт (за лесом через поле),
он идёт (проспать бы/продержаться),
смотрят на него глаза подвалов,
пластиковый повар говорит:
– Заходи, у нас сегодня манго,
лаковые овощи в избытке,
здесь таких, как ты, пускают к маме,
в долгий отпуск, в бабушкин сундук.
– Не могу, – он отвечает, – рано.
Я несу котёнку пух и перья,
у меня под сердцем страх и звёзды,
не хватает розового лишь.
«Может, мне пить нельзя…»
Может, мне пить нельзя.
Может быть, я тоскую.
Только глаза скользят
гильзой от поцелуя.
Может, мне горек грех
осени заполошной.
Я попрошу за всех.
Если за всех, то можно.
Если за всех, то зря
можно не тратить слово.
Я молодой моряк
в поисках неземного.
Я золотой старик,
бронзовая реторта.
Господи, я тростник,
сломленный и протёртый.
«Где золотое, там и белое…»
Где золотое, там и белое.
Надеть всё чистое, уйти
туда, где бабы загорелые
не разбираются в IT.
И над судьбой своей наморщиться,
и тронуть кедами прибой.
Весна, патлатая уборщица,
не пощадила никого.
И вот июль уже разделали,
и август звёздами прибит.
Где золотое, там и белое
кипит, и жалит, и кипит.
Лечу ли аистом над крышами,
пытаюсь тенью рисковать —
лишь золотистой пылью вышиты
на белом воздухе слова.
Словно яблоки
«В желании сродниться есть тоска…»
В желании сродниться есть тоска,
недвижная, как тело языка,
когда его касаются стрихнином.
Так ледоколы мнут рубашку льдин,
так ищут дочь, так нерождённый сын
скользит над миром пухом тополиным.
Мне так невыносимо, так светло,
я так роняю каждое «алло»,
что, кажется, прошу Антониони
заснять всё это: кухню, стол, постель,
засохший хлеб, молочную форель
ко мне не прикоснувшейся ладони.
И если говорить начистоту,
то я скорее пламя украду,
отравленную выберу тунику,
чем буду улыбаться и смотреть,
как мальчики, идущие на смерть,
на небе собирают голубику.