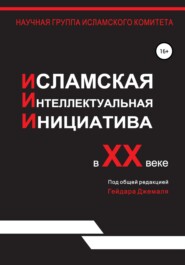скачать книгу бесплатно
Максим Трефан. Избрание не ставит его в привилегированное положение?
Гейдар Джемаль. Раскольников избрал топор. Это был единственный, уникальный топор, место которого потом – в музее. Но ведь этот топор не стал больше Раскольникова, больше старухи, больше Достоевского. Нет, это маленький кусок дерева, на который надет еще меньший кусок железа. Но он судьбоносен. Человек – инструмент. В чем проблема «языческих империалистов»? Они думают, что человек – это цель в себе. Человек затерян в эшелоне лестницы миров, над ним – великие существа, олимпийцы и т.д., но он – аналогичен, он может в процессе инициатического роста интегрировать в себе все эти состояния, реализовать в себе универсальный потенциал становящегося «я». Одна из книг Генона так и называлась – «Становление Человека согласно Веданте». Это – предельный горизонт традиционалистского геноновского взгляда.
Возьмем грубый аспект глины: материалистический гуманизм, в котором цель – социальная справедливость, человек, полностью раскрывающий свои возможности. Что такое для марксиста царство свободы, в которое человек попадает, преодолев отчуждение и реализовав провиденциальный смысл истории? Это ассоциация свободных индивидуумов, имеющих возможность полностью раскрыть свой онтологический потенциал. Вопрос – а зачем? Зачем этому дереву цвести, если некому будет смотреть и нюхать? Зачем этот комок биологической плоти, через который стреляют какие-то озарения? Идея антропоцентризма не выходит за рамки изощренного гедонизма. Все ограничивается здесь персональным опытом в его позитиве – то есть нужно у всех возможных спектров опыта чувствующего существа поменять знак минус на знак плюс. Но параллельно с этим есть ощущение того, что все существующее не имеет цели в себе. Потому что есть Уничтожитель, есть Коса. Если бы человек мог превратиться в бессмертного олимпийца, гедонизм которого является неотменимым утверждением,.. ну или если материя преображается, и человек попадает из царства необходимости в царство свободы, в теологический рай, где время исчезает… Но ведь Маркс не написал, что время исчезает, что физические законы утрачивают силу, яблоко больше не падает на Ньютона. И где же эта свобода? Вот если бы он написал, что приходит Махди и трансформирует Вселенную, в которой начинают действовать законы справедливости, которая наполняется победой над энтропией, и из камней подымаются розы, а воды тающих ледников начинают течь вверх – я бы тогда понял: да, царство свободы. Я не вижу, каким образом преодоление отчуждения от плодов своего труда меняет физические законы. Но ведь к этому же все сводится на самом-то деле. Вопрос именно в этом.
Мы космические существа, мы не можем быть свободными до тех пор, пока не изменены параметры в условиях космоса. Для этого должна быть новая земля и новое небо. Более того, несправедливость и эксплуатация в этом обществе является характерной чертой его ветхости и внутренней заданной в нем программой тирании, то есть аспекта испытания, материальности и т.д. Исламская задача – это ведь не создать рай здесь, а приготовить условия для прихода Махди, то есть создать политическую силу, которая будет способна воевать и нанести поражение противнику – с тем чтобы Махди, придя, чудесным образом изменил физические законы мира, доказав, что воды Иордана обратимы. После чего наступает остановка циклов, Страшный суд, Воскресение – то есть выход за пределы пространственно-временной манифестационной логики.
В этом контексте утверждать, что человек является самоценностью, невозможно, поскольку он уничтожим. Не может быть самоценностью человек, который смертен. Раз он смертен, значит, все его ощущения стираются – как то, что написано на черной доске. Как Брюсов писал: «Я жил, я мыслил, я прошел как дым». Но зачем я буду Павкой Корчагиным махать киркой на строительстве узкоколейки по колено в болоте – ради того, чтобы грядущие поколения сделали город-сад, если мало того, что я пройду как дым, но еще и эти поколения пройдут как дым. Дело в том, что поколения, которые придут победителями на смену мне, революционеру Корчагину, не превращаются в ангелов или бессмертных, не становятся олимпийцами, они не меняют своей тленной физической природы. А раз так, значит, все это не имеет смысла в себе, а является функциональным инструментом для реализации чего-то иного, что находится в вертикальной позиции по отношению к онтологической плоскости, в которой «я», вибрируя, виднеюсь…
Можно, конечно, сказать, что это материалистический горизонт, а есть горизонт геноновский – отождествление Атмана с Брахманом, реализация всех состояний. Здесь есть одно «но». Можно уничтожение переименовать в реализацию Великого Тожества. Можно сказать: ты не помер, а ты достиг нирваны. Но от этого факт-то не меняется, тряпка прошлась и стерла иероглиф.
Поэтому тонко чувствующий проблему Юлиус Эвола[44 - Эвола, Юлиус (1898–1974) – теоретик традиционализма, эзотерического фашизма («Восстание против современного мира», «Оседлать тигра»). В отличие от Рене Генона, Эвола рассматривал касту кшатриев в качестве касты, превосходящей брахманов.] говорит о том, что задача – вырвать индивидуальное бессмертие у рока. Узнать свое Имя, чтобы его можно было написать в любом мире. Если ты не знаешь Имени – волна набежала на песок, где оно написано, стерла все, – а ты не знаешь. Некому больше написать – знания-то нет. А если ты знаешь Имя, то есть знаешь, как его написать, тебе все равно, что она его стерла, – а ты его на любом другом месте напишешь: пойдешь в город, на стене напишешь. На бумаге напишешь, на дереве вырежешь. Потому что ты знаешь Имя, ты можешь написать его в любом мире. Дело в том, что способность написать это Имя в любом мире, во-первых, крайне относительна; она предполагает некий субъект, который эмансипировался от конкретной ситуации. То есть она предполагает некий дух, который стал душой. Потому что безличный дух, являющийся импульсом, порождающим существа, подобен ветру, который надувает паруса. А душа – индивидуальна, она лична. Душа, которая имеет волю. Но душа является эпифеноменом здесь и теперь. Она существует постольку, поскольку существует наша вброшенность в мир. И душа смертна.
Эвола ставит невозможную задачу перед духом – чтобы этот дух приобрел свойства души, чтобы универсальный фактор приобрел характер уникального, индивидуального и сиюминутного и имел волю воспроизводить свою сиюминутность в разных плоскостях. Меня всегда поражала методологическая слабость Эволы как метафизического мыслителя. Он просто хочет, чтобы круг был квадратным. Так не бывает. Либо ты осуществляешь путь безличного духа, в таком нормальном жреческом генонизме, то есть говоришь: это есть то. Аннигиляция, снятие индивидуальности, этой конкретики – как некоей возможности, которая может быть, а может и не быть, – скорее не быть, чем быть, – которая просто одно с той общей подкладкой, где все частности исчезают. В принципе никакой разницы с тем, что обычный человек без посвящения выбирает и точно так же становится одно с этой всеобщей подкладкой, и его точно так же нет, – как нет великого йогина, достигшего абсолютной идентификации, – тут никакой разницы нет.
Есть путь Юлиуса Эволы – героический путь, когда, понимая, что существует ничтожащий нас рок, время, Абсолют, он говорит, что можно как-то вырвать победу, получить статус олимпийца, хитрого Локи, который ускользнул из сетей, стал индивидуумом, но приобрел качество неразложимости. Вот чего он хочет. Возможно, существуют во всем многообразии духовного опыта и такие возможности реализации. Они, безусловно, не являются безграничными – потому что все, что манифестировано, все, что достигнуто, всякое свершение, ничтожится дахром, то есть любая формула аннулируется нулем – считай, сколько хочешь, любые уравнения пиши, но ноль берет на себя как бы все. Или, например, стоит к любому самому большому числу приписать минус, оно становится отрицательной величиной. Поэтому все это носит относительный характер, не решает главной проблемы.
В конечном счете, Ашшурбанипал или Ассаргадон превосходят раба гигантским харизматическим статусом, бесконечной властью, чудовищной подключенностью к духовному, политическому и индивидуальному опыту. По сравнению с Ассаргадоном обычный человек – все равно что собачка, карликовый пинчер. Но с точки зрения проблемы – инструментален человек или самоценен, как сказал бесчисленное количество раз Омар Хайям и его эпигоны, – никакой разницы между Ассаргадоном и рабом нет. Мы можем взять не Ассаргадона, а Великого посвященного, то есть перенести дистинкцию между великим царем и ничтожным рабом в плоскость духовного превосходства, – и получим то же самое.
У нас остается только другой, парадоксальный путь. Оказывается, мы должны делать ставку не на перманентное, не на неизбывное, которому мы хотим придать свой индивидуальный привкус. Мы должны делать ставку на индивидуальный привкус, на свою уникальность, в которой мы должны увидеть тайный инструментарий неведомого нам Субъекта, Который в этом случае чудесным образом обещает нам Воскресение – именно этому исчезающему индивидуальному, но только в том случае, если есть прорыв. Не Посвящение, а Прорыв за пределы этой глины, в рамках которой только и возможно Посвящение.
Что такое Посвящение? Это признание тожества всех состояний глины между собой и признание тожества любого цвета, любого оттенка белому цвету. А мы должны вырваться в Черное, более Черное, то есть отказаться от цветовых игр в принципе. И вот это никак не доступно философии традиционалистов, стоящих на классических платонических и неоплатонических позициях. Более того, это с большим трудом понимается человеком вообще. Масса мусульман, тем более христиан и иудеев, вообще не понимают, о чем речь. Внутри них как бы встроен свой личный, индивидуальный Платон, свой личный индивидуальный Аристотель[45 - Аристотель (384–322 до н.э.) – древнегреческий философ, ученик Платона, воспитатель Александра Македонского, основатель школы перипатетиков (Лицея) в Афинах, систематизатор и энциклопедист, основатель таких наук, как логика, психология, физика, биология.], который осуществляет в их мозгах коррекцию традиции Единобожия в сторону пути всякой плоти, то есть языческих респектаций…
Политическая теология является узкими вратами в сверхактуальные закулисы настоящей метафизики Единобожия. Политическая теология – это проблема применения абсолютно парадоксального к абсолютно конкретному, непосредственному и сиюминутному. Это сведение воедино двух наиболее разнесенных полярных точек. Тем самым это вопрос ни о чем ином, как только о власти в ее высшем значении. Власть – это способность свести наиболее удаленные позиции в одну точку, где происходит взрыв, рождение абсолютно нового.
Максим Трефан. Разве идея Финала – не общая для всех миров?
Гейдар Джемаль. В циклическом эманационном космосе нет конца, конец означает начало. Это спираль. Я имею в виду выход из любого процесса. В эволюционном космосе есть только пульс, маятник. Кто будет останавливать? Именно точка, ведь если человек осуществляет прорыв, то именно он в этой точке уничтожает и заставляет свернуться все миры. Уникальное Послание, адресованное Человеку…
Максим Трефан. В том, что только он – инструмент?
Гейдар Джемаль. Да, человек, который является бесконечно малой точкой, который является точкой сборки и точкой деструкции всей громадной протяженности – в символическом смысле «протяженности», то есть лестницы миров большого космоса. Представьте себе громадный замок с бесконечным количеством помещений и переходов, и есть только одна невидимая, незаметная, засекреченная колонна, выбив которую или взорвав которую, вы заставляете все здание сесть. Краеугольный камень, который отвергли строители, а он должен лечь во главу угла.
Максим Трефан. Вопрос о власти, который затрагивался в нашей предыдущей встрече в связи с тем, что иранцы не захотели публиковать русский перевод книги Тиджани «Ведомый по пути»[46 - Тиджани Самави, Мухаммад – знаток истории ислама, мусульманского вероучения и права, тунисец по происхождению, доктор философии, преподаватель в Сорбоннском университете. В результате долгих духовных исканий, путешествий по мусульманскому миру, а также после тщательного изучения ислама Тиджани перешел из суннизма маликитского толка в шиизм. Написал ряд книг, реабилитирующих шиитов, развеивающих многие мифы и предрассудки, сложившиеся в отношении представителей данного направления в исламе. В этих книгах Тиджани приводит аргументы в пользу последователей шиитского ислама и разоблачает некоторых сподвижников Пророка (СААС) и его вдову Айшу, выступивших против имама Али.]. Даже говоря об актуальной политической ситуации, нельзя же закрыть глаза на то, что произошло после смерти Пророка, на то, как эта власть захватывалась, на расхождения между приверженцами Али (АС) и Фатимы (АС) – и Муавии[47 - Муавия – богатый наместник, правитель Сирии, выступивший и воевавший против имама Али (АС) в период его халифата и провозгласивший халифом себя (официально этот титул он получил после отречения имама Хасана от халифата). Муавия – первый халиф династии Омейядов, создатель империи арабской аристократии; при нем власть в халифате сделалась наследственной. Согласно шиитской концепции истории раннего ислама, омейядская аристократия погрязла в роскоши, а также имели место иные многочисленные отступления от положений изначального ислама и традиций Пророка.], Омейядов… Или это тактическое примирение?
Гейдар Джемаль. Мы не закрываем глаза, но мы стараемся понять, что не значит – простить. Конечно, противники Али (АС) совершили преступление с точки зрения нарушения воли Пророка (СААС), но чем они были мотивированы? По мнению Тиджани, Умар и Абу Бакр[48 - Абу Бакр и Умар ибн-аль-Хаттаб – первый и второй халифы, сподвижники (саххабы) Пророка. Сунниты называют праведными (аль-хулафа ар-рашидун) четырех халифов – преемников Пророка (СААС): Абу Бакра, Умара, Усмана и Али. Сунниты не признают концепию имамата, полагая, что после смерти Пророка главой уммы может быть избран любой член уммы, принадлежащий к племени курайш (концепция халифата). Основными критериями принадлежности к суннизму (ахл ас-Сунна ва-аль-джамаа) являются: признание власти первых четырех «праведных халифов» (Абу Бакра, Умара, Усмана и Али) законной, отсутствие сомнения в достоверности шести «канонических» суннитских сборников хадисов, принадлежность к одной из четырех суннитских правовых школ (ханафитской, маликитской, шафиитской, ханбалитской). Шииты, в свою очередь, отказывают в праведности первым трем халифам и не считают избрание Абу Бакра законным с точки зрения Сунны, ссылаясь на многочисленные достоверные хадисы Пророка (СААС). В качестве примеров можно привести некоторые из них: 1. Пророк (СААС) сказал: «О Али! Ты занимаешь по отношению ко мне такое же положение, как Харун по отношению к Мусе, с той только разницей, что после меня не будет пророков». 2. Пророк (СААС): «Али – господин для всех тех, для кого я господин. О Аллах! Люби того, кто любит его, и возненавидь того, кто ненавидит его, помоги тому, кто помогает ему, и оставь того, кто оставляет его, и куда бы он ни обратился, верши там справедливость». 3. Пророк (СААС) сказал: «Али от меня и я от Али, и никто не может выполнять мои обязанности, кроме меня и Али» (данный хадис упоминается в суннитском сборнике Сахих ат-Тирмизи, у ибн Касира в книге «Джами аль-Усуль», а также в книге ас-Суйути «Джами ас-Сахыр» и т.д.) 4. Хадис Саклайн (см. комм. к статье в этом сборнике: Ежова А. Ислам Али Шариати – единственная универсальная революционная идеология) и т. д.] были лишь неверующими конъюктурщиками и прагматиками, которые просто терпели Пророка (СААС). Тогда вообще непонятно, зачем они пошли против всех, рисковали, зачем они были рядом с Пророком (СААС), почему он их изначально терпел. Я прочел все книги Тиджани и продумал массу свидетельств относительно того, какие они были плохие. Я задумался: а почему они были такими? Что заставило этих людей – бесспорно берущих на себя риски, несравнимые с возможными позитивами (а они не были последними людьми в истеблишменте), – идти до конца и быть в принципе во всех ситуациях с Пророком (СААС)?
Во-первых, они были в определенном провиденциальном луче, который они чувствовали как адресованный непосредственно им. Что такое Аравия, Хиджаз в VII веке? Между Византией и Персией вообще был застой: кончился великий Рим, античность, наступал кризис в Иране, и вот посреди этого мира существовал никому не нужный песчаный пятачок, и люди, которые там жили и умирали, дохли как шакалы среди барханов. Эти сподвижники поняли, увидели и прочувствовали на своем опыте, что если они сделают этот единственный выбор и пойдут с Пророком (СААС), то из безвестных, сметаемых как пыль на ветру обитателей какого-то захолустного угла мира они превратятся в ось смысла, ось мира, ось истории – на все времена, до самого конца, для всего человечества. Это потрясающая вспышка сверхновой; каждый жест, каждый звук, каждый день, каждый опыт приобретает колоссальный, ослепительный, психоделически яркий резонанс и становится абсолютным. Они это непосредственно ощущают, потому что Мухаммад (СААС) – это реально Пророк, это Пророк неведомого Бога, Бога Авраама, Исаака и Иакова. Это взрыв. И вот теперь им говорят: вы просто манекены, просто тени, просто «шестерки». Попав в центр всего, вы встали не в свои калоши. Есть Али (АС), он – врата в град знаний, а ваше дело – подчиняться ему. Сунна оставлена ему. Да, они должны были подчиниться, и духовная награда стала бы колоссальной – но в таком случае они вынуждены были бы отдать вот это ощущение того, что они стали главными игроками и главными действующими лицами в мировой истории на все времена.
Максим Трефан. Но речь ведь не о личном тщеславии…
Гейдар Джемаль. Что их заставляло и воодушевляло собраться и выбрать Абу Бакра, когда Пророк (СААС) лежал, омываемый руками Али (АС), который оставался с ним в хижине? Они становились главными игроками истории, они выбрали не жертву, а стяжание – стяжание полноты благодати в ее историческом, плоском, разворачивающемся изменении – непосредственно здесь, имманентно – для себя. Всевышний Господь знал, что Али (АС) будет отстранен, что шииты будут гонимы, что они станут эзотерической истиной посреди волков – но Омейяды распространили ислам на полмира, в этом заключалась их функция. Они превратили ислам в мировую религию за одно поколение. Они стремились преобразовать это имманентное ощущение непосредственного Величия в географическую и геополитическую экспансию. Оказывается, что это было необходимое сочетание – суннитская неправота, которая преобразовывалась в экспансию, – и шиитская правота, которая преобразовывалась в ждущую своего часа тайну гонимой справедливости.
…Сейчас Халиф является отыгранной и дискредитированной исторической картой. Те, которые говорят сегодня о халифате – партия «Хизб-ут-тахрир» и ей подобные, – это политические провокаторы либо, в большинстве случаев, люди, не понимающие, что такое политическая философия реального ислама. Мы должны сформулировать эту политическую философию.
Анастасия Ежова. Философия Али Шариати в контексте исламской политической мысли XX века: Кутб и Шариати
Введение
Работа «Ислам Шариати – единственная универсальная революционная идеология» была целиком и полностью посвящена анализу взглядов второго по значимости после Хомейни идеолога Исламской революции в Иране, выявлению специфики его творчества. В частности, в статье говорилось о том, что Али Шариати долгое время жил во Франции, ознакомился с трудами европейских философов, и это наложило определенный отпечаток на характер его концепции, ибо он испытал значительное влияние многих течений в западной мысли. Однако при этом представляется чрезвычайно важным и тот факт, что Шариати является мусульманским философом и политическим теоретиком исламского возрождения. Что касается возрожденческого движения в мусульманстве, которое зачастую называют исламским фундаментализмом, то данное направление довольно многолико и развилось в русле как шиитского, так и суннитского течения в исламе. В целом для мусульманского возрожденчества характерно не только желание очистить веру от позднейших искажений и апелляция к основным установкам и ценностям первоначального мухаммадовского ислама, но и призыв к объединению мусульман на основе этих базовых и фундаментальных принципов. Если мы, например, обратимся к теоретическому наследию идеологов Исламской революции в Иране, являющихся представителями шиитского фундаментализма, то в их трудах достаточно четко прослеживается мысль о необходимости интеграции шиитов и суннитов. Как утверждал аятолла Хомейни, «все мусульмане – братья и равны между собой. Ни один из них неотделим от другого и все они должны сплотиться под знаменем ислама и монотеизма». В частности, имам особо подчеркивал: «Мы, шииты и сунниты, должны побрататься и не допустить, чтобы нас обворовывали другие». В концепции Али Шариати также четко прослеживается курс на сближение шиитов и суннитов. С другой стороны, для всех мусульманских фундаменталистов основополагающим является тезис о единстве ислама и политики, что во многом обусловило особое внимание идеологов исламского возрождения к социально-политической проблематике. В данном контексте было бы целесообразно сопоставить философские взгляды Али Шариати с концепциями наиболее крупных суннитских теоретиков политического ислама и мусульманского возрождения. Данный анализ позволит, с одной стороны, выявить ту нишу, которую занимает собственно Али Шариати в истории исламской политической философии, и, с другой стороны, проследить основные тенденции развития суннитской политической мысли салафитской направленности. Особый интерес при этом представляет теоретическое наследие египтянина Сейида Кутба (1906–1966), одного из крупнейших идеологов ассоциации «Братьев-мусульман».
Кутб и ассоциация «Братьев-мусульман» («Ихван-аль-муслимин»)
Религиозно-политическая организация «Братья-мусульмане» была основана в Египте учителем начальной школы Хасаном аль-Банной (1905–1949 гг.). В 1928 году в г. Исмаилия он заложил первую ячейку «Ихван-аль-муслимин», а сам аль-Банна стал первым идеологом ассоциации. Необходимость создания подобной организации Хасан аль-Банна обосновал в труде «Новое возрождение». В целом теоретическое наследие основателя «Братьев-мусульман» можно свести к следующим тезисам:
– в результате колониальной экспансии Запада в мусульманском, в частности, в египетском обществе утвердились чуждые исламу социальные институты и нормы, в то время как предписания Корана и Сунны были попраны;
– активно навязываемые исламскому миру западные идеологии и модели развития, равно как и импортируемый образ жизни, абсолютно неприемлемы для мусульман;
– ислам является политической идеологией;
– необходимо возрождение ислама и построение мусульманского государства, функционирующего по законам шариата и обеспечивающего строгое соблюдение предписаний Корана и Сунны;
– все мусульмане – братья и являются единым народом, интересы уммы для исповедующих ислам должны быть превыше узких национальных устремлений, разделение мусульман по этническому признаку недопустимо;
– основная задача исламской уммы заключается в противодействии политической, экономической, идеологической и культурной экспансии Запада;
– «каждый человек – солдат Аллаха, он жертвует собой и ничего не требует взамен».
Лозунгом ассоциации «Братьев-мусульман» стал знаменитый девиз: «Аллах – наш Бог, Пророк – наш вождь, джихад – наш путь, смерть во имя Аллаха – наше высшее стремление». Организация довольно быстро набирала политический вес, спустя пять лет с момента основания «Ихван-аль-муслимин» ячейки ассоциации были созданы уже в пятидесяти городах Египта; впоследствии «Братья-мусульмане» приобрели черты крупного международного исламского движения, которое нашло распространение во многих странах мира. Сама структура организации, которой исследователи дали название «виноградная гроздь», гарантировала строгое подчинение членов каждого из его звеньев своему руководителю. Идеи «братьев» пользовались особой популярностью в народных массах, в частности, среди беднейших слоев общества и мелкой буржуазии. Важно отметить, что активистами и лидерами «Ихван-аль-муслимин» стали не улемы, а светские деятели. Так, например, и Хасан аль-Банна, и Сейид Кутб были по профессии школьными учителями.
После окончания Второй мировой войны ассоциация «Братьев-мусульман» встала в оппозицию к египетскому правительству, ею было организован ряд покушений на представителей официальных властей. В 1949 году Хасан аль-Банна был застрелен – разумеется, его убийство стало делом рук власти. Стоит отметить, что в настоящее время основным идейным вдохновителем ассоциации можно назвать не его, а Сейида Кутба, пришедшего в организацию в 1951 году. Что касается теоретического наследия Хасана аль-Банны, то оно представляет собой определенный этап развития как собственно идеологии «Братьев-мусульман», так и салафитской политической мысли в целом. Кутб, принимая выдвинутые аль-Банной тезисы в качестве исходных положений собственной концепции, в дальнейшем философски осмыслил и развил эти идеи, а также внес в доктрину «Ихван-аль-муслимин» ряд новых положений. В 1952 году Кутб был избран членом Руководящего бюро ассоциации «Братьев-мусульман» и возглавил Отдел исламской пропаганды. В том же году в Египте произошла революция, в результате которой президентом стал Гамаль Абдель Насер, поначалу сотрудничавший с организацией. Однако теоретическая и практическая деятельность Сейида Кутба пришлась на времена максимальных гонений на «Братьев-мусульман» в период правления Насера, поскольку их политический альянс оказался весьма недолгим. 26 октября 1954 года членами ассоциации, находившимися к нему в оппозиции, было совершено покушение на египетского президента. В результате в том же году организация была запрещена, прокатилась волна арестов ее активистов, которая затронула Сейида Кутба одним из первых, и после пыток он был приговорен к двадцатипятилетнему тюремному заключению, во время которого им была написана серия работ, в том числе и книга «В сени Корана» (далее в нашем исследовании мы будем условно именовать ее тафсиром, хотя сам автор свой труд так не называл). В 1964 году Кутб был освобожден из тюрьмы по ходатайству тогдашнего иракского президента. В 1965–1966 году в недрах ассоциации «Братьев-мусульман» зародился план устранения Насера и прихода к власти, который был раскрыт египетскими спецслужбами. Кутб был снова арестован и после пыток заключен в египетскую тюрьму Тарра. 29 августа 1966 года Сейид Кутб вместе с двумя его соратниками был повешен по приговору трибунала во главе с Анваром Садатом, будущим президентом Египта, впоследствии «прославившимся» печально известными кемп-дэвидскими соглашениями. Причиной приговора послужил труд Кутба «Вехи на пути», который сам автор в предисловии охарактеризовал как инструкцию для революционного исламского авангарда, своеобразное руководство к действию и наставление по обращению с противниками и оппонентами.
Впоследствии творчество Кутба подвергалось разным интерпретациям со стороны последующих лидеров и теоретиков «Братьев-мусульман». Так, один из учеников Кутба Шукри Мустафа, находившийся вместе с ним в тюрьме Тарра, воплотил в жизнь его идею о создании группы революционно настроенных мусульман, порывающих с отошедшим от ислама обществом с тем, чтобы взять на себя миссию возрождения ислама, создав в 1978 году организацию под названием «Ат-такфир ва аль-хиджра» («Обвинение в неверии и уход из общества»). Также на базе ассоциации «Братьев-мусульман» возник ряд группировок в самом Египте и за его пределами (например, в Палестине «Ихван-аль-муслимин» представлены, в частности, организацией ХАМАС). После прихода к власти в 1970 году Анвара Садата ассоциация в конечном итоге осталась в оппозиции к откровенно прозападному режиму – при том, что поначалу Садат изображал свою лояльность к «Братьям» и даже объявил шариат основой законодательства. Однако этот тактический ход Садата, возможно, желавшего столкнуть исламистов с левыми силами в стране, не отменял тех фактов, что его политика резко шла вразрез с программой «Ихван-аль-муслимин», а сам он был непосредственно причастен к казни Сейида Кутба. «Братья-мусульмане», в свою очередь, с 1974 года развернули активную деятельность против прозападного режима Садата, который в 1979 году объявил организацию вне закона. В том же году он подписал кемп-дэвидские соглашения с Израилем, что послужило причиной удавшегося покушения 6 октября 1981 года, которое было организовано группой «Джихад», также возникшей на базе «Братьев-мусульман».
В период правления Хосни Мубарака у «Ихван-аль-муслимин» появился несколько больший простор для деятельности внутри страны, хотя организация также находится в оппозиции к нынешнему президенту Египта. Стоит отметить, что, начиная с семидесятых годов прошлого века, наряду с радикальным крылом начало формироваться «умеренное» крыло ассоциации «Братьев-мусульман», ориентирующееся на методы парламентской борьбы. Его представители сегодня выступают за принцип разделения властей, избрание президента на ограниченный срок, политический плюрализм, свободу слова и вероисповедания и т. п. В настоящее время «Братья-мусульмане» оказывают значительное влияние на политический процесс в самом Египте, где пользуются популярностью у народных масс. Кроме того, на данный момент «Ихван-аль-муслимин» является одним из крупнейших исламских политических движений и распространилось в Палестине, Сирии, Ливане, Иордании, Судане, Йемене, Ираке, а также в США и в ряде стран Европы.
Особенности становления Кутба и Шариати как исламских политических идеологов: сравнительный анализ
Прежде чем сопоставлять собственно концепции Сейида Кутба и Али Шариати, стоит отметить, что небесполезно было бы сравнить и биографии данных мыслителей. С одной стороны, в них прослеживаются некоторые параллели, а с другой стороны, различия во взглядах Кутба и Шариати во многом обусловлены определенными событиями в их жизни. Так, у обоих философов рано проявился интерес к политике и социальным проблемам своего времени, в значительной степени сложившийся под влиянием семьи, поскольку их отцы были вовлечены в политическую жизнь. И Шариати, и Кутб имели определенный опыт преподавания, общения с молодежной аудиторией, подрастающим поколением. Так, Али Шариати окончил педагогическое училище в Мешхеде, работал учителем в Ахмадабаде; после окончания Сорбонны и возвращения в Иран он был приглашен на преподавательскую работу в Мешхедский университет, а в 1967–1973 гг. Шариати читал лекции в теологическом центре нового типа «Хусейнийе Иршад». Саид Кутб также начинал как провинциальный учитель, служил инспектором министерства просвещения, автором различных проектов реорганизации системы образования, которые были отвергнуты. Однако при этом стоит отметить, что после возвращения в 1951 году из бессрочной командировки в США он подал в отставку и вступил в ассоциацию «Братьев-мусульман» и с тех пор уделял внимание не организации народного просвещения, а несколько иным вопросам, написав восемь произведений на исламскую социально-политическую тематику. Среди них наиболее известными и значимыми являются работы «Социальная справедливость в исламе», «Ислам и проблемы цивилизации», «Сражение ислама с капитализмом», «Будущее принадлежит исламу», «Эта религия», «Вехи напути», «Ценности исламского представления» (последняя книга, написанная автором в тюрьме накануне вынесения смертного приговора), а также знаменитый тафсир Кутба«В сени Корана». В то же время Али Шариати, будучи таким же революционным мыслителем, как и Сейид Кутб, всегда проявлял особый интерес к проблеме образования – более того, она была неотъемлемой частью его революционной программы, ибо касалась, в частности, и насущного вопроса о необходимости реформирования исламских богословских учебных заведений. Оба мыслителя получили определенный опыт жизни в западных странах и в соответствии с этим знали реалии и проблемы капиталистического Запада не понаслышке, поскольку Али Шариати учился в Сорбонне, Кутб же в 1947 году был выслан в бессрочную командировку в США за критику режима короля Фарука. И Кутб, и Шариати сочетали теоретическую работу с практической деятельностью, состояли в нелегальных оппозиционных группах, подвергались многочисленным арестам и преследованиям со стороны официальных властей, и оба в конечном итоге приняли мученическую смерть за веру, став шахидами, причем оба они погибли от рук официальных властей. (Напомним, что Али Шариати так же, как и Кутб, стал жертвой правящего режима, поскольку, по наиболее вероятной версии, к его убийству причастна шахская охранка.)
Однако, при всем сходстве, нельзя не отметить и бросающееся в глаза различие, касающееся особенностей духовной эволюции двух идеологов. Так, развитие взглядов Али Шариати можно назвать довольно «равномерным». С одной стороны, исламская составляющая его философии была изначально обусловлена семейным воспитанием, что в целом свойственно иранским шиитским теоретикам. Дед Али был авторитетным улемом, отец Мохаммед Таги Шариати – мусульманским активистом, четко заявлявшим о своей антизападной позиции, организатором «Центра пропаганды правды ислама», участвовавшим также в создании специализированной школы толкования Корана, автором работ «Новый тафсир», «Исламская экономика». Примечательно, что Али Шариати отзывался об отце как о своем первом наставнике, повлиявшем на формирование его собственного мировоззрения, а также известно, что Мохаммед Таги Шариати редактировал посмертные издания книг Али. С другой стороны, интерес Али Шариати к западной философии проявился уже в ранней молодости – так, еще будучи студентом Мешхедского университета, он увлекся философией Декарта, ознакомился с трудами Фанона и Тойнби. В дальнейшем эти два неотъемлемых компонента философии Шариати – ориентация как на революционный шиизм, так и на определенные течения в западной философской мысли преимущественно левой направленности – лишь получали дальнейшее развитие, соотносились друг с другом, приобретали новые оттенки. Что касается Сейида Кутба, то здесь ситуация принципиально иная, поскольку его апелляция к политическому исламу, мусульманскому возрождению не была изначальной. В биографии Кутба можно уверенно обозначить своеобразную «точку разрыва», четко разделяющую его жизнь на два качественно разных периода – до 1951 года (его Кутб назвал датой своего нового рождения) и после него, когда Кутб вернулся из США и вступил в ассоциацию «Братьев-мусульман». Став членом данной организации, он в соответствии со своей концепцией резко порвал со всем тем, что связывало его с прежней жизнью и окружением. Если до 1951 года Кутба привлекали социалистические идеи, то после вступления в «Ихван-аль-муслимин» он резко отмежевался от своих прежних духовных исканий, считая ислам беспрецедентным и не сопоставимым ни с какими изобретенными человеком теориями духовным феноменом, в то время как социализм он называл формой джахилийского невежества, никак не совместимого с исламом. Стоит отметить, что предшествующий этому событию острый кризисный период в жизни Кутба, связанный с его высылкой в США, при всем внешнем сходстве также резко отличается от пребывания Али Шариати во Франции. Безусловно, общим для двух исламских идеологов является то, что оба они убедились в обманчивости «прелести» и мнимой привлекательности западной жизни, рекламируемой в странах третьего мира в качестве объекта восхищения и образца для подражания, а также укрепились в своей резко антикапиталистической позиции. Однако для Али Шариати обучение в Сорбонне вовсе не было сопряжено с наиболее мрачным периодом в его жизни, а напротив, послужило возможностью получения прекрасного образования, детального ознакомления с европейской мыслью, творческого развития собственной концепции, общения с известными философами и социологами, повлиявшими на формирование его взглядов, наконец, относительно свободной деятельности без довлеющей угрозы арестов и тюремных заключений. Таким образом, для Шариати период учебы во Франции имел весьма позитивный характер. Для Кутба же его пребывание в США, очевидно, было связано прежде всего с резким неприятием и отторжением американской действительности, ощущением гнетущего одиночества, обостренным чувством враждебностиокружающего мира, которого не было у Али Шариати. По наиболее популярной версии, решающим событием, послужившим толчком к вступлению Кутба в ассоциацию «Братьев-мусульман», стало убийство ее основателя и лидера Хасана аль-Банны в 1949 году, которое было воспринято американской политической элитой как большой праздник. Безусловно, в данном случае имеет смысл обратить особое внимание и на существенные различия между такими странами, как Франция и США. Специфика страны, в которой в 1947–1951 гг. жил Сейид Кутб, обусловила не только безоговорочное неприятие им капиталистического пути развития, осознание подлинных устремлений и амбиций американского истеблишмента, но и оказала влияние на ряд отличительных черт его учения. Так, в концепции Кутба получила особое развитие идея о тотальной враждебности окружающей среды (в частности, современного общества) и об исламе как о революционной идеологии, бросающей вызов этой среде, а также сделан акцент не на универсальности, а на уникальности и беспрецедентности исламского послания, что будет подробнее проанализировано в дальнейшем.
Кутб и Шариати: сравнение концепций
И Сейид Кутб, и Али Шариати – мыслители и политические деятели, обладавшие мощным протестным, нонконформистским запалом, который отразился и на их жизни, и на творчестве. Оба они являются философами мусульманского возрождения, носителями представления об исламе не просто как о религии, но и как о революционном политическом проекте, основанном на принципе единобожия. В то же самое время существуют и достаточно явные различия между концепциями этих двух мыслителей, определенными нюансами специфического ракурса рассмотрения ислама в качестве политической идеологии, и в целом философских позиций того и другого автора. Если Али Шариати как мыслитель испытал значительное влияние со стороны европейских философов, что послужило поводом к обвинениям в эклектичности и внутренней противоречивости, то в учении Сейида Кутба прослеживается исключительно мусульманская ориентация. Кроме того, учитывая пантеистические взгляды Али Шариати, стоит отметить особую уязвимость его философии с точки зрения исламской теологии, тем более что он является одним из крупнейших и наиболее влиятельных мусульманских политических теоретиков. Безусловно, при этом сам Кутб как мыслитель также вовсе не безупречен и порой заслуживает основательной критики (однако не огульного и безосновательного обвинения во всех смертных грехах, чем зачастую чересчур увлекаются клерикальные деятели). Наиболее интересным для анализа в данном случае представляется, на мой взгляд, знаменитый труд Кутба «Вехи на пути». В предисловии к книге автор поясняет, что она написана для мусульманского революционного авангарда, который в будущем возьмет на себя задачу возрождения ислама. Как указывает Кутб, данному авангарду «следует знать вехи на пути к цели так, чтобы они могли определить исходную позицию, природу, ответственность и конечную цель этого долгого путешествия». Таким образом, книга содержит наставления для будущих мусульманских революционеров, основанные на размышлениях Кутба над Священным Кораном. Введение к ней и главы были написаны Кутбом в разное время, а четыре главы – «Природа коранического метода», «Исламская идеология и культура», «Джихад во имя Аллаха» и «Возрождение мусульманского общества и его характеристики» – были взяты им из собственного тафсира «В сени Корана».
Таухид и ширк, ислам и джахилия
Сейид Кутб исходит из того, что «необходимо возродить то мусульманское общество, которое погребено под обломками придуманных людьми традиций нескольких поколений, и которое сокрушено под весом тех фальшивых законов и обычаев, не имеющих даже никакого отдаленного отношения к исламскому вероучению, при том, что, невзирая на это, следующие им именуют себя „исламским миром“»[49 - Qutb S. Milestones. New Dehli, 1998.]. В своих работах, в том числе и в книге «Вехи на пути», Кутб представляет ислам, возрожденный в его первоначальной чистоте, в качестве революционной программы, имеющей практическую направленность, – своеобразной инструкции к действию. Именно такой ислам Кутб представляет в качестве единственной панацеи от бед современного мира, целиком и полностью погрязшего в джахилии (термин, обозначающий доисламский языческий период неведения) – такой же, как до прихода Пророка Мухаммада (СААС), только намного более глубокой. Так, по мнению египетского мыслителя, все наше окружение, верования, привычки и законы даже тех людей, которые живут в странах, именуемых исламскими, являются де-факто джахилийскими. Кутб отмечает актуальность возрожденного ислама не только для арабов и исторически мусульманских стран, но и для всего человечества. Размышления о битве ислама с джахилией являются сквозной темой для всех произведений Сейида Кутба и сопоставимы с учением Шариати о противоборстве религии единобожия и ширка. Напомним, что и «джахилия», и «ширк» – это традиционные исламские термины. Как Кутб интерпретирует данное мусульманское понятие, каков специфический ракурс его рассмотрения? В работе «Вехи на пути» мыслитель пишет: «Ислам строит основания веры и действия на принципе полного подчинения только Аллаху»[50 - Qutb S. Milestones. New Dehli, 1998.]. Центральный постулат всей концепции Кутба, являющийся в том числе и отправной точкой при толковании вопроса о джахилии, – вера в единственность Бога, ориентация на первый столп ислама – шахаду: «Ля илаха илля Ллахи ва Мухаммаду Ррасулю Ллахи» («Нет бога, кроме Аллаха, а Мухаммед – посланник Аллаха»). В этом Кутб сходится с Шариати, который также апеллирует (в том числе и в своем религиоведческом анализе) к принципу монотеизма, рассматривая его в качестве подоплеки всех различий между таухидом и ширком. Исповедание единобожия является фундаментальной характеристикой и первоосновой исламского вероучения, и, как неоднократно подчеркивает в своих работах Кутб, все остальные положения мусульманской религии так или иначе являются производными от шахады. Египетский мыслитель отмечает следующую неотъемлемую черту ислама: он основывается на неукоснительном следовании божественным предписаниям, законам шариата, зафиксированным не только в писаниях, данных пророкам, и прежде всего в Коране, но и в Сунне Пророка. В данном контексте Кутб призывает обратить особое внимание на вторую часть шахады: «Мухаммад – посланник Аллаха», ссылаясь, в частности, на аяты Корана: «Кто повинуется Посланнику, тот повинуется Аллаху» (4:80); «И что даровал вам Посланник, то берите, а что он вам запретил, от того удержитесь» (59:7). Джахилия же, как подчеркивает Кутб, является не чем иным, как незнанием либо забвением законов и принципов ислама, среди которых главнейшим является таухид. В связи с этим Кутб апеллирует к следующим аятам:
Он [один] – тот, кто на небесах Бог и на земле Бог. (43:48)
Решение принадлежит только Аллаху. Он повелел, чтобы вы поклонялись только Ему. Это – правая вера. (12:40)
И сказал Аллах: «Не берите двух богов; ведь Бог – только один и Меня бойтесь!» Ему принадлежит то, что на небесах и земле, Ему – подчинение постоянное, неужели вы боитесь кого-нибудь, кроме Аллаха? (16:51–52)
Джахилия сопряжена с почитанием в качестве бога кого-либо, кроме Аллаха, равно как и с потаканием собственным прихотям и страстям, а также с подчинением законам, созданным людьми и предназначенным для реализации человеческих эгоистических и корыстных целей, т. е. она связана с ширком. В книге «Вехи на пути» Кутб дает следующее определение: «Любое общество является джахилийским, если оно не посвящает себя повиновению только Аллаху в своих верованиях и идеях, в ритуалах почитания и правовых установлениях»[51 - Qutb S. Milestones. New Dehli, 1998.]. Наиболее удручающий атрибут джахилии – это наличие в обществе угнетения, эксплуатации и социальной несправедивости. Неотъемлемой чертой джахилийского общества является тирания, господство богатого меньшинства над бедным большинством. Угнетателей обслуживают поэты, призывающие поддерживать эту небольшую группку людей, узурпировавшую власть. Основой морали данного общества служит активно рекламируемый принцип: «Кто не угнетает – тот будет угнетен», люди в нем озабочены лишь безудержным удовлетворением своих физиологических потребностей, публицисты и журналисты пропагандируют секс без ограничений, в том числе и гомосексуализм, а развратная жизнь, проституция рассматривается как нечто, чем следует гордиться, в то время как ценность семьи, рождения и воспитания детей всячески дезавуируется. Как утверждает Кутб, мораль в джахилийском обществе ущемляется, касается лишь сферы экономики и отчасти политики (например, вопроса о государственных интересах и т.д.). В целом же люди не стремятся контролировать свои животные инстинкты и направлять их в полезное и конструктивное русло, они являются рабами и этих инстинктов, и других людей. Кутб особо оговаривает, что джахилия – не теория, а способ организации общества, базирующийся на особом способе кооперации индивидов, в основе которого лежат ими же придуманные правила. При этом определенные теории и идеологические системы являются лишь легитимацией, оправданием существующих политических режимов и социальных отношений.
Онтология и антропология
Казалось бы, все упомянутые тезисы Кутба в целом напоминают аналогичные рассуждения Али Шариати и вписываются в рамки возрожденческого направления в исламе. Однако есть и некоторые различия между концепцией Сейида Кутба и философией Али Шариати, касающиеся онтологии. Так, Шариати как мусульманский мыслитель подвергался серьезной критике со стороны знатоков исламской теологии (прежде всего имама Хомейни), поскольку его представления об онтологии, в частности понимание таухида как единства Аллаха, природы и человека, являются пантеистическими. Кутб, в свою очередь, предлагает иную интерпретацию принципа монотеизма. Так, информацию об онтологии Кутба мы можем почерпнуть прежде всего из его тафсира, который содержит размышления философа над аятами Корана и той картиной реальности, которая в нем обрисовывается. Так, ключевой в плане понимания исламской онтологии египетский теоретик считает маленькую мекканскую суру 112 «Аль-Ихляс» («Чистота веры»):
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Скажи: «Он – Аллах – Един,
Аллах вечный,
Он не родил и не был рожден,
И не был Ему равным ни один!»
В начале комментария к данной суре Кутб приводит слова Пророка о том, что она в смысловом отношении равна трети Корана. Сейид Кутб, в свою очередь, пишет, что сура «Чистота веры» «смогла вместить в себя основные черты, присущие огромной реальности ислама»[52 - Кутб C. В сени Корана. М., 2003. С. 510–511. Комм. к суре 112 «Чистота веры».]. Как подчеркивает мыслитель, первый аят данной суры «должен стать глубоким внутренним убеждением, истолкованием бытия и программой жизни» мусульманина. Кутб обращает особое внимание на то, что употребление слова «ахад» («един») вместо, на первый взгляд, синонимичного ему «вахид» («единственный») не случайно и имеет глубокий онтологический смысл. Так, слово «ахад» означает также, что Аллах является единственной подлинно существующей реальностью, ибо «не существует ничего вместе с Ним, кроме Него самого, и что нет ничего подобного Ему»[53 - Кутб C. В сени Корана. М., 2003. С. 510–511. Комм. к суре 112 «Чистота веры».]. При этом мусульманин не просто видит проявления этой реальности во всех формах бытия, берущих от нее свое начало, но и по мере совершенствования в собственной вере «перестает замечать во всей Вселенной что-либо помимо Аллаха, так как… считает, что истинная реальность есть нечто, присущее одному лишь Аллаху»[54 - Кутб C. В сени Корана. М., 2003. С. 510–511. Комм. к суре 112 «Чистота веры».]. Анализируя суру, Кутб отмечает важные положения исламского вероучения: Аллах является единственным Господином всего сущего, помимо Которого нет никаких господ; сущность Аллаха является постоянной, вечной и изначальной, Ему всегда и во всем присуще абсолютное совершенство. По убеждению Кутба, правомерно также ставить вопрос о том, что любое действие является в конечном итоге делом рук Аллаха, ибо «все сущее черпает свое бытие из этого истинного бытия, как черпает оно свою реальность из этой истинной реальности»[55 - Кутб C. В сени Корана. М., 2003. С. 510–511. Комм. к суре 112 «Чистота веры».]. Как отмечает мыслитель в главе «Универсальный закон» работы «Вехи на пути», согласно Корану вся Вселенная была сотворена Аллахом, появилась по Его воле, и Аллах установил непреложные естественные законы, которым следует Вселенная и в соответствии с которыми различные ее части гармонично взаимодействуют друг с другом. В подтверждение собственных рассуждений Сейид Кутб приводит аяты Корана:
Наше слово для чего-нибудь, когда мы пожелаем, – что мы скажем ему: «Будь!» – и оно бывает. (16:40);
Он создал всякую вещь и размерил ее мерой. (25:2);
Человек также является частью Вселенной, и как биологическое существо он не может существовать не по всеобщим законам, установленным Аллахом, он не способен каким-либо образом уклониться от следования им. Так, человек испытывает голод и жажду, воспроизводит себя в соответствии с законами природы, имеющими божественное происхождение. Шариат, предписания которого зафиксированы в Коране и Сунне, т. е. в Божественном Откровении, в свою очередь, является составной частью универсального закона, и следование ему обеспечивает установление гармонии между жизнедеятельностью человека и целой Вселенной, а также природой самого человека. В данном контексте невозможно не уделить внимание антропологическому аспекту философских воззрений Сейида Кутба. Философ указывает, в частности, на аяты Корана, разъясняющие различные аспекты исламского взгляда на человека:
И указали Мы ему две дороги – добра и зла;
И повели его на две высоты (90:10);
Мы указали ему путь, благодарен он или неблагодарен (76:3);
Всякая душа есть залог того, что она заслужила (74:38);
Истинно, не меняет Аллах положения людей, пока не изменят они того, что в сердцах их (13:11).
Как и Али Шариати, египетский мыслитель уделяет особое внимание проблеме дуализма духа и глины в человеке, отмечая присущую ему двойственность натуры. В тафсире «В сени Корана» Кутб пишет: «Конкретно под двойственностью мы подразумеваем природу его существа (человек создан из глины, и Аллах вдохнул в него дух Его), поскольку человек в равной степени предрасположен к добру и злу, истине и заблуждению. Человек способен распознать, что есть добро и что есть зло, а также направить свою душу как к добру, так и к злу в равной степени»[56 - Кутб C. В сени Корана. С. 308. Комм. к суре 91 «Солнце».]. При этом человеку присуща и сознательность, способность к различению добра и зла, что влечет за собой не только индивидуальную, но и коллективную ответственность людей за свои поступки и судьбу. Кутб подчеркивает, что «это и есть свобода, которой соответствует ответственность, способность, сопряженная с трудом, и дарование с соответствующей обязанностью»[57 - Кутб C. В сени Корана. С. 309. Комм. к суре 91 «Солнце».]. Выбор человека в пользу одной из указанных дорог обусловлен внешними факторами, которые «пробуждают, обостряют и направляют такую предрасположенность в ту или иную сторону»[58 - Кутб C. В сени Корана. С. 309. Комм. к суре 91 «Солнце».]. Поскольку все эти факторы подчинены Аллаху как единственной подлинной реальности, выбор человека и его свобода ограничены божественной волей.
Данные положения антропологической концепции Кутба очень сильно напоминают аналогичные рассуждения Али Шариати о природе и миссии человека согласно Корану. Более того, подобно Шариати, Кутб обращает внимание на тот факт, что Аллах не предоставил человека самому себе, даровав ему послания, в которых содержатся основные предписания и заповеди, направляющие человека на путь добра. (Напомним, что Али Шариати, в целом соглашаясь с учением экзистенциалистов о свободе и ответственности человека, критиковал их за то, что они не объясняют, как воспользоваться данной свободой, в то время как ислам предоставляет ясные критерии различения добра и зла.) Что касается вопроса о миссии человека, то его трактовка Кутбом также весьма схожа с концепцией Али Шариати: человек является наместником Аллаха на Земле и должен быть исполнителем божественной воли в соответствии с теми откровениями, которые ему были ниспосланы. Сейид Кутб делает акцент на том, что если люди придерживаются пути, указанного Аллахом, то жизнь человеческого общества во всех ее аспектах находится в гармонии с миром, также существующим по божественным законам, а положение человека «становится даже выше, нежели статус ангелов». Однако человек, наделенный свободой воли и выбора, может и уклониться от следования шариату – в таком случае общество, избравшее этот путь, является джахилийским.
Таким образом, можно сделать вывод об исключительном сходстве антропологических концепций Сейида Кутба и Али Шариати, основанных на толковании текста Корана. Существуют и определенные точки соприкосновения между их онтологическими построениями. Так, и у Кутба, и у Шариати схватка между глиной и духом, добром и злом происходит исключительно внутри человека и общества. Природа же не только у Шариати, но и у Сейида Кутба едина и полностью подчинена Аллаху – как пишет египетский теоретик в тафсире «В сени Корана», «все сущее является воинством Аллаха»[59 - Кутб С. В сени Корана. С. 447 Комм. к суре 105 «Слон».]. Однако, в отличие от Али Шариати, Кутб проводит грань различения между Творцом и творением, всецело подчиненным, но вовсе не тождественным Аллаху. Сопоставляя и анализируя онтологические концепции этих двух исламских мыслителей, мы можем заключить, что не только Шариати, но и Кутб (безусловно, в меньшей степени, нежели Али) весьма уязвим с точки зрения исламской теологии. Так, размышления Кутба об универсальном законе, в которых отчетливо прослеживается линия на пропаганду возврата человека к природе, свидетельствуют о том, что теоретик ассоциации «Братьев-мусульман» является космистом, что в целом противоречит Корану, в котором говорится о том, что человек является наместником Аллаха на Земле. Возможно, Кутб как мыслитель проникся духом сочинений философов Просвещения, в частности Жан-Жака Руссо. Однако при том, что установка на космизм достаточно отчетливо выражена в работах Кутба, в его философии прослеживаются и иные, подлинно исламские мотивы. Начнем с того, что онтология Сейида Кутба в любом случае гораздо успешнее вписывается в рамки мусульманского строгого монотеизма, нежели пантеизм Шариати, который абсолютно несовместим с той картиной реальности, которая представлена в Коране. Кроме того, существуют и незаметные на первый взгляд отличия в трактовке двумя мыслителями символики глины и духа. Так, Али Шариати вовсе не придает значения тому аспекту интерпретации коранического текста, что глина является не только составляющей человеческой натуры, но и частью природы. Если Али Шариати толкует данный символ весьма ограниченно, то в концепции Сейида Кутба подспудно присутствует его более расширенная трактовка, причем она прослеживается не в размышлениях египетского философа об онтологии, а в его социальной теории. Конкретно речь идет об учении о джахилии, с анализа которого мы и начали сопоставление философских концепций Сейида Кутба и Али Шариати. Специфическая позиция Кутба, согласно которой все общества, за исключением подлинного мусульманского, которое, по мнению философа, существовало во времена Пророка (СААС) и в эпоху правления первых четырех халифов (Абу Бакра, Умара, Усмана и Али), однозначно являются джахилийскими и враждебными истинному исламу, и ныне имеет некий скандальный резонанс, вызывает много споров и служит причиной обвинения теоретика ассоциации «Братьев-мусульман» в излишнем радикализме и оголтелости. Али Шариати в данном контексте производит впечатление гораздо более вдумчивого автора, учитывая его проницательный анализ западных философских теорий нонконформистской и антибуржуазной направленности, идею о необходимости диалога между радикальным революционным исламом и левыми силами в мире и т. п. Однако и критики Сейида Кутба, и его апологеты, по всей видимости, в большинстве случаев обращают внимание только на поверхностный социальный аспект его концепции. Между тем в учении Кутба о джахилии, а также о группе революционно настроенных мусульман, порывающих с обществом и являющихся носителями программы его переустройства, просматривается скрытый онтологический подтекст (возможно, не вполне осознававшийся и самим Кутбом), сопряженный с тем более детальным осмыслением символа глины в Коране, которое отсутствует в философии Али Шариати. Этот подтекст становится еще более явным в свете анализа ряда особенностей кутбовского взгляда на ислам как революционную программу, не сходного с шариатистским восприятием мусульманства.
Ислам глазами Кутба и Шариати
В отличие от Али Шариати, Сейид Кутб делает акцент не на универсальности ислама, а на его уникальности и беспрецедентности. «Это [появление ислама] есть выдающееся событие в уникальный исторический момент – событие вселенского масштаба, которое завершило одну эпоху и ознаменовало начало новой эры на этой планете. Оно явилось поворотным судьбоносным моментом в истории всего человечества, а не в истории одной нации или одного поколения», – пишет теоретик ассоциации «Братьев-мусульман» в тафсире «В сени Корана»[60 - Кутб С. В сени Корана . С. 355. Комм. к суре 96 «Сгусток крови».]. Безусловно, в своих работах египетский мыслитель отмечает и универсальность мусульманского вероучения в следующих ее проявлениях. С одной стороны, по выражению Кутба, «ислам касается всех аспектов жизни человека, он подобен сильному, высокому дереву, чья тень простирается далеко и широко и чьи ветви достигают неба, и которое пускает корни глубоко в землю»[61 - Qutb S. Milestones. New Dehli, 1998.]. Кутб подчеркивает, что мусульманство «представляет собой целостную программу, и поэтому нормы поклонения, принятые в этой религии, находятся во взаимодействии с ее обрядами, а личные обязанности – с обязанностями общественными, и все это направлено на достижение того, что пойдет на пользу всем людям»[62 - Qutb S. Milestones. New Dehli, 1998.], поэтому все предписания Корана и Сунны обязательны для мусульман. С другой стороны, ислам выступает как революционное послание, предназначенное для всего человечества и не ограниченное какими-либо географическими или национальными барьерами. К слову, эта мысль явственно прослеживается и в философии Али Шариати. Однако идея о беспрецедентности и уникальности исламского послания является одной из основополагающих, сквозных для всего творчества Сейида Кутба. Он особо подчеркивает, что с приходом ислама «ход истории человечества изменился таким образом, примера которому никогда не было в прошлом, как и не случилось ничего подобного после этого», ибо «человек обрел свое новое рождение, получив с неба, а не на земле свои ценности и почерпнув свой Закон из Божественного откровения, а не по чьй-то прихоти»[63 - Кутб С. В сени Корана. С. 354. Комм. к суре 96 «Сгусток крови».]. Если Али Шариати полагал возможным и даже необходимым сопоставление ислама с определенными направлениями в западной философии (марксизмом, экзистенциализмом, маркузианством и т. д.), выявление точек соприкосновения мусульманства с данными учениями и тех преимуществ, которые имеет перед ними ислам, то Кутб сочел бы такое сравнение абсолютно некорректным и бессмысленным в силу ряда причин. Во-первых, египетский мыслитель настаивал на качественном отличии мусульманского вероучения от всех иных теорий на том основании, что ислам ниспослан человеку Аллахом и является составной частью действующих во Вселенной универсальных и непреложных законов, а все прочие идеологии изобретены людьми, которые не способны до конца познать эти законы, равно как и самостоятельно изобрести разумные и справедливые правила для организации жизни общества. Все те нормы, которые в основании своем имеют неисламские источники, Кутб автоматически относил в разряд джахилийских. Идеолог «Братьев-мусульман» весьма категорично писал в своих «Вехах» о том, что «существует только одна партия Аллаха, все прочие являются партиями Сатаны и неповиновения», и «есть только один закон, которому стоит следовать, и это – Шариат Аллаха, все остальное основано на эмоциях и импульсах», поскольку «существует только один путь к Аллаху, другие же дороги не ведут к Нему»[64 - Qutb S. Milestones. New Dehli, 1998.]. При этом Кутб вполне допускал, что джахилийские представления могут включать в себя и некоторые элементы истинности, что особенно характерно для верований, содержащих в себе осколки монотеистической традиции. Однако, по мнению Кутба, это не должно иметь для мусульман никакого значения, поскольку, как пишет египетский мыслитель в своем тафсире, «язычество есть язычество, а ислам есть ислам. Различия между ними велики, а единственным путем преодоления этих различий может стать только полный отказ от язычества и полное присоединение к исламу»[65 - Кутб С. В сени Корана.] – иными словами, противоречие между джахилией и исламом носит абсолютный характер (данный нюанс, кстати, также несет на себе подспудную онтологическую нагрузку). По убеждению египетского мыслителя, у мусульман не может быть никаких компромиссов с джахилией ни в теории, ни на практике, поскольку альтернатива такова: либо ислам, либо джахилия – их сосуществование исключено. Сейид Кутб полагал вполне приемлемым и, более того, полезным для мусульман заимствовать лишь научные и технические достижения западной цивилизации, поскольку они основаны на экспериментальном методе, активно использовать который в Европе начали в эпоху Возрождения и позднее в Новое время. Кутб отмечает, что успешно применяемый в научных исследованиях экспериментальный метод был заимствован Западом именно у мусульман, поскольку на нем были основаны процветавшие в Халифате науки. Кроме того, в соответствии с концепцией самого Кутба, естествознание базируется не на изобретении, а на открытии объективных законов природы, созданных Аллахом, а потому не важно, занимается данными исследованиями мусульманин или представитель какой-либо иной конфессии либо неверующий. Однако, по мнению Сейида Кутба, обращение мусульман к наследию западных гуманитарных дисциплин абсолютно недопустимо, ибо «философия, интерпретация истории, психология (за исключением тех результатов наблюдений и экспериментов, которые не основаны на чьем-либо мнении), этика, теология и сравнительное религиоведение (кроме статистики и наблюдений) – все эти науки в прошлом формировались и в настоящем развиваются под влиянием джахилийских верований и традиций»[66 - Qutb S. Milestones. New Dehli, 1998.]. Во-вторых, существует еще один уже упомянутый аспект восприятия Кутбом джахилии: так, она – не теория, а способ организации общества, характеризующийся существованием определенных политических институтов, экономических отношений, традиций и уклада жизни людей. Различные теории лишь оправдывают существующие в обществе отношения. Ислам, в свою очередь, тоже является не абстрактной системой представлений, а программой переустройства общества, имеющей практическую направленность (что, кстати, постулировал и Али Шариати), точно так же как Коран представляет собой не источник информации о мире, а руководство к действию, инструкцию по претворению данной программы в жизнь. В соответствии с этим Кутб поясняет, что задача мусульман заключается не в том, чтобы критиковать джахилийские взгляды и представления, а в том, чтобы, ознакомив людей с исламом как революционной программой, уничтожить существующую систему отношений, основанную на эксплуатации человека человеком и социальной несправедливости. Любопытно, что данный тезис Кутба, которого никто бы не назвал исламским марксистом (так зачастую идентифицировали Али Шариати) и который решительно отвергал попытки какого-либо отождествления ислама с марксизмом, социализмом, напоминает определенные положения философии Маркса, полагавшего, что реальная борьба заключается вовсе не в критике философских, политических либо правовых концепций, ибо он считал их всего лишь надстройкой по отношению к экономическому базису, в основе которого лежат определенные производственные отношения, сопряженные со способом производства. Конечно, сходство отдельных постулатов в концепциях двух столь разных философов весьма условно, поскольку Сейид Кутб считал такого рода рассуждения корректными лишь в отношении джахилийских теорий и представлений, утверждая при этом, что подлинная мораль находится вне зависимости от окружения, экономической и политической системы, ступени развития того или иного общества. Тем не менее наличие в творчестве Кутба скрытых параллелей с марксизмом, экзистенциализмом – т. е. с теми течениями в западной философии, которые впоследствии Али Шариати рассматривал в качестве близких исламу по некоторым параметрам учений, – факт интересный и заслуживающий внимания. Во-первых, это открытие заставляет лишний раз задуматься об истоках европейской философской мысли, в особенности антибуржуазной, протестно-нонконформистской направленности. Во-вторых, в данном контексте, как и в случае с онтологией Кутба, легко продемонстрировать специфику его концепции. Так, при беглом и не вполне вдумчивом ознакомлении идеолог ассоциации «Братьев-мусульман» может показаться автором довольно прямолинейным, категоричным и резким в оценках, а его теория – внутренне целостной и излишне упрощенной. Тем не менее более детальный анализ выявляет всю глубину и неоднозначность философии Кутба, которая гораздо сложнее, чем это поначалу представляется, поскольку она содержит в себе множество интересных пластов и в то же время не свободна от достаточно глубоких внутренних противоречий и серьезных изъянов. Учитывая высокую вероятность влияния Сейида Кутба на Али Шариати, этот факт становится еще более примечательным, поскольку не исключена возможность того, что иранский мыслитель заметил некоторые сокрытые в философии Кутба мотивы, и они получили определенное развитие в его собственной концепции, инспирируемое и подкрепляемое обучением в Сорбонне и личным общением с маститыми европейскими философами и интеллектуалами. В данном контексте становится актуальным и вопрос об антропологии Кутба и Шариати, поскольку, как уже упоминалось, размышления о человеке обоих мыслителей похожи и основаны на интерпретации текста Корана. В то же время Шариати отмечает сходство между коранической антропологией и учением экзистенциалистов о человеке. В связи с этим любопытно отметить, что «экзистенциалистские» мотивы в творчестве Кутба также присутствуют, и не только в антропологии. Например, египетский теоретик пишет о том, что сподвижники Пророка, воодушевленные мусульманской верой, сами превратились в живое воплощение идей ислама, а Коран стал частью их личности. Напомним, что Али Шариати выдвигает сходные тезисы в работах «Джихад и шахадат», «Красный шиизм и черный шиизм», анализируя роль членов семьи Пророка (Али, Фатимы, Хасана, Хусейна, Зейнаб) в истории раннего ислама и отмечая, что они обрели свое подлинное существование в качестве идеи (в частности, Хусейн находит его, выбирая шахадат). При этом иранский мыслитель осознанно использует терминологию экзистенциализма и апеллирует к определенным положениям данного направления в философии. Кутб, в свою очередь, пользуется той же самой терминологией в отдельных главах своего тафсира – видимо, неосознанно. Например, в комментарии к суре «Слон» мыслитель пишет, что арабы стали «существовать по-настоящему», когда перестали ориентироваться на единство по крови и приняли ислам. Неизвестно, изучал ли Кутб труды философов-экзистенциалистов, однако наличие определенных параллелей, как и в случае с марксизмом, вполне очевидно.
Однако вернемся к вопросу о специфике кутбовского восприятия ислама. Как уже было отмечено в начале нашего исследования, Сейид Кутб настаивает на необходимости возрождения первоначального мухаммедовского ислама, и это положение является одним из краеугольных камней его концепции. Кутб, как и Шариати, делает акцент на практическом измерении возрождения ислама, говоря о необходимости организации мусульманского политического движения, члены которого должны являться носителями исламской революционной программы преобразования общества. Однако, в отличие от Али Шариати, Кутб не уделяет особого внимания таким аспектам возрождения ислама, как реформа мусульманского теологического образования, необходимость расширенного применения иджтихада и т. п. Более того, Кутб, признавая возможность применения иджтихада в отношении вопросов, на которые нет ответа в Коране и Сунне, в целом считал вредным излишнее увлечение проектами реформирования мусульманского права и расценивал их активное обсуждение как занятие гипотетическими проблемами, за которым скрывается отвлечение от реальных и насущных задач. В свете этого становится актуальным вопрос о движущих силах революции, о средствах ведения борьбы (в первую очередь о джихаде), а также о сущности исламакак политической идеологии и целях мусульманского движения.
Мусульманский революционный авангард и исламское возрождение
Возрождение подлинного ислама и образование мусульманского политического движения должно начаться, по мнению Кутба, с формирования исламского революционного авангарда, предназначенного для борьбы с джахилией. В данном контексте налицо различия между политическими воззрениями Али Шариати и Сейида Кутба. Если Шариати воспринимал ислам как революционную идеологию обездоленных масс, осознавших свое бедственное положение и восставших против тирании под руководством обладающего знанием лидера, то Кутб говорит не о массовом движении, а о группе избранных, объединяющихся на основе веры и порывающих с джахилийской системой с тем, чтобы сокрушить ее. Возникновение данного авангарда, с точки зрения Кутба, имеет в качестве отправной точки осознание его членами своей общности не на расовой и национальной почве, а на основе веры. Кутб констатирует тот факт, что с появлением ислама «эта приверженность – приверженность происхождению – закончилась, и этот девиз – девиз расы – умер, и эта гордость – гордость национальностью – исчезла»[67 - Qutb S. Milestones. New Dehli, 1998.]. Ислам не приемлет ни национализма, ни почвенничества, он отвергает общность по крови, по принадлежности к определенному племени, к какой-либо нации, он не принимает в расчет происхождение, ибо «освободил все человечество от земных оков, чтобы тот мог воспарить в небесах»[68 - Qutb S. Milestones. New Dehli, 1998.]. Поэтому единственной формой подлинного родства провозглашается общность по вере. Кутб поясняет, что, вне всяких сомнений, мусульманин может проявлять добрые чувства к своим родителям-немусульманам, относиться к ним с любовью и признательностью, но только при условии, что они не являются врагами его религии. Именно интересы ислама, а не семьи, племени, государства должны быть для мусульманина первичными. А ислам, в свою очередь, – «это не несколько слов, произносимых лишь языком, и не рождение в стране, называемой исламской, и не наследство, полученное от отца-мусульманина»[69 - Qutb S. Milestones. New Dehli, 1998.]. Это последовательное исповедание единобожия и подчинение только Аллаху во всех сферах деятельности. Кутб убежден, что вера не может выражаться только на словах, она должна подкрепляться конкретными поступками, проявляться в образе жизни. И формируемый революционный авангард должен состоять именно из мусульман, готовых к таким реальным действиям, а именно: готовых порвать с джахилийским окружением. В связи с этим Кутб разрабатывает концепцию хиджры[70 - В исламской терминологии под хиджрой прежде всего понимают переселение Пророка и его сподвижников (мухаджиров) из Мекки в Медину, которое произошло в 622 году.] – ухода из общества группы людей, берущих на себя миссию возрождения ислама, ниспровержения власти людей над людьми и установления правления Аллаха. Мусульмане – члены этой группы должны порвать со всем тем, что может связывать их с джахилией. Что же конкретно представляет собой джахилия в современном мире? Все те общества и государства, которые не исповедуют религию единобожия и не следуют предписаниям шариата, Кутб относит в разряд джахилийских. Это все государства с капиталистическим и социалистическим строем, примитивные языческие общества, по сей день встречающиеся в Индии, Японии, на Филиппинах и в Африке, а также все сегодняшние иудейские и христианские общества. Помимо этого, джахилийскими по сути своей являются и правящие режимы в исторически мусульманских странах – несмотря на то, что официальные власти могут на словах заявлять о своей принадлежности к исламу. Кутб с горечью констатирует, что «великие религии стали жертвой тех, кто попирал самые их основы и использовал их для различных злоупотреблений, превратившись в игру, участие в которой принимают преступники и лицемеры, и дело дошло до того, что если бы первые последователи этих религий воскресли, то они не узнали бы их»[71 - Qutb S. Milestones. New Dehli, 1998.]. Подобная печальная участь постигла все авраамические религии – и иудаизм, и христианство, и ислам, нуждающийся теперь в возрождении. Основную проблему Кутб здесь видит не только в том, что эти религии стали жертвой чьих-либо корыстных умыслов, но и в том, что их последователи перестали ощущать себя носителями послания, обращенного ко всему человечеству, забыли о своей особой миссии и погрузились целиком и полностью в омут повседневности. Исламский авангард должен вспомнить об этой миссии и взять на себя задачу возрождения ислама в его первозданной чистоте, при этом противодействуя джахилии. Джахилия проявляет себя в разных формах, но в любом случае мусульманский революционный авангард должен вести с ней борьбу.
«Джихад во имя Аллаха» (Кутб о средствах ведения борьбы)
В данном контексте необходимо рассмотреть вопрос о джихаде, досконально проработанный Сейидом Кутбом, чего не скажешь об Али Шариати, который гораздо больше внимания уделял проблеме смысла шахадата. Стоит отметить, что Кутб, конечно, упоминает о шахадате. Египетский мыслитель призывает мусульман быть готовыми к мученичеству за веру, напоминая им о грядущем вознаграждении и неизбежном суровом наказании угнетателей и тиранов не только в будущей, но и порой в этой жизни. Однако у Сейида Кутба нет столь детальной проработки темы шахадата, как у Али Шариати, зато вопрос о джихаде который Шариати назвал «славой ислама», теоретик «Ихван-аль-муслимин» рассматривает в качестве одного из главнейших. Глава «Джихад во имя Аллаха» целиком взята из тафсира, поэтому неудивительно, что Кутб разъясняет аяты Корана, в которых говорится о джихаде, подробно освещает его правовые аспекты. Египетский мыслитель констатирует разделение всех людей на мусульман и немусульман. Люди, не исповедующие ислам, с правовой точки зрения образуют три основные группы: это, во-первых, «люди договора», т. е. те неверные (многобожники), с которыми заключен договор о мире, во-вторых, враги ислама, с которыми мусульмане находятся в состоянии войны, и, наконец, дхиммии, то есть люди Писания (иудеи и христиане). Последние находятся под протекцией исламского государства, и мусульмане обязаны уважать их религию и защищать их права при условии, что они ведут себя корректно. В случае выражения открытой неприязни и враждебного настроя по отношению к исламу со стороны дхиммиев мусульмане должны вести против них войну. Что касается тех неверных, с которыми заключен договор, то мусульмане находятся с ними в состоянии мира, если неверные соблюдают условия данного договора. В случае нарушения договора неверными (многобожниками) им должно быть дано предупреждение, затем мусульманам необходимо выжидать четыре месяца и только после этого начинать войну. В целом же Кутб указывает, что людей, с которыми заключен договор, также можно разделить на три категории. К первой группе следует относить тех неверных, которые нарушили договор или не выполняли его условий, ко второй – людей, выполняющих условия договора, к третьей – неверных, не заключивших договор с мусульманами, но тем не менее и не проявляющих к ним какой-либо неприязни. Как поясняет Кутб, последним нужно дать четыре месяца на размышления о принятии ислама либо заключении договора о мире с мусульманами, и в случае их отказа вести с ними войну. Таким образом, египетский мыслитель приводит следующую более точную классификацию. Он отмечает, что всех людей с позиции их враждебности или дружественности по отношению к исламу можно разделить на три основные группы: мусульмане, дхиммии (люди Писания, то есть иудеи и христиане), а также те из неверных, с которыми заключен договор о мире, и противники ислама. Далее Кутб рассматривает вопрос собственно о джихаде, его сущности и задачах. Сейид Кутб критикует расхожее мнение о джихаде как исключительно оборонительной войне против агрессии в отношении родной страны мусульманина. Принимая во внимание тот факт, что ислам признает значимым лишь братство по вере, а не общность по крови, этнической принадлежности, в то время как правящие режимы в называемых мусульманскими странах де-факто являются джахилийскими, Кутб ставит вопрос о том, как нужно понимать термины Дар-уль-ислам[72 - Дар-уль-ислам – «обитель ислама», территория, на которой действуют законы шариата.] и дар-уль-харб[73 - Дар-уль-харб – «область войны», область, враждебная по отношению к исламу и мусульманам.] в современном мире. Так, египетский мыслитель утверждает, что подлинной родиной для мусульманина является лишь исламское государство, управляемое по законам шариата, это и есть Дар-уль-ислам. Дар-уль-харб же включает в себя джахилийские государства, тиранические и враждебные как для мусульман, так и для дхиммиев. В соответствии с этим джихад следует понимать прежде всего как борьбу против джахилийских политических режимов, против Дар-уль-харб. Важно отметить, что при этом Кутб подчеркивает, что цель джихада заключается не в том, чтобы заставить всех людей принять ислам, а в том, чтобы изменить окружение, условия жизни, в результате чего люди станут свободны в выборе верований. Таким образом, джихад в понимании Кутба – это борьба против общественных отношений, основанных на эксплуатации людей людьми, задача джихада – уничтожение политических режимов, базирующихся на угнетении. При этом Кутб отмечает, что, вне всякого сомнения, джихад имеет побочное значение оборонительной войны. По глубокому убеждению теоретика «Ихван-аль-муслимин», джахилия не преминет атаковать молодое крепнущее исламское государство, а поэтому мусульмане должны быть готовы к защите своей подлинной родины. Однако при всем этом подобная интерпретация джихада в чистом виде является ограниченной и неверной, не отражающей подлинных целей священной борьбы мусульман.
Кутб о целях мусульманского политического движения и сущности ислама как революционной программы
Каковы же, в конечном итоге, цели исламского политического движения и каким образом Кутб определяет сущность мусульманства? В глобальном онтологическом аспекте «суть этой программы состоит в том, чтобы поклоняться одному лишь Аллаху, поскольку реально существует только Он один, реально действует только Он один и только Его воля способна оказывать влияние на все происходящее»[74 - Кутб С. В сени Корана. С. 514. Комм. к суре 112 «Чистота веры».]. Кутб отмечает, что в соответствии с мусульманским учением о бытии просто бессмысленно поклоняться кому-либо или чему-либо помимо Аллаха, поскольку нет никакой пользы в устремлении к тому, что не существует реально и не может оказать никакого воздействия на происходящее. Однако это ни в коем случае не означает, что мусульманин должен с неприязнью относиться ко всему сотворенному Аллахом, равно как отстраняться от него и пренебрегать земной жизнью, ибо все это дано Аллахом и подчиняется универсальному закону. Кутб подчеркивает, что освобождение от оков сущего необходимо понимать как «постоянство попыток и непрерывность борьбы, целью чего является возвышение всех людей и обеспечение свободы человеческой жизни»[75 - Кутб С. В сени Корана. С. 514. Комм. к суре 112 «Чистота веры».].
В свете этого возникает вопрос о практическом воплощении данной программы в действительность и ее политическом смысле. Кутб поясняет, что основная задача ислама как политической идеологии заключается в том, чтобы уничтожить власть одних людей над другими и установить правление Аллаха. Кутб использует в данном случае особый термин – «суверенитет Аллаха», на который посягнули люди, установившие законы собственного изобретения. Здесь автор нашего исследования считает необходимым дать собственный комментарий к данному тезису египетского мыслителя. Кутб очень точно определил сущность мусульманского вероучения, ибо центральным для ислама является вопрос о власти. Дело в том, что в целом под единое понятие «религия» подводятся зачастую весьма несхожие концепции с подчас противоположным содержанием и несовместимыми идеями. Собственно, понятия, обозначающие в различных языках то, что принято называть «религиями», вовсе не являются синонимами и не тождественны друг другу (не говоря уже о том, что даже этимология латинского термина «религия» вызывает много споров). Именно поэтому универсальное определение религии дать весьма затруднительно, а в современном религиоведении вопрос о выделении единых критериев для отнесения тех или иных явлений духовной сферы к религии не имеет однозначного ответа. Так, арабское понятие «дин», которое употребляется применительно к исламу, вряд ли имеет какое-либо отношение к латинским словам religio («благочестие», «набожность», «святыня», «предмет культа», «восстановление связи»), relegere («вновь собирать», «приступать к новому выбору», «обратиться к прежнему синтезу, чтобы его переделать»), religare («связывать воедино»). Термин «дин» означает «власть»,«закон»,«подчинение», иные же слова, употребляющиеся по отношению к исламу – иман («вера»), ислам («предание себя Аллаху»), ихсан («истовость», «чистосердечие») – объединены общим понятием «дин», поясняют его и конкретизируют. Именно поэтому определение Кутбом сущности ислама как политической программы, направленной на замену власти людей правлением Аллаха, более чем адекватны мусульманскому вероучению и семантике исламской терминологии. В данном контексте высвечивается еще один подспудный аспект кутбовского тезиса об уникальности ислама: он в корне отличается от иных конфессий, не может находиться в одном ряду с прочими религиями. Строгое единобожие, присущее исламу, – главный, но не единственный критерий различения мусульманства и иных вероисповеданий. Дело в том, что лишь исламу изначально и имманентно присуще политическое измерение. Вполне очевидно, что расхожее клише «политизация ислама» является в научном отношении, мягко говоря, неуместным, ибо употребляющие его совершенно не учитывают семантики арабского термина «дин» и его отличия от значения слова «религия» в его современном понимании. В связи с этим стоит вспомнить высказывание имама Хомейни: «Клянусь Аллахом, что весь ислам – это политика». Неразделимость ислама и политики является не «злостной» выдумкой «коварных» мусульманских фундаменталистов, а сущностной характеристикой исламского вероучения. Априорная связь ислама с политикой, конечно, сопряжена с универсальностью мусульманства, которое объемлет все сферы человеческой жизнедеятельности, в том числе и политику. Однако объяснять принцип единства ислама и политики исключительно тем, что вопросы политики и управления находятся в компетенции фикха наряду с иными проблемами, что мусульманство и эту тему не оставляет без внимания, было бы ошибкой. Тот же аятолла Хомейни, например, не воскликнул, что ислам в целом – это экономика или что весь ислам – это мораль. Связь ислама и политики может быть полноценно объяснена лишь с учетом уникальности мусульманского вероучения, в котором вопрос о власти является самым главным, основополагающим, что и было отмечено Сейидом Кутбом. Безусловно, он не проводит исследования значения терминов, не анализирует понятие «дин», не рассуждает пространно о связи ислама и политики. Тем не менее в нашем исследовании уже упоминалось, что Кутб многого не проговаривает, существуют скрытые пласты, которые зачастую представляют собой особую ценность – гораздо большую, нежели явные, «лежащие на поверхности» идеи мыслителя.
В своих работах, в частности, в книге «Вехи на пути» Кутб предлагает собственную интерпретацию идеи о необходимости установления правления Аллаха. Сейид Кутб особо подчеркивает, что под суверенитетом Аллаха ни в коем случае не следует понимать приход к власти духовенства и правление клерикалов. Как пишет мыслитель в своих знаменитых «Вехах», «в исламе нет „церкви“, никто не может выступать от имени Аллаха, кроме Его Посланника»[76 - Qutb S. Milestones. New Dehli, 1998.]. Данный тезис, вне всякого сомнения, является одной из наиболее сильных сторон философии Кутба, и в вопросе о церкви он солидарен с Али Шариати. Однако стоит отметить, что при этом антиклерикализм Шариати в определенной степени гораздо более продвинут, нежели антиклерикализм Кутба. Так, Али Шариати не просто постулирует отсутствие института церкви в исламе, но и отмечает особую роль клерикалов в искажении таухидной религии и ее вырождении в ширк, что особенно актуально в свете бюрократического предательства Исламской революции в Иране. Кутб же говорит просто о забвении законов ислама и обращении к джахилийским нормам и традициям. Египетский теоретик, конечно, поясняет, что они основаны на корыстных человеческих устремлениях, что великие религии стали жертвой корыстных интересов лицемеров, но в данном контексте он практически не рассматривает специально вопрос о жрецах как об особой касте, способствующей институциализации таухидной религии, загниванию любой живой и творческой инициативы. Таким образом, в критике клерикализма пальма первенства принадлежит Али Шариати. Тем не менее определенное преимущество есть и у Кутба, ибо он не был вынужден выступать в защиту отдельных представителей духовенства, к чему приходилось порой прибегать Шариати с целью избежать раскола в оппозиции шахскому режиму. Кутб был намного менее скован внешними обстоятельствами, нежели Али Шариати, и замечание египетского теоретика о том, что учреждение власти Аллаха вовсе не подразумевает правления клерикалов, уже само по себе ценно.
Раскрывая суть понятия «суверенитет Аллаха», Кутб поясняет, что под его установлением следует понимать построение исламского государства, функционирующего по законам шариата. В книге «Вехи на пути» теоретик ассоциации «Братьев-мусульман» дает следующее определение: «Под шариатом Аллаха подразумеваются все законы, предписываемые Аллахом для человека; он включает в себя принципы веры, принципы управления и правосудия, принципы морали и человеческих взаимоотношений и принципы знания»[77 - Qutb S. Milestones. New Dehli, 1998.]. Общество, живущее по законам шариата, является в полном смысле слова цивилизованным и, в соответствии с космистскими взглядами Кутба, находится в гармонии с универсальным законом Вселенной, пульсирует с ней в едином ритме.
Политическое и экономическое устройство исламского государства в соответствии с проектом Кутба
Каково же политическое устройство исламского государства в соответствии с проектом Кутба? Египетский теоретик является приверженцем идеи Халифата (напомним, что Кутб является представителем суннитской возрожденческой мысли) и, естественно, расходится в данном вопросе с Али Шариати. По мнению египетского мыслителя, правитель в исламском государстве должен избираться мусульманами и находиться у власти при условии неукоснительного следования законам шариата, а также соблюдению принципа совещательности («шура»). Таким образом, Сейид Кутб является адептом суннитской концепции власти. В качестве социального идеала Кутб призывает рассматривать исламское государство времен Пророка Мухаммада (СААС) и первых четырех халифов ислама (Абу Бакра, Умара, Усмана и Али). С точки зрения теоретика «Ихван-аль-муслимин», эпоха «праведных халифов» осенена особой благодатью, ибо сопряжена с существованием уникального коранического поколения. Под этим поколением Кутб имеет в виду Пророка Мухаммада (СААС) и его сподвижников, для которых «Священный Коран был единственным источником, из которого они утоляли свою жажду, и он был единственным ориентиром, на который они равнялись в своей жизни»[78 - Qutb S. Milestones. New Dehli, 1998.]. По убеждению Кутба, все эти люди были чисты в своих помыслах и посвятили жизнь беззаветному служению делу ислама, ничего не требуя лично для себя; они всегда руководствовались Кораном и Сунной и стали олицетворением мусульманской веры. Понятно, что в данном вопросе Али Шариати не мог быть полностью солидарен с Сейидом Кутбом, поскольку Шариати, безусловно, счел бы подобную характеристику совершенно справедливой и корректной лишь по отношению к Ахл-аль-бейт, к непорочным имамам шиизма, но никак не ко всем сподвижникам Пророка. Если Кутб всячески превозносит Халифат в качестве образца общественного устройства и высшего достижения цивилизации, то Али Шариати призывает поставить «клеймо „запрещенный“, „недостойный доверия“ и „лишенный права владения“ на лбу Халифата»[79 - Shariati Ali. Red Shi'ism: religion of martidrom. Black Shi'ism: religion of mourning.], что характеризует его как гораздо более радикального и продвинутого в социальном отношении мыслителя.
Одной из основ правления в мусульманском государстве Кутб называет принципсправедливости. Египетский мыслитель подчеркивает, что эксплуатация человека человеком, безусловно, является атрибутом джахилии. Кутб поясняет, что исламская экономика зиждется на неукоснительном исполнении предписаний шариата, а также на принципе социальной справедливости. Однако при этом Кутб, в отличие от Али Шариати, не призывает мусульман к построению бесклассового общества. Идеолог «Ихван-аль-муслимин» отвергает и капиталистический, и социалистический пути общественного и экономического развития, квалифицируя их в качестве джахилийских. По мнению Кутба, вся собственность в исламском государстве должна принадлежать умме. Члены мусульманской общины обладают правом пользоваться этой собственностью при условии, что умма берет этот процесс под контроль. Что касается частной собственности, то Кутб считал вполне допустимым ее сохранение, с той оговоркой, что для ее создания владелец должен использовать личный, а не наемный труд, а рабочим выплачивается достойная заработная плата, составляющая не менее половины прибыли. Важной задачей при этом является недопущение чрезмерной концентрации капитала, возникновения монополий, образования пропасти между богатыми и бедными. Поэтому, во-первых, Кутб настаивал на том, что крупная промышленность и ведущие отрасли производства должны принадлежать к государственному, а не к частному сектору экономики, а прибыль от них должна поступать в народную казну. Во-вторых, в данном случае Сейид Кутб полагал наиболее эффективным механизм закята (налога, взимаемого с наиболее обеспеченных членов общества в пользу малоимущих). Закят является третьим столпом ислама и выступает в качестве одного из главных принципов мусульманской экономики, настаиваюшей на необходимости справедливого распределения доходов в исламском государстве. Кутб подчеркивает, что введение системы налогообложения, основанной на взимании закята, позволит избежать излишнего имущественного расслоения и опасной концентрации капитала.
По мнению идеолога ассоциации «Братьев-мусульман», закят должен использоваться исламским государством для финансирования социальной сферы. В результате взимания закята в мусульманском обществе не будет ни слишком богатых, ни слишком бедных, ни ужасающей нищеты, ни чрезмерной роскоши, и всем людям будет обеспечено достойное существование. Кутб также обращает внимание на такие меры, предписываемые исламом, как введение запрета на ростовщичество и спекуляцию, недопущение получения прибыли от чего-либо недозволенного шариатом (торговли алкоголем и наркотиками, игорного бизнеса, проституции и т. п.). В связи с этим Кутб считает необходимым создание исламских банков, дающих беспроцентные ссуды, а также касс помощи обездоленным. Стоит отметить, что указанные меры были предприняты в Иране после Исламской революции, а экономические воззрения Кутба напоминают взгляды имама Хомейни на исламскую экономику. Напомним, что последний, в свою очередь, выступал с резкой критикой в адрес Шариати с его тезисом о построении бесклассового общества и «заигрываниями» с марксизмом. Таким образом, в социальном и экономическом отношении Сейид Кутб стоит на куда более умеренных позициях, нежели Али Шариати.
Заключение
Подводя итог проведенному сравнению, можно сделать заключение о том, что и Сейид Кутб, и Али Шариати как мыслители имеют свои преимущества и недостатки друг перед другом. У их концепций достаточно много точек соприкосновения, что неудивительно, учитывая их принадлежность к стану идеологов исламского возрождения. Кутб как мусульманский философ намного более корректен с точки зрения исламской теологии и онтологии, нежели Шариати, однако последний, безусловно, выигрывает у египетского мыслителя как социально-политический теоретик. Тем не менее мы вынуждены констатировать, что, в отличие от шариатистского дискурса, кутбизм в чистом виде сегодня не может быть востребован. Определенные положения концепции Кутба не просто устарели, но и являются откровенно вредными. Во-первых, они способствуют цивилизационной и политической изоляции мусульман, в действительности работая на хантингтоновский проект столкновения цивилизаций, на создание непробиваемой стены между мусульманами и немусульманами. Во-вторых, налицо препятствование столь необходимому диалогу между радикальным исламом и левыми силами в мире, актуальность которого осознал Али Шариати. В-третьих, Кутб, в отличие от Шариати, ориентируется исключительно на группу избранных, порывающих с обществом и создающих некую жестко структурированную организацию, а не на мобилизацию исламской улицы, имеющей огромный потенциал политического протеста, – тем более, что сегодня мусульманские низы все активнее поднимаются на борьбу с существующим миропорядком и все более явной становится тенденция к их консолидации с нонконформистски настроенными немусульманами. В-четвертых, Кутб является халифатистом, что тоже снижает его рейтинг по сравнению с Шариати. Означает ли все это, что теоретическое наследие Кутба вынуждено пылиться в архиве истории исламской политической мысли, целиком и полностью утратив свою актуальность? Разумеется, нет. Во-первых, Сейид Кутб был совершенно прав, когда говорил, что «необходимо знать вехи на пути». Творчество Кутба представляет особый интерес как для самих мусульман, так и для исследователей исламской политической мысли (могущих и не быть мусульманами), ибо олицетворяет чрезвычайно важный этап развития современной идеологии политического ислама и мусульманского возрождения. Во-вторых, как уже неоднократно упоминалось, философия Кутба содержит в себе множество скрытых пластов, и их тщательный анализ представляется весьма небесполезным занятием. В любом случае, шахид ислама, философ и политический деятель такого масштаба, как Сейид Кутб, никак не заслуживает забвения.
Беседа вторая (Москва, март 2003 г.)
Участвовали Г. Джемаль, А. Кузнецов, А. Ежова, А. Шмаков, М. Трефан
Гейдар Джемаль. Существовало два полюса политического нонконформизма. Один из них базировался на КПСС с международным отделом ЦК, которая была в постоянном сговоре и диалоге с капиталистическими странами и империалистической верхушкой. Другой был представлен маргинальными мыслителями, говорящими о религиозной революции (в том числе Али Шариати и Кутбом), «теологией освобождения» (т. е. католическими священниками, ставшими в основном на сторону партизан, от которых Ватикан поначалу полностью отрекся) и протестантским «дискурсом совести». Вдруг происходит обрушение Советского Союза и марксистского дискурса. И революционная тематика с религиозной мотивацией, бывшая периферийной, приобрела статус единственной, т. к. легальный благообразный марксизм, Фишер, «зеленые», правозащита и пацифизм – все это уже полумафиозные полумасонские клубные дела, которые никого уже не интересуют и которых никто не боится.
Христианская оппозиция, по сравнению с Исламской революцией, выглядит, конечно, бледно. Сделать писания Святых Отцов фундаментом социальных аспектов «теологии освобождения» весьма проблематично. Можно возводить ее непосредственно к Евангелию, – такого рода пафос был остро отмечен Достоевским и Розановым[80 - Розанов, Василий Васильевич (1856–1919) – русский философ и литературовед, применивший близкий к ницшеанскому метод «исповедального ассоциатива». Независимо от Фрейда открыл в литературоведении тему психологии. На практике пытался реализовать архетипические модели духовного инцеста, женившись на последней любовнице своего «метафизического отца» Ф.М. Достоевского.], – но тогда возникает определенный разрыв с догматикой исторического христианства.
Человечество нуждается в едином протестном языке, которым двести лет был марксизм. Чем он был хорош? Человек мог быть меньшевиком, большевиком, социал-демократом, либералом, французом, индийцем – но все они встречались и понимали друг друга. Сейчас этот язык обесценился, став дурным мифом вчерашнего дня, но потенциал протеста остался, и конфликтность стала еще более высокой, чем пятьдесят лет назад, когда СССР сдавал протестные движения на Западе. Сегодня фактора Москвы нет, и ничто не мешает амплитуде протеста расти, кроме отсутствия общего языка.
Я считаю, что религия, которую Маркс объявил прикрытием экономических стимулов, всегда являлась пружиной социального конфликта – во времена Платона, в Средние века, в эпоху Возрождения. Как правило, революцию организовывали пассионарные элементы нижнего слоя господствующего класса. Вера Засулич и другие вполне прилично «упакованные» барышни стреляли в генерал-губернаторов и шли на каторгу. Понятно, что народовольцы и большевики были крипторелигиозны. Марксизм и был обречен из-за конфликта марксистского дискурса и религиозных инстинктов.
Маркс был очень образованным человеком, и чем больше он рефлектировал, тем больше он камуфлировал. Зачем был нужен материализм? Потому что задачей номер один был разгром клерикальной касты. Но менталитет людей был организован таким образом, что «расклеить» религию и клерикализм было тогда невозможно. Нельзя было сказать, что попы узурпировали религиозную истину. Они контролировали эту тему, и, только ударив по самой теме, можно было нанести удар по социальным позициям касты.
Но сейчас ситуация изменилась, и существует запрос интеллектуальных нонконформистских сил на то, чтобы развести два этих фактора. О том, что этот запрос пробивает себе дорогу, свидетельствует феномен ваххабизма. Конечно, ваххабизм неоднороден, в нем есть разные сегменты и, говоря об антиклерикализме, я имею в виду его салафитское крыло.
В то же время поповщина остается сильнейшим организационным элементом с точки зрения мировой корпоративной олигархии, связанной с высшими эшелонами экуменического духовенства. Она продолжает оказывать сильнейшее влияние на коллективное бессознательное – через культуру, психоанализ, массу подстав и заглушек – на мелкую буржуазию…
Государство имеет два компонента – силовой и аппаратный. Однако силовой компонент может существовать вообще без государства. Главной идеей Ленина было уничтожение государства, а на пути к этому – надо было государство использовать. Но после 1921 г. Ленин был отстранен от руководства страной, и его болезнь была предлогом для его изоляции. Для него даже печатали специальные экземпляры газеты «Правда» с его статьями, а реальные выпуски выходили без этих статей или с сокращениями. Он быстро потерял политическую инициативу.
Система советов – это великая идея, имеющая религиозные корни. Но сами советы не были однородны, и размежевание советов и партии привело к тому, что внутри партии победило бюрократическое ядро, борьба за мировую революцию превратилась в борьбу за то, чтобы сохранить эту «площадку» под себя – что сейчас и произошло в Иране…
Нас интересует, насколько религиозный пафос может обеспечивать социальную критику и быть самодостаточным мотивом для непримиримого отношения к истеблишменту.
Что такое, например, джамаат? Это религиозное братство. Но не монашеский орден, не институт, не воля к пролонгации, а воля анонимных индивидуумов, собранных Провидением здесь и теперь, к реализации финальности этого мира. Иными словами, это не братья через жизнь, а братья через смерть. И абсолютно метафизический фактор становится конкретно политическим. Смерть, понятая как единая точка всех, собравшихся в коммуну, становится основой политической воли.