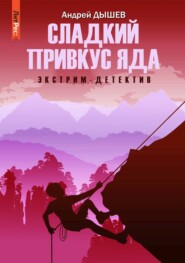скачать книгу бесплатно
Я снова задрал голову, подтянулся на ледорубе, царапая кошками стену, и чудом сумел ухватиться за свободный ото льда карниз. Потом произвел какой-то немыслимый акробатический трюк и закинул на карниз ногу.
– Гора слушает! – хрипло произнес я в микрофон, сорвав с лица кислородную маску.
– Где вы опять застряли, сэр? – вопил под карнизом Бадур.
Я лежал на узком карнизе, одной рукой сжимая радиостанцию, а второй ввинчивая ледовый крюк в гигантскую линзу.
– Гора! Ответьте Базе! – запищала радиостанция слабым голосом.
– Уже ответил! Кто говорит?
Крюк ввинчивался с трудом. На каждом обороте ледяная глыба издавала оглушительный треск. Трещина тонкой лентой разделила ее надвое и стала напоминать белый шелковый шарф, вмерзший в лед. Радиостанция представилась женским голосом:
– Дежурный радист.
– Гималайский аферист! – не сдержался я, узнав Татьяну Прокину, эту странную девушку, появившуюся в лагере буквально за день до выхода Родиона на гору. – Представляться надо! Дай микрофон Креспи!
– Не хами, – почти по-родственному посоветовала Прокина.
От моего дыхания решетка микрофона покрылась инеем, который студил губы. Я затянул крюк до упора и навесил на него карабин с оттяжкой, намертво пристегивая себя к ледяной глыбе.
– Стас, где вы? – сухо покашливая, спросил Креспи.
– Двадцать тысяч футов, – не задумываясь ответил я. – До третьего лагеря не больше часа ходу, но видимость нулевая, ветер срывает со стены… Послушайте, Креспи, посадите у станции вместо Татьяны самого тупого шерпу, мне с ним легче будет изъясняться!
Я забыл, что радиостанция в базовом лагере оснащена громкоговорителем.
– Все будет о`кей, – ответил Креспи нейтрально, чтобы не обидеть ни меня, ни Татьяну, наверняка стоящую рядом с ним. – Почему вы не идете на жумарах?[4 - Это приспособление позволяет альпинисту быстро подниматься по заранее натянутой веревке.]
– Потому что веревок нет! – ответил я, переворачиваясь на другой бок и глядя с карниза вниз. – Здесь стена чистая, будто никто до нас ее не проходил!
Некоторое время радиостанция ловила только шум помех. Я представлял, каким недоуменным взглядом смотрит Креспи на Татьяну, а у той взгляд еще более недоуменный, если не сказать глупый, потому что она не понимает и в принципе не может понять сути проблемы.
– Зачем же они сняли веревки? – прохрипел Креспи.
– Не знаю! У меня нет времени думать об этом! Будем идти выше, к лагерю, чего бы нам это ни стоило. Наши запасы кислорода на нуле. Бадур уронил вниз свой рюкзак. Улетели альтиметр<$FПрибор для определения высоты над уровнем моря.> и еда.
– А как же вы определили высоту? – удивился Креспи, нарываясь на стандартную альпинистскую шутку.
– На глаз! – заорал я, отключая радиостанцию.
Бадур поднимался медленно и тяжело. Капюшон почти полностью закрывал его лицо, и сверху казалось, что на веревке болтается пуховик, словно на вещевом рынке. Движения шерпы были заторможенны, будто он работал под водой. Он загонял передние зубья кошек в лед слабыми ударами без замаха, медленно разгибал колени, медленно передвигал жумар по веревке и вновь подтягивал ногу, как некий тяжелый и малополезный предмет. Я ему хорошо заплатил за этот труд, он нужен был мне в качестве свидетеля, но на горе ценности меняются очень быстро и радикально. Деньги здесь превращались в совершенно бесполезную субстанцию, они даже не горели из-за низкого содержания кислорода в воздухе.
Я начал затаскивать портера на карниз, и он расслабился совсем, превратившись в тяжелый мешок. Я хрипел и орал от напряжения, а он едва шевелился.
– Сэр, Бадур очень устал, – тихо бормотал портер. И что это за привычка говорить о себе в третьем лице? – Дышать трудно…
Я прислонил его спиной к стене, провел перчаткой по его заснеженным очкам и, делая страшный голос, чтобы напугать больше, чем гора, ветер и снегопад вместе взятые, зашипел:
– Ты что ж, паук безлапый, нарочно рюкзак сбросил?! И кислород свой сбросил?! Я же тебя, Санта Клаус копченый, сейчас вниз спущу по самому короткому пути!
Я схватил его за ворот и изо всех сил тряхнул. Бадур крутил головой, кашлял и слабо сопротивлялся.
– Сэр, я замерзаю… – бормотал он. – Ноги прихватило… Не могу…
– Надо идти! – злобно кричал я, растирая рукавицами коричневые щеки шерпы. – Здесь ты подохнешь! А там, наверху, палатка, горячий кофе, кислород… Вставай!
Пока я проводил воспитательный урок, нас изрядно присыпало снегом. Видимость сократилась настолько, что скальные выступы и нависающие глыбы льда можно было различить только в радиусе пяти метров, все остальное было поглощено белой мглой.
Бадур притих. Снег сыпался на его коричневое лицо и не таял. Над полураскрытыми губами едва струился пар. Я скинул с себя рюкзак и вытащил оттуда свой запасной кислородный баллон. Я лишал себя самого главного, что на высоте поддерживало жизнь, но другого способа заставить портера продолжать подъем не было.
Я прижал к его губам и носу маску и поставил кран на максимальную подачу кислорода. Бадур стал жадно дышать. Я мысленно считал в уме секунды.
– Все, пора, – сказал я, поднимаясь на ноги с таким усилием, словно был разбит параличом..
– Бадур не может, – глухим голосом из-под маски отозвался портер. – Прихватило ноги… Ничего не чувствую…
Бессилие и отчаяние хлынули на меня. Я снова схватил портера за пуховик, приподнял его, но тот даже не попытался защититься или встать на ноги, только схватился обеими руками за маску, чтобы я не смог сорвать ее. Я качнулся и привалился к стене. Мой баллон уже истощился. Запасы кислорода и провианта ждали нас в третьем высотном лагере, но у меня не хватило бы сил затащить туда Бадура на себе. К тому же бескислородное восхождение было чревато отмиранием тканями головного мозга. Но я обязан был добраться до лагеря любой ценой.
– Черт с тобой! – крикнул я портеру, вырывая вмерзший в снег ледоруб. – Жди меня здесь! Я принесу тебе еды!
Что мне оставалось делать? Я лишался человека, который подтвердил бы полиции, что видел в третьем высотном лагере обрезок веревки и ботинок Родиона. Но даже добравшись до лагеря, Бадур уже был бы не в состоянии понимать смысл предметов. Собственно, он вполне мог умереть по пути к лагерю. Наш, казалось бы, безукоризненный план, дал первый сбой.
Я придвинул Бадура вплотную к скале, чтобы он ненароком не свалился с карниза в пропасть, снял с себя пуховик, и накрыл его с головой. Бадур с благодарностью замычал из-под пуховика. Я оставил здесь же рюкзак, веревки и все "железо". Ледяной ветер продувал мой свитер, в котором я остался, насквозь, и я начал быстро остывать. Я здорово рисковал, разоружившись перед горой, но меня грела надежда, что сумею подняться до третьего лагеря в быстром альпийском стиле, а там кислородом и едой восстановлю силы.
Стиснув зубы, я карабкался по заснеженному гребню наперекор стихии. Порывисты ветер бил меня в лицо, словно боксер, посылая отрывистые и точные удары. Кошки скрежетали о камень и лед. Каждые три-четыре шага я останавливался, чтобы успокоить дыхание. Кислорода в баллоне уже почти не осталось, и я начал задыхаться. Кратковременный отдых не восстановил сил. Они, словно кровь из раны, уходили из тела независимо от того, стоял я или шел. Я потерял счет времени и не думал уже ни о чем, превратившись в машину, запрограммированную на движение вверх по склону. Перед глазами плыли фрагменты остроугольных камней, обломков льда и снежных дюн. Когда я останавливался, они продолжали плыть, растекаться, растягиваться и сжиматься.
Я крепче натянул на посиневшую от холода руку перчатку и сделал шаг, потом второй, третий… Весь смысл этого подъема заключался в том, чтобы портер был со мной рядом. Он обязательно должен был дойти до палатки третьего высотного… Как тяжело! Как противится, сопротивляется организм этим космическим условиям. Топтать ступени на запредельной высоте – это стремительное старение. И все ради чего? Для одних – спортивный азарт, для Орлова – Игра, тест. Нечто лабораторное, что-то вроде центрифуги, в которой гоняют мочу…
Я вспомнил, как Родион предложил мне возглавить строительные работы в его усадьбе на окраине Арапова Поля в Тверской области, на живописном берегу Двины. Я даже приблизительно не мог сказать, сколько это стоило – двадцать четыре гектара земли с парком, прудом, беседками, хозяйским домом, библиотекой, гротом, летним театром, конюшнями, псарней, домиками прислуг… А отец Родиона тем временем восстанавливал церкви в близлежащих деревнях, строил церковно-приходские школы и открывал личные картинные галереи. Обнищавшие провинциалы смотрели на потомственного князя, как на тронувшегося умом мессию, от которого пользы как от иконы, висящей в углу избы – вроде всесилен, а денег не выпросишь. Нам вообще не дано понять русских эмигрантов с их гипертрофированным определением истинной ценности…
Моя нога сорвалась с зеркала – тончайшего натечного льда, залившего все зацепки на стене, но я даже не успел испугаться. Когда из-за гипоксии притупляется интеллект, страх тоже становится каким-то мягким и тянущимся, словно жвачка, на которую нечаянно садишься в метро. Несколько метров я летел вниз, потом упал в сугроб лицом вниз, и все вокруг потемнело.
Некоторое время я лежал неподвижно, ожидая продолжения полета в сольном исполнении или вместе с лавиной, а когда понял, что силы гравитации отказываются работать на меня, приподнял голову, сдвинул залепленные снегом очки на лоб и сразу увидел чуть правее и выше распластанную по полочке красную палатку, похожую на большую спящую черепаху.
Это был третий высотный лагерь. Вчера утром Родион вместе со Столешко вышли отсюда на седловину и час спустя перестали отвечать на позывные базы. Больше суток о судьбе двух альпинистов в базовом лагере никто ничего не знал. Конечно, кроме меня.
Глава третья
Красная палатка
Я не стал тратиться на то, чтобы подняться на ноги, и пополз к палатке на четвереньках, как уставший от пастбища баран в свою овчарню. Я разгребал перед собой снег и дрожал от холода, предвкушая чашку горячего кофе со сливками и медом, тепло газовой горелки, представлял, как насытившись и согревшись, надену на обмороженный фейс маску и стану дышать чистым кислородом, и мозги мои просветлеют, очистятся от галлюцинаций и панических мыслей.
Добравшись до полочки, я настолько изнемог, что ничком повалился на красный тент палатки и лежал так довольно долго, мысленно играя две роли, одна из которых приказывала немедленно подняться, а другая просила оставить в покое еще на пару минут.
Родион и Столешко вытащили концы распорок, чтобы палатка распласталась и стала менее подвластна ветру. Я совершал подвиг, загоняя распорки в свои гнезда и придавая "Сьерре" форму купола. Когда, наконец, палатка налилась объемом, я издал хриплый вопль победителя и ввалился через рукав-тамбур внутрь.
Пятизвездочный отель на берегу лазурного моря не ввел бы меня в такой экстаз, как это хлипкое, раскачивающееся из стороны в сторону жилище – единственное место на горе, защищенное от ветра и способное хранить тепло. Я стоял на четвереньках на клеенчатом полу и понимал, что человеческое счастье на самом деле заключается в отсутствии снега и льда вокруг себя, а все остальное – мелкие прибавки. Мои глаза еще не привыкли к сумеречному фону, которым было наполнено внутреннее пространство, я еще видел перед собой зеленых медуз, но уже слепо шарил руками по бугристому полу, отыскивая газовую горелку, пакеты с порошковым супом, сухофруктами, пластиковые баночки с медом, творожные шарики в шоколаде… Заледенелые перчатки со свистом скользили по полу, но не встречали препятствий. Я двигался по кругу и движения мои становились все более торопливыми. Наконец, я замер, стоя на коленях, и почти с ужасом посмотрел вокруг себя.
Палатка была пуста. В ней не было ни баллонов с кислородом, ни газовой горелки, ни продуктов, ни спальных мешков. Через рваную дыру в потолке, которую я только сейчас заметил, внутрь сыпался снег.
Я принялся обыскивать карманы, нашитые на боковые перегородки. Выворачивая их, я кидал на пол отработанные аккумуляторы, пустые газовые баллончики, обрывки бумаги. Лишь только в тамбурном отсеке, отделенном от жилой зоны, я нашел наполовину исписанную тетрадь и обернутую в полиэтилен дискету, на которую несколько дней назад записал файлы с портретами Столешко и Родиона.
От палатки тянуло сырым могильным холодом. Я полз сюда из последних сил, надеясь влить свежую жизненную струю в свой слабеющий организм, но надежда оказалась обманутой. Что произошло здесь сутки назад? Какая причина заставила Родиона и Столешко вынести неприкосновенный запас, который пополнялся здесь усилиями нескольких связок восходителей? Разве они не знали, что для нас с портером кислород и провиант станут вопросом жизни и смерти?
Мне хотелось плакать от отчаяния и боли, но не было сил выдавить из себя слезу. Затолкав тетрадь и дискету под свитер, я вылез из палатки через дыру и снял ее с себя, словно широкую юбку.
Надежду я похоронил под палаткой, куда на всякий случай заглянул, да еще и порылся в окружающих сугробах. Нет ничего! Вверху – черные камни, перемежеванные с языками льда и косыми застругами снега, внизу – бездонная пропасть, и все высечено хлестким ледяным ветром, отшлифовано снежной крошкой. Мгла наваливалась на крохотный мирок, доступный моему обозрению, становилась плотнее, и черные краски в ней набирали силу, вытесняя белый свет, словно мою жизнь.
Я сделал несколько шагов по полочке, и в том месте, где ее вылет сходил на нет, плавно срастаясь с отвесной стеной, выкопал из-под снега высотный люминисцентно-салатовый ботинок "Koflach" с выгравированным на носке вензелем Родиона "ОррО".
Спустить ботинок вниз я не смог бы ни за какие деньги. Я закинул его в палатку, выдернул растяжки и засыпал палатку снегом.
– Креспи, – прохрипел я в радиостанцию. – Я спускаюсь.
– Ты где?! – сквозь треск помех долетел голос американца.
– В третьем.
– Ну?! Что?! Где они?
– В палатке никаких следов. Нашел только ботинок Родиона и обрывок веревки.
Креспи понял, что я мысленно похоронил Родиона и Столешко. Он сразу переключился на того, кого еще можно было спасти – таков закон гор.
– Доктор просит, чтобы ты прихватил шприц-тюбик с глюкозой и атропином для Бадура… Слышишь меня?.. И кислород!
– Ну да, здесь целый кислородный склад… Если сможешь, вышли нам навстречу двойку. Я Бадура далеко не унесу. Дай бог самому доползти до него.
– Хорошо, через час выйду на связь!
Что было дальше – я помню смутно. Через час меня привел в сознание сигнал вызова, и я обнаружил себя на карнизе, где оставил Бадура. Портера не было. Я ползал по карнизу, смотрел в пропасть, звал его осипшим голосом, но никто не отзывался. Вместе с Бадуром пропал мой пуховик и рюкзак.
Стемнело. Аккумулятор, питающий лампочку на налобной повязке, быстро истощился. Я уже не чувствовал ни рук, ни ног и с безразличием воспринимал свои страдания. Я не хотел думать о том, что заставило Родиона и Столешко так бесчеловечно поступить со мной. Поджав ноги к животу и закрыв перчатками лицо, я лежал на краю карниза. Я знал, что умираю, но не испытывал ужаса от прощания с жизнью. Истощенному, обессилевшему человеку воспринимать смерть намного легче, чем цветущему и сильному.
Радиостанция смешно пищала мне в ухо, казалось, что внутри нее суетились какие-то говорящие жучки, скребли мохнатыми лапками по мембране и проводам, а я пытался что-то сказать в ответ, но сил хватало только на разбавленный тяжелым дыханием шепот.
– Стас! Ответь мне! Из второго лагеря к тебе вышла двойка! Они скоро подойдут! Держись! Еще немного…
Держаться было не за что, кроме как за свое лицо. Перчатки, которые я прижал ко рту, побелели от конденсата. Холод, захватив ноги и задницу, уже брал штурмом живот, стремясь проникнуть внутрь меня, выстудить желудок, легкие и сердце, остановить их конвульсии, сковать морозом и тем самым подарить мне счастье остаться на горе вечно молодым и нетленным. Это представлялось заманчивым, намного более заманчивым, чем продолжать жить.
Потом, как во сне, я видел в темноте скользящие по камням и льду световые пятна, слышал крики, скрежет кошек. Кто-то переворачивал меня с бока на спину, связывал мне ноги веревкой, протыкал иглой сонную артерию, загоняя в кровь огонь, а потом меня долго-долго тащили в спальном мешке по крутому склону волоком, как покойника, и я временами приходил в чувство, слышал скрип снега и видел у самого лица движение ног в ярких ботинках.
В тесной, но прогретой палатке второго высотного лагеря, когда несколько капель горячего супа пробили себе путь между моих опухших от мороза губ, я сумел выдавить из себя несколько слов благодарности двум американцам, которые стащили меня вниз.
– Нет, шеф, никакого отека легких, дыхание у него чистое! – говорил один из них по радиостанции с базовым лагерем. – Только очень устал и обморозил пальцы на руках. С рассветом начнем спуск. Он что-то бредит про обрезанную веревку, но сейчас с ним разговаривать бессмысленно…
Я увидел, как из темноты на меня надвинулось темное лицо Бадура. Отогревшийся, отдохнувший, он сверкал свинцовыми белками и скреб грязными ногтями по щекам, сдирая кожу, которая из-за солнечных ожогов слезала клочьями.
– Будете жить, сэр! – с поганеньким оптимизмом говорил он, прихлебывая подогретую ракшу. – Вы думаете, что Бадур бросил вас и ушел вниз?.. Ай, напрасно! Я за помощью пошел. Я понял, что вас спасать нужно…
Он коверкал английские слова, перекатывая их во рту вместе с жирной ракшой, и воровато поглядывал на возню у тамбура, где мои спасители отстегивали кошки и стаскивали ботинки.
– Что ж ты пуховик мой на карнизе не оставил, когда понял… – прошептал я.
Мое внимание уплывало вместе со взглядом, и портер, чтобы снова напомнить о себе, тихонько подергал за край моего спальника.
– Очень трудное было восхождение, – тихо шепнул он, склонившись надо мной. – Бадур сильно рисковал жизнью. Надо бы заплатить побольше. Я согласился с вами идти за пятьсот баксов, потому что думал, что погода будет хорошая. А если б знал, что начнется буран… Бадур здоровье на этой горе подорвал. Большая семья в Катманду, шестеро детей…
Силы стоило экономить, но ради такого случая я пустил в ход резервы. Высунув из спальника руку, я не без труда сложил непослушные обмороженные пальцы в кукиш и поднес его к лицу портера.
– Выкуси, а потом сбегай за своим рюкзаком, альпиноид, – прошептал я и снова отключился.
Глава четвертая
Письмоводитель князя
Мораль – самая тяжкая ноша из числа тех, которые мы взваливаем на себя добровольно. Когда я натыкался на грузный от тоски взгляд руководителя экспедиции Гарри Креспи, мораль обрушивалась мне на плечи мокрой лавиной.
Креспи относился к моим доводам, мягко говоря, с плохо скрытым скептицизмом. Мало того, он был уверен, что кислородное голодание и психологическая нагрузка серьезно повредили мой мозг. В то время как я сидел в раскладном кресле, укрытый пуховым спальником, и нервно стучал зубами, Креспи стоял по одну сторону от меня, а экспедиционный врач по другую, и оба с состраданием смотрели на меня.
– И где же эта обрезанная веревка? – мягко спросил руководитель, глядя мне в рот. Мой взгляд был ему неприятен, и чтобы не отводить глаза, он как бы притворился косоглазым. Сосульки на его бороде напоминали хрустальные подвески на люстре, только не звенели, когда начальник дергал головой.
– Там осталась, – ответил я, кивая куда-то наверх. – У меня не было сил вырубить ее изо льда.
– Может быть, вам показалось? – спросил врач, заботливо ровняя край спальника на моей груди. Это был даже не вопрос, а доброжелательное утверждение, нестрашный диагноз, вроде: ты дебил, приятель, но это заурядно – в мире очень много дебилов.
– Не надо, доктор. Не надо, – посоветовал я. – Я все прекрасно помню. Это была оранжевая, с голубой оплеткой семимиллиметровка.
– Да мы не о веревке, а о срезе, – поспешно пояснил Креспи и в доказательство своих слов поднял с пола конец репшнура. – Вот это, например, обрыв или обрез?
– Обрез, – ответил я уверенно, так как репшнур был мой. – Причем годичной давности. Поэтому он обтрепался и теперь похож на обрыв. Но там я видел совершенно свежий срез.
– Ну хорошо! – теряя терпение, произнес Креспи. – Я могу вызвать полицейский вертолет. А что будет, если полиция квалифицирует этот сигнал как ложный вызов? Мне придется оплатить перелет в оба конца.
– Я оплачу. Только не тяни с вызовом, Креспи.
Креспи и врач переглянулись. Руководитель нервничал. Он не хотел неприятных разговоров вокруг экспедиции, спонсором которой была известная итальянская фирма "Треккинг", производящая горное снаряжение. Экспедиция носила рекламный характер, и вызов полиции в базовый лагерь мог повредить делу.
– Ну, что же ты молчишь? – прервал я затянувшуюся паузу.
Руководитель, высохший от возраста и любви к горам, белизну коротких волос которого оттеняло загоревшее до черноты лицо, стащил зубами рукавицу, кивнул врачу головой и что-то неслышно сказал. Решение выходило из него мучительно медленно. Я понял, что он сказал "о`кей", но скорее пока только для себя.
– А о чем говорить? – сглаживая слабоволие Креспи, ответил врач. – Вы пока не убедили нас в необходимости полиции. Мы должны выслушать Бадура.
– Бадур до третьего лагеря не дошел. Потому ничего интересного он не скажет, – возразил я.
– Выздоравливай! – категорично потребовал Креспи и протянул мне руку, ставя точку на разговоре.