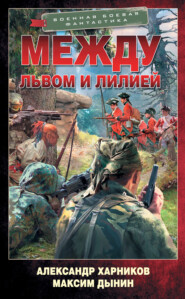скачать книгу бесплатно
Французские поселенцы, которые и сами были не прочь поохотиться на бобров, начали вторгаться на земли ирокезов и строить там свои укрепленные торговые фактории. В бескрайних канадских лесах и на берегах Великих озер они столкнулись с индейцами, которые не испытывали большого желания уступать пришельцам свои охотничьи угодья.
Сначала французы попробовали добром договориться с конкурентами. Но потом они решили, что выгоднее будет вооружить враждебные им индейские племена и натравить их на ирокезов.
Вскоре война между индейскими племенами охватила большую часть северо-востока Америки. Гуроны и могикане, которых поддерживали французы, совершали военные походы на ирокезов. А те в отместку совершали внезапные набеги на соседей и на французские поселения. Кончилось все тем, что Франция была вынуждена отправить в Северную Америку армейские части и начать с индейцами самую настоящую войну.
Британцы, вековые соперники французов, в свою очередь стали помогать ирокезам. Но в Канаде позиции Британии были еще слабы, и ирокезы потерпели поражение. Французы и их индейские союзники к концу XVII века заставили ирокезов пойти на мир с европейцами. В 1701 году в Монреале был заключен договор, по которому ирокезы отказались воевать против Франции, а добыча пушнины переходила под ее контроль. Но мир в этих лесных краях продержался недолго.
19 июня 1754 года отряд английской колониальной милиции под командованием Джорджа Вашингтона вступил в перестрелку с французами. Будущему первому президенту США выпала честь начать Семилетнюю войну. Правда, основные боевые действия велись на территории Старого Света.
Как ни странно, поводом для вооруженного противостояния между Британией и Францией стали все те же бобровые шкурки. Дело в том, что к тому времени цены на пушнину в Старом Свете резко пошли в гору. Городское население там росло одновременно с благосостоянием среднего европейского бюргера, и потому им требовалось все больше и больше мехов для повседневной одежды.
Но к тому времени основную часть бобров на территории до Аппалачей уже успели истребить, а поэтому нужно было осваивать более удаленные земли, чтобы обеспечить растущий спрос. Для этого надо было не только контролировать прибрежные земли, но и держать фактории внутри страны. Наиболее перспективной для этого территорией была Канада. Формально она принадлежала Франции, но метрополия довольно прохладно относилась к своей заморской колонии, хотя там и проживало более 60 тысяч ее подданных.
В своей войне против Франции Британия могла опереться на силы ополчения, которые были сформированы в тринадцати ее североамериканских колониях. В ходе войны обе стороны традиционно активно использовали индейцев, а также европейских поселенцев, которые жили на пограничных территориях.
Бледнолицых, охотившихся на бобров и других пушных зверей, называли «трапперами» – от английского слова trap – «ловушка». Эти люди жили на землях, которые официально принадлежали Англии или Франции, а на самом деле фактически оставались бесконтрольными. Трапперы промышляли не только охотой, но и продажей скальпов, снятых с индейцев. Причем британское правительство платило не только за скальпы воинов, но также и за скальпы детей и женщин.
Часто трапперы собирались в «бригады», состоящие из двух-трех десятков человек, и отправлялись в дальний поход, осваивая еще неизвестные для европейцев земли. Далеко не все из них возвращались в свои фактории. Ведь и индейцы любили добывать скальпы бледнолицых. Да и природа в тех краях была суровая, и в диких лесах, полных хищными зверями, могли выжить только опытные и храбрые люди. Трапперы очень ярко описаны Фенимором Купером в его романах о Зверобое и Чингачгуке.
Эти люди и стали основной ударной силой в войне Англии с Францией. Из них формировали колониальную милицию, и многие ее командиры впоследствии возглавили войска восставших жителей североамериканских колоний Британии, и в конечном итоге добились независимости от метрополии. Вспомним того же Джорджа Вашингтона. Франция к тому времени была экономически ослаблена и находилась на пороге революции. И потому она не смогла оказать действенную помощь подданным в далекой Канаде.
После начала Семилетней войны англичане отправили в свои заморские колонии восемь тысяч солдат и провели мобилизацию среди жителей приграничных с Французской Канадой территорий. В ходе боевых действий, где вместе с европейцами яростно сражались с обеих сторон и индейские племена, англичане нанесли ряд чувствительных поражений французам. А когда в битве при Квебеке они окончательно разгромили французов, то по мирному договору 1763 года Британия присоединила к своим колониальным владениям всю Канаду.
Вот тогда-то трапперы развернулись по полной. На север и запад сотнями уходили отряды охотников за бобрами. С индейцами они уже не церемонились, считая, что добывать скальпы краснокожих не менее выгодно, чем шкурки бобров. Если же трапперы встречали организованное сопротивление индейских племен, то тогда им на помощь приходили регулярные британские части. Трапперы истребляли одинаково активно и бобров, и индейцев. Сам же бобровый промысел стал еще более масштабным.
А еще через несколько лет капитаны и полковники из американской армии, которых британцы на свою голову обучили воевать против регулярных французских частей, сами разбили «красных мундиров» и провозгласили создание независимых Североамериканских Соединенных Штатов.
К XIX столетию владения нового государства – САСШ – раздвинулись до Скалистых гор. Оказалось, что там тоже водятся бобры, которых почти полностью уничтожили в Канаде. Молодое государство нуждалось в деньгах, и потому в Вашингтоне решили направить многочисленные экспедиции в горы за мехами.
Трапперы не всегда возвращались назад с добычей. Так, в 1817 году из 117 охотников, которые вышли в горы, только 21 вернулся живым. Но количество желающих разбогатеть не уменьшалось: до начала Калифорнийской «золотой лихорадки» в 1848 году добыча бобров была основным стимулом по освоению Колорадо и нескольких других штатов США. Эта же причина привела к войнам с местными индейцам, которые уже прекрасно знали, что несут им бледнолицые, и потому просто убивали всех встретившихся им охотников за бобрами. Именно для защиты трапперов была построена система фортов, которые стали форпостами для продвижения новых поселенцев через горы и последующего заселения Калифорнии. А там трапперы столкнулись с русскими охотниками за бобрами – речными и морскими – представителями Российско-Американской компании…
12 июня 1755 года. Долина реки Сасквеханны. Эбенезер Джейкоб Скрэнтон, скаут отряда генерала Эдуарда Брэддока
– Значит так, парни. Попробуем отловить какого-нибудь индейца. Если их будет больше, то всех, кроме одного, прикончим. Один мне нужен живым.
– То есть как – прикончим? – неожиданно вскипел молодой Джонни Оделл. – Разве можно так поступать? Ведь Господь их создал точно так же, как Он создал нас с вами. И мы не имеем права забирать жизнь даже у дикарей, если они ни в чем не виноваты, и не наши враги.
Вот, значит, как заговорил этот юнец! Надо немедленно прекратить эти разговоры! Я сделал знак, и мои ребята шустро скрутили слегка обалдевшего Оделла, сунули ему в рот кляп и привязали к серебристому стволу молодого бука. Я проверил путы – сделано качественно, развязаться он не сможет, но рубцов они не оставят. Мои ребята знали свое дело и под веревки подсунули носовой платок, который достали из кармана этого недотепы. А потом, даже если Оделл пожалуется Брэддоку, ну и что с того? В этих местах других скаутов он не найдет, а посылать за новыми у него просто не будет времени.
Я придвинулся к молодому хирургу и внимательно посмотрел ему в лицо. Через пару минут тот отвел глаза.
– Слушай, ты, молокосос, – сказал я тихо, но стараясь говорить так, чтобы мой голос звучал как можно убедительнее. – Я ж тебя предупреждал, что здесь все мои распоряжения – закон. Так что у тебя будет время подумать. Хэйз, Грант, Джексон и… Вильсон – да, Вильсон – вы остаетесь здесь. Хэйз – за начальника. Можете развязать этого, – я показал на Оделла, – часа через два, но только если он пообещает хорошо себя вести и больше не перечить старшим. Остальные – за мной!
Мы находились в лесу, который рос на холме над рекой Сасквеханна, в предгорьях Голубого Хребта Аппалачей, на земле, принадлежавшей Мэриленду. Хотя на нее претендуют и французы, и Пенсильвания, и Виргиния, и даже Коннектикут. Именно эта неопределенность и явилась причиной того, что тут практически не было белых людей, разве что изредка появлялись трапперы и скупщики шкурок у краснокожих. Ну это пока.
Два года назад до Виргинии дошла весть, что в землях за Голубым Хребтом появились французы, которые начали строить форт у слияния рек Аллегени и Мононгахелы. Эту землю своей считали и Виргиния, и Мэриленд, и Пенсильвания. Но именно Палата бюргеров Виргинии – так именуется их парламент – решила послать к лягушатникам миссию с требованием немедленно очистить земли, принадлежащие Виргинской колонии. Главой миссии назначили молодого Джорджа Вашингтона, которому тогда был всего двадцать один год (да и сейчас ему лишь двадцать три), но чей отец был одним из лидеров Палаты Бюргеров.
А за несколько недель до этих событий ко мне явился некто, назвавшийся Антони Меркелем из поселка Монокаси, расположенного на севере Мэриленда. Точнее, на севере тех территорий, чью принадлежность к Мэриленду никто не оспаривал. Меркель говорил с ярко выраженным немецким акцентом, но довольно бегло, так что понять его не составляло большого труда. И, как обычно бывает с приезжими с его родины, он сразу же взял быка за рога.
– Герр Скрантон, видите ли, к северу от нас, на реке Сусквеханна, – он именно так произнес мое имя и название реки – правильно, конечно, «Скрэнтон» и «Сасквеханна», – находятся земли, которые интересуют определенную группу… ну, скажем так, инвесторов. Единственное препятствие – это индейские племена, населяющие эти земли.
– Сасквеханноки, вы хотите сказать, – усмехнулся я. – И у них есть огнестрельное оружие, хоть и устаревшее, но зато его много. Да и физически эти парни чертовски сильны. И они вам очень мешают, я правильно вас понял?
– Именно так, герр Скрантон. Нам рассказывали, что у вас есть… скажем так, определенные методы работы с ними. Мы понимаем, что вы не сможете уничтожить их всех, но если вы их сильно проредите, то мы готовы вам заплатить…
Сумма, предложенная им, была не очень большой, но я сумел увеличить ее примерно втрое, после чего потребовал задаток у Меркеля в размере половины оговоренной цифры и пообещал, что результаты будут видны не позднее следующего лета. Выдвигаться я собирался следующей весной, как только сойдет снег.
Но тут ко мне пришел посыльный от мистера Вашингтона с предложением для моей группы поработать у него скаутами, причем немедленно.
Мы довели его до слияния рек, после чего он сообщил нам, что пока остается здесь и более в наших услугах не нуждается. Оговоренную сумму он заплатил нам в полной мере, и даже добавил процентов двадцать. Да, этим южане выгодно отличаются от северян – особенно янки из Новой Англии – те за лишний пенни удавились бы.
Мы же решили, что пока в горах еще не выпал снег, следует заняться нашим вторым контрактом. В пирогах, купленных у местных индейцев, мы поднялись вверх по Аллегени, Конемаух и далее по ее притокам, перетащили пироги волоком через Голубой Хребет и спустились по ручьям и речкам до Сасквеханны и далее в те места, на которые нацелились мои заказчики.
С местными индейцами я был достаточно хорошо знаком; ранее у них всегда можно было выменять бобровые шкурки. Только вот в последнее время некто Джон Харрис, поселившийся недалеко отсюда, перебил мне всю торговлю. Да и бобров в последнее время становится все меньше. Уже лет пять они торгуют в основном белками и куницами… Так что мне их совсем не было жалко. Я бы не сказал, что хороший индеец – это мертвый индеец[26 - Эту фразу на самом деле придумали газетчики после того, как генерал Филипп Шеридан на переговорах с индейцами в 1869 году, когда вождь Тосави представился как «Тосави, хороший индеец», ответил: «Все хорошие индейцы, которых я когда-либо видел, были мертвы».], иногда они тоже бывают полезными, но эти уже стали абсолютно лишними.
Язык сасквеханноков я более или менее понимал – он был похож на языки ирокезских племен. А язык мохоков, одного из них, я неплохо знал с тех пор, как вместе с дядей промышлял торговлей шкурками, закупаемыми у индейцев в верховьях Гудзона. Мама у меня голландка, из респектабельного рода, а дядя был своего рода черной овцой семьи. Именно он научил меня, как нужно заражать одеяла и платки оспой. Когда же шкурки в тех краях стали редкостью, мы подрядились «очистить» один район от индейцев.
Дядя выменял у них несколько оставшихся шкурок на дюжину одеял, красивых цветных платков, и через пару месяцев нам оставалось только перебить немногих выживших после болезни. Мы с дядей несколько лет до того переболели оспой, после которой у нас осталось лишь по нескольку рябинок на лице, так что эта страшная болезнь для нас уже была не опасна. Потом, конечно, у тех, кто там поселился, тоже началась оспа – но ведь дядя посоветовал им сжечь длинные дома индейцев, а они, судя по всему, сначала в них залезли из любопытства. Но это уже не моя проблема, хотя заказчиков с тех пор я исправно об этом предупреждаю.
И вот сейчас, когда генерал Эдвард Брэддок пошел в поход против французов, а адъютантом назначил моего старого знакомого Вашингтона. Последний же убедил его взять в качестве скаутов мою группу. Деньги генерал предложил намного меньшие, чем некогда Вашингтон, но наш маршрут проходил по долине Сасквеханны, через Монокаси. Я договорился с Брэддоком, что встретимся мы именно в этом поселке – дорога туда шла по «цивилизованным» местам, и в моем присутствии до того момента он не нуждался, – а сам направился в Монокаси.
Меркель и его приятели встретили меня чуть ли не в штыки. Да, деревни полностью обезлюдели, но когда туда поехали первые группы немецких колонистов, то многие умерли от оспы, а других навестили непонятно откуда взявшиеся индейцы с ружьями и попросили белых убраться. Насчет первого я ему напомнил, что заранее предупреждал, чтобы никто не заходил в длинные дома. А вот касательно второго, предложил ему разобраться с оставшимися, но за сумму, в три раза превышавшую ту, которую мне платил Брэддок. Немцы, как я заметил, еще более прижимисты, чем янки, но в данном случае у Меркеля не было выбора. Тот, понятно, заныл, почему, мол, так дорого, на что я ему ответил – теперь с индейцами нам придется воевать, и возможны жертвы, в том числе и с нашей стороны.
Он, причитая, мол, откуда деньги у бедного шваба, но в конце концов согласился на удвоенную сумму (я вообще-то рассчитывал на полуторную), и мы расстались довольными друг другом. А через день я увидел длинную колонну людей в красных мундирах, разбавленную колонистами в менее заметной форме – это были люди Брэддока.
Генерал действовал методично – вдоль всего маршрута движения прорубалась просека, именуемая «дорогой Брэддока», поэтому скорость прохождения его отряда была небольшой. Мы же занимались разведкой дальнейшего маршрута, по дороге вырезав одну полувымершую деревню краснокожих. А примерно через неделю Брэддок вызвал меня к себе и познакомил с Джонатаном Оделлом. Он сказал, что это молодой хирург ко всему прочему еще и натуралист, и ему очень хочется описать природу наших новых территорий для науки. А еще он родственник то ли самого Брэддока, то ли кого-то из его офицеров – я точно не помню.
Последний аргумент был решающим – на него у меня возражений не было и быть не могло. Конечно, мне было ясно, что нужно тщательно следить, чтобы у Оделла с головы даже волос не упал. Впрочем, до сегодняшнего дня он и так смотрел мне в рот. Одно мне не понравилось с самого начала – оказалось, он решил в ближайшем будущем забросить медицину и пойти учиться на священника. Мол, у него было видение, в котором ему явился Сам Господь и объявил, что от него и других «избранных» зависит, чтобы все индейские племена приняли Господа нашего Иисуса Христа как своего Спасителя[27 - Пуритане считали, что Господь посылает каждому, кто спасется, видения; человек, не удостоившийся такого видения, никогда не спасется. Оделл вырос в пуританской семье, но перешел в англиканство, когда учился в колледже.].
Я всегда считал, что университетское образование – штука вредная. А этих университетов и без того расплодилось, как кроликов – теперь вот и в Нью-Йорке появился Королевский Колледж. Оделл же год назад закончил недавно созданный Колледж Нью-Джерси в Ньюарке. И такое чудо свалилось на мою голову…
Начерченный на выданной нам карте маршрут мы вчера разведали, место для следующего лагеря определили, так что сегодня было самое время поискать деревню, с которой нам предстояло разобраться. И сегодня с раннего утра я забрался на ближайший холм и стал осматривать окрестности через подзорную трубу, «позаимствованную» мною когда-то у одного из офицеров Вашингтона, который потом благополучно заболел оспой и скоропостижно скончался.
Где-то там, за одним из холмов, я увидел дымы. Ветра не было, и они поднимались строго вверх, причем их было три ряда. Сие означало только одно – это длинные дома, то есть перед нами поселок либо ирокезов, либо сасквеханноков. Вполне вероятно, что сюда пришло одно из племен с севера (вот это было бы весьма нежелательно – в отличие от сасквеханноков, их родичи намного более воинственны и намного меньше доверяют белым), либо переселились те, кто переболел оспой, и тогда фокус с одеялами уже не пройдет.
Ну что ж, в обоих случаях придется действовать по жесткому варианту. Если их мало, то мы, смею надеяться, их уничтожим. Если же их много, то я расскажу Брэддоку, что дикари напали на нас, и воспользуюсь «услугами» моего работодателя. Но сначала неплохо было бы узнать, кто они и сколько их.
Под моим началом было четырнадцать человек – все, как и я, из «индейских трейдеров». Плюс одна паршивая овца – этот полоумный Оделл. Ну ничего, пусть побудет пару часиков привязанным к дереву – может, это вправит ему мозги. А ребята проследят, чтобы с ним ничего не случилось. Для разведки же десяти человек вполне хватит.
Махнув рукой четверке, остававшейся с Оделлом, мы растворились в лесной чаще.
12 июня 1755 года. Долина реки Джуниаты, недалеко от ее впадения в Сасквеханну. Кузьма Новиков, он же Ононтио
О-о-х, как бок болит! Просто мочи нет, болит, словно мне кто-то ребра из груди выдирает! Это ж надо, как меня угораздило! Помру я, наверное, навсегда останусь в стране этой чужой, так и не увидев больше родную землю. Старики рассказывали мне, что когда человек умирает, то перед ним проходит вся его жизнь. Вот лежу я сейчас и слышу, как птички надо мной щебечут. И вспоминается мне озеро Шерегодро, возле которого я родился. Там тоже птички щебетали, и лес тоже был большой. Но не такой, как на земле этой, Америкой называемой.
Село наше – Кончанское – принадлежало царевне Елизавете Петровне, дочери императора Петра Алексеевича. А сам я из карел, или ливгиляйне, как мы себя называем. Бабка Настасья мне рассказывала, что когда-то предки наши жили далеко от тех мест, у Ладожского озера, которое похоже на море.
Только вот случилось так, что царю Михаилу Федоровичу после большой войны пришлось отдать те земли шведам. Карелы же решили не оставаться под лютеранами и ушли на юг. Поселились они на Новгородской земле. Мы, ливгиляйне, всегда хотели жить рядом с русскими – нашими братьями по вере православной.
Вот так я и стал русским, хотя хорошо помню рассказы бабки Настасьи про нашу родимую землю, про скалы и озера Карелии. Язык наш я тоже помню, только чаще мне по-русски говорить приходилось. Эх, как давно это было!
Когда же мне исполнилось семнадцать годков, староста отправил меня в Петербург, в услужение ко двору царевны Елизаветы Петровны. Только какой там был у нее двор – царевна жила бедно, скромнее иных графьев или баронов. Не жаловала ее царица Анна Иоанновна, шпыняла, все грозилась в монастырь отправить.
Одно только хорошо было – добрая была дочь царя Петра Алексеевича, не обижала слуг своих понапрасну. Да и простого народа не чуралась. Помню, как у нее в друзьях любезных был унтер-офицер Семеновского полка Алексей Шубин. А потом по приказанию суровой императрицы Анны Иоанновны его болезного били плетьми и сослали на край земли, на Камчатку. Другой же ее дружок был и вовсе из простых казаков малоросских – певчий Алексей Розум. Не знаю почему, но царевне Алексеи всегда нравились.
И хотя меня не Алексеем звали, только царевна и меня тоже полюбила. А что, парень я был видный – высокий и сильный. Да и нравом был веселый, песни пел душевные, плясал хорошо. Царевна же сильно скучала по Алексею Шубину. И вот заметил я, что дочь царя Петра стала поглядывать на меня как-то так, внимательно и задумчиво.
Стала меня Елизавета Петровна привечать – здоровалась со мной по имени, на праздники гостинчики присылала. К делу меня приставила – начал я помогать кузнецу, который работал на Смольном дворе – там жила царевна в Девичьем дворце, который велел для нее построить отец Елизаветы Петровны – царь Петр Алексеевич.
Кузнечное ремесло мне нравилась. Силушкой меня Господь не обидел, да и, махая тяжелым молотом, не раз вспоминал я кузнеца Илмаринена, выковавшего волшебную мельницу Сампо. О нем рассказывала мне бабушка Настасья.
– Учись полезному делу, Кузьма, – не раз говаривал мне мой наставник, дядька Игнат. – Руки твои умелые всегда тебя прокормят.
И действительно, наука его мне потом не раз пригодилась.
Да, так вот, как-то раз, на Ивана Купалу, когда девки и парни песни вместе поют, хороводы водят и через костер прыгают, царевна взяла меня за руку и потащила на речку.
Эх, молодой я был, да и она была еще не старая, чуть больше двадцати ей было. А красивая какая! Высокая – два аршина и восемь вершков[28 - 180 см.], глаза голубые – шалые, волосы золотые, по плечам распущены, как у русалки. Нос, правда, курносый, только у наших карельских девок, считай, через одну такие же носы. Кожа же у царевны была белая, как снег, и бархатная, мягкая. Откуда я это знаю?
А вот знаю… Потому что от смеха ее серебряного, дыхания жаркого, запаха волос ее шелковых я словно с ума сошел. Словом, забыл я, что она дочь царская, а я мужик простой. И произошло у нас то, что между молодыми парнями и девками порой бывает.
Ох, как мы с ней любились тогда. Душа у меня на небо улетала, а от восторга грудь сжимало. А Лизонька обнимала меня руками своими горячими, да нежно в ухо шептала, целовала меня сладко… Так мы с ней до утра под тем кустом и пролежали, все любились и миловались.
Сейчас же я лежу один под другим кустом и жду, когда смерть моя за мной придет. Нет, видно, не видать мне больше родной сторонушки. А так хочется хотя бы раз ее увидеть…
Любовь же наша с царевной закончилась быстро. Нет, ни я ее не разлюбил, ни она меня. Просто нашлись соглядатаи подлые, которые прознали о наших с ней прогулках вдвоем в роще и донесли о них царице Анне Иоанновне. Правда, та не стала ссылать меня на край земли, как Лешку Шубина. Просто однажды пришел человек из царского дворца и объявил Елизавете Петровне, что, дескать, негоже, что такой крепкий парень у нее в холопах отсиживается, тогда как государево войско с супостатом воевать собирается. И забрили меня рекрутом на службу. Так стал я моряком.
Точнее, не простым моряком, а корабельным кузнецом и плотником. На кораблях военных люди такие всегда в большом уважении были, даже офицеры с ними советовались, как корабль поправить, что можно сделать, чтобы он целым и невредимым до родной гавани дошел. Кузнечное дело к тому времени я уже знал хорошо, ну, а плотницким делом мы, новгородские, почитай, сызмальства владеем.
А тут, как на грех, случилась замятня в Польше, где умер старый король, а новых королей местные магнаты выбрали сразу двоих. Одного – Станислава Лещинского – поддерживал его зять, французский король Людовик. А за второго – сына покойного короля Августа Саксонского Фридриха – была наша царица, Анна Иоанновна. Чтобы посадить на польский престол этого Фридриха, в Польшу вошли наши войска. В Данциге же хотел было высадиться французский десант, чтобы поддержать короля Станислава. Но наши солдаты во главе с генералом Минихом заставили французов убраться восвояси.
Меня же, когда все это началось, отправили послужить России-матушке. Попал я на 32-пушечный фрегат «Митау», которым командовал капитан полковничьего ранга Петр Дефремери. Хороший он был человек, хоть француз и папист. Матросов не обижал, с офицерами ладил. Только не повезло ему тогда, да и нам с ним заодно.
В начале лета 1735 года фрегат наш оказался неподалеку от Данцига в окружении сразу четырех больших военных французских кораблей. Уже стемнело, и уйти от противника вдоль берега было опасно. Места там мелководные, и можно было запросто выскочить на песчаную косу. Там бы нам и конец пришел – расстреляли бы нас французы из пушек. Капитан Дефремери созвал офицерский совет, на котором было решено, что раз Франция и Россия не воюют, то, значит, и опасаться особо нечего. Ведь захват нашего фрегата будет сравни пиратству. К французам послали с запиской от нашего капитана мичмана Войникова, но обратно он так и не вернулся.
А вместо него к нам на шлюпке приплыл французский офицер, который сказал, что капитану их адмиралом велено, чтобы Дефремери немедленно прибыл на флагманский корабль французской эскадры. Наш командир сказал, что он когда-то служил вместе с адмиралом Берейлом, который командовал французской эскадрой, и думает, что сможет договориться с ним, и все закончится миром. Только вышло все по-другому. Французы арестовали капитана Дефремери, а с их кораблей спустили шлюпки и захватили наш фрегат, объявив его призом. Повели они нас в Копенгаген – есть в Дании такой город. Вот так я и попал в неволю.
Правда, продержали наш «Митау» и его команду в плену недолго. Как я узнал потом, уже через месяц наши вернули французам их пленных, а они – наших, да и сам фрегат в придачу. Только меня уже с ними не было.
Дело в том, что я сбежал из плена. Ну не нравится мне быть в неволе, чай я не чижик какой, чтобы сидеть в клетке и песни распевать. Да еще французские солдаты – они такие наглые оказались. Все норовили толкнуть, когда идешь мимо них, и при этом смеялись тебе прямо в лицо. Ох, как хотелось ударить кого-нибудь из них прямо в рожу! Но приходилось терпеть – ведь они с оружием, а ты без. Убьют и за борт выкинут.
В общем, как-то раз ночью вышел я на палубу и увидел, что караульный солдат спит на посту, прислонив свою фузею к мачте. Потихоньку спустился я по трапу, сел в лодку, отвязал канат и был таков.
Потом долго бродил по порту, где таких же, как и я, моряков было полным-полно. И неожиданно услышал знакомую речь – кто-то кого-то спрашивал по-фински о том, какая завтра будет погода, и откуда будет дуть ветер.
Финский и карельский языки похожи. Я подошел к морякам и заговорил с ними. Они оказались матросами со шведского торгового корабля, который направлялся в Квебек – это город такой в Новом Свете. Шведы везли туда железо, а назад собирались загрузиться мягкой рухлядью – шкурками бобров, выдр и других зверей. Финны, которых звали Пекко и Микко, предложили мне отправиться вместе с ними в Новый Свет.
– Послушай, вейкко[29 - Братец, приятель (фин.).]– говорил мне Пекко, – так оно лучше будет. Сделаешь с нами пару рейсов, денег заработаешь, да и война к тому времени кончится. А, может, и насовсем там останешься – я слыхал, что в Америке этой живется легко и весело…»
Да, весело… Увы, прав оказался Пекко – видно, действительно в Америке этой я навсегда и останусь.
Бок болел все сильнее и сильнее. Кровь вроде больше уже не текла из раны, но я чувствовал, что силы меня покидают. Надо как-то добраться до дома. Только бы дождаться темноты. Эти разбойники, что меня подстрелили, к ночи вряд ли сюда вернутся…
Корабль наш дошел до Квебека благополучно. Правда, попали мы по дороге в сильный шторм, думали, что пойдем ко дну, только Господь смилостивился, и море успокоилось. Как оказалось, в Квебеке жили французы – такие же, как те, от которых я сбежал в Копенгагене. Только здесь они были попроще, да и нос перед нами не задирали. А вот англичане…
Из-за них-то я и остался в здешних краях. Разгрузили мы корабль и стали ждать, когда наш капитан сторгуется с местными купцами и наберет товару на обратную дорогу. А мы с Пекко и Микко отправились в местный кабачок, чтобы выпить стаканчик-другой рома. Эх, зря мы туда пошли…
Сидели мы втроем за столом, пили, разговаривали. Тут к нам и прицепился пьяный английский моряк. Морда у него была красная, видно, он уже давно бражничал. Чем-то ему Пекко не понравился. Сначала он бранился дурно – я уже начал понимать немного по-французски и по-английски – а потом взял, да и ударил Пекко по лицу.
Ну, тут и началась драка. Англичане полезли на помощь к своему, а за нас заступились французы – они страсть как англичан не любили. Этот краснорожий выхватил нож и на меня кинулся. А я взял да приложил его оловянной кружкой по голове. Да, видно, перестарался. Силушки у меня было много, да злой я был на этого драчуна. Словом, англичанин тот с ног свалился, да и сразу помер.
Тут стражники местные прибежали, но французы, которые с англичанами дрались, не выдали меня, а, наоборот, помогли из города бежать. А один охотник за бобрами, Жаком его звали, с собой взял, сказав, что пока все это дело не забудется, мне лучше бы в лесу пожить, от людей подальше. Потом можно будет вернуться в Квебек и наняться на корабль, идущий в Европу. Оттуда же и до России рукой подать…
Добрались мы с Жаком до хутора, на котором жили дикие люди, индейцами называемые. Это я потом узнал, что они разные бывают и друг друга часто не понимают. А так, поначалу, мне они показались одинаковыми, все на одно лицо. И бабы у них – те, к кому я попал, их называли «иаконкве» – тоже на наших не похожи. Но среди них были молодухи ничего, на лицо пригожие.
Узнал я и как племя именуется, в которое меня Жак привел. Французы называли их «макуасами», сами они себя – «каниэнкехака», а если по-русски – «людьми кремня»[30 - По-русски это племя обычно именуется «мохоки», реже «могавки».]. Мужики у них были хорошими охотниками, но смотреть на них было страшно – головы выбриты, словно у каторжан, лишь клок волос торчит. А как на войну идти, так еще и размалевывали себя красками страхолюдно. Воевать же они любили, нападали друг на друга, по поводу и без повода, чаще всего на таких же, как они, индейцев. Бились жестоко, а если в плен кого и брали, то мучили немилосердно.
Но меня они встретили хорошо. А когда узнали, что я в кузнечном деле разумею, да и плотницкое знаю, так вообще зауважали. Даже жену мне нашли, правда, не девку, а бабу вдовую, с двумя детишками – парнем и девкой. Мужа ее медведь задрал на охоте, так и жила она одна, без мужика, бедствовала. Сама она еще не старая была, моя ровесница, и на лицо пригожая. Белое Облачко ее звали. Красивое имя. А мне они тоже имя дали. Стали называть Ононтио – «огромный», «большой» на их языке. Я и вправду был выше их мужиков.
Вот так мы и начали жить с моей супругой невенчанные. Ведь где в лесу священника найдешь-то? Можно было, конечно, в Квебеке у кюре тамошнего повенчаться, только мне тогда в город лучше было не соваться. Да и не любил я папистов. Хотя были среди них и хорошие, душевные люди. Вон Жака взять. Он мне из Квебека инструменты кузнечные и слесарные привез, недорого взял. Я с ним шкурками рассчитался – вспомнил о самодельных ловушках, которые у себя в Кончанском делал. Стал их ставить, вот и пушнина появилась. Индейцы на них смотрели, удивлялись и лишь головами качали.
Стал я с женой своей жить-поживать, да добра наживать. Поселились мы отдельно, хотя тамошние индейцы живут все вместе в длинных домах – под одной крышей весь их род. Строят дом они всем скопом – созывают молодых парней и девок из селения. А за работу потом рассчитывались угощением. Работают они споро – день-два и дом готов. Правда, строили они дом не как у нас. Не рубили сруб, а ставили из дерева каркас и покрывали его корой. Селения их обычно состоят из одного-трех десятков таких домов, а то и больше. Хотя «люди кремня» и слывут храбрыми и воинственными, но свои деревни они на всякий случай огораживают высоким тыном.
Здешние бабы хотя мужей и слушают, но власть в племени имеют большую. Без их совета вожди ихние ничего не делают. Без согласия женского мужики не могли объявить войну, а сын не мог пойти в военный поход без согласия матери. В мирное время у них самый главный в роду «сахем». Все сородичи стоят друг за друга, помогают, мстят за обиды. Только вот выбирает этих самых сахемов самая старшая из баб местных – таких «сахема» называют. Меня как бы приняли в род, но все равно посматривали косо. Наверное, потому что мы с моей женкой жили отдельно. Я срубил избу, рядом устроил кузню, словом, хоть и со всеми, но как бы и сам по себе.
Родилось у нас двое детишек – сын и дочка. Я им русские имена дал: Андрей и Василиса. Но крестить их не крестил, хотя молитвам православным научил. Жили мы не тужили – я в кузнице работал, ножи ковал – индейцы за них много шкурок давали, оружие чинил, а если время было – на охоту ходил. Помню, как медведя на рогатину посадил. Мех у него оказался не такой, как у нашего, а черный и гладкий. Правда, здешние медведи были поменьше наших и не такие злые. А Облачко мое – я ее Аграфеной называл – все по дому делала: еду готовила, одежду шила, детей нянчила. Здесь бабы все хозяйство вели: сажали маис – это трава такая высокая – с человеческий рост, а на ней в листьях колос с зернами крупными. Сажали они на огородах бобы и тыквы. Индейцы собирали этот маис и продавали французам. А вот мужики такой работы чурались. Они заставляли рядом с бабами в поле трудиться пленных. Еще они сок варили, который добывали из местных кленов. Когда начиналась варка, то селение становилось пустым – все уходили в лес, ставили там шалаши и вываривали сок.
А вот воевать и охотиться – это мужское дело. Ну, а если не было войны и охоты, то мужики рыбу ловили.
…Так я прожил в селении индейском лет пятнадцать. А потом пришла к нам беда, откуда не ждали. Начали в селении люди болеть. Сначала у них начинался жар, на коже появлялись пузыри, которые вызревали и лопались. Люди задыхались – у них нарывало горло, – а потом умирали. Болезнь эта страшная оспой называлась. Я помню, что царевна Елизавета Петровна мне рассказывала, как от оспы этой умер ее племенник, внук императора Петра Алексеевича царь Петр II. Пятнадцатилетний парень где-то заразился и умер, хотя придворные лекари делали все, чтобы исцелить его.
Поговаривали, что оспу занесли к нам английские торговцы, которые продали в соседнем селении одеяла, в которые раньше заворачивали своих больных. А с этими одеялами и зараза передалась.
От этой проклятой болезни умерла моя жена и старшая дочка. Сыновья и младшая дочка, Бог миловал, не заболели. Да и я остался в живых, хотя за Аграфеной ухаживал до самой ее смерти. Помнится, бабка Настасья делала что-то, чтобы защитить меня от этой болезни. Кожу мне на руке разрезала и что-то в ранку втирала. Потом меня немного полихорадило, а ранка воспалилась. А через неделю все прошло.
А вот наши соседи почти все поумирали, а те, кто остался, разбрелись кто куда. И пришлось мне тоже уходить из селения, где я счастливо прожил столько лет. Решил я поселиться подальше от этого страшного места, где отдали Богу душу так много людей. Пошли мы на юг, но ни в одной индейской деревне нас не приняли: где просто прогоняли, а где и насилие над нами учинить хотели. Пару раз мы еле-еле отбились от них. Индейцы же кричали нам, что «люди кремня» – их враги.
И вот, наконец, дошли мы до земель племени, которых соседние племена называли «сасквеханноками», а сами они себя – «конестога». У них почти все племя перемерло от той же болезни, а те, кто остался в живых, перебрался в новую деревеньку, в которой было всего четыре «длинных дома». По языку они были схожи с «людьми кремня», и когда я спросил у них разрешения остаться, их совет после долгого совещания нам дал на это разрешение.
Сасквеханноки были людьми рослыми и крепкими – каждый, считай, с меня ростом. Я еще подумал, что у них меня вряд ли назвали бы «Большим» или «Огромным»…
…Ох, совсем мне что-то плохо стало. Перед глазами плывет какой-то морок. Вроде тумана, но это не туман. И на дым не похоже. Что-то мелькает перед глазами, а что – не пойму. Голоса какие-то слышатся. Может, это Аграфена за душенькой моей пришла? Подожди, родная, скоро мы будем вместе, недолго мне мучиться осталось…
А ведь не старый я еще, да и детишки у меня остались. Они, правда, взрослые уже. Два сына – один родной, один пасынок. Старший уже воин, сильный и храбрый. Вот только жив ли он, Желтый Бобер… Он ведь со мной был рядом, когда по нам из кустов злодеи стрелять начали.
Мы никого не трогали, шли себе к месту, где в Сасквеханну впадает ручеек, на берегу которого у меня спрятано два каноэ, выдолбленные из ствола тсуги – местной сосны. А по реке мы собирались спуститься к фактории Джона Харриса[31 - Джон Харрис – историческая личность, на месте его фактории и возникла столица Пенсильвании – Harrisburg.], англичанина, недавно поселившегося на левом берегу Мутной реки[32 - Неизвестно, как Сасквеханну именовали сасквеханноки, но название Сасквеханна – из языка Ленапе, и означает Мутная река.]. Хотели мы у него обменять шкурки белок и лис – бобры-то в этих местах уже повывелись – на порох и свинец. У нас стрелять стало нечем, вот я и решил вместе с сыном и двумя молодыми воинами заглянуть к торговцу. Индейцев он, правда, случалось, обманывал. Но меня-то нет. Стреляного воробья на мякине не проведешь. Ан вот, как все вышло-то…
Идем мы, значит, по тропке, что вдоль обрыва стелется. Вдруг из кустов впереди: бах-бабах! И облачко порохового дыма вверх поднялось. Вижу, как воин, который впереди шел, взмахнул руками, и упал. Желтый Бобер – он тюки с мехами нес – уронил тюки и за грудь схватился. А третий воин, Скачущий Олень, крикнул мне, что уведет врагов, и стал карабкаться на скалу. У самого же кровь по руке течет – похоже, что и его пуля задела.