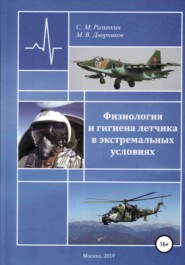скачать книгу бесплатно
Рис. 2.5. – Сравнительная характеристика числа летчиков, предъявлявших жалобы, и количества жалоб на одного человека в зависимости от времени перебазирования в Узбекистан (1) и в Афганистан (2)
Рис. 2.6. – Зависимость числа летчиков, предъявлявших жалобы, от времени перебазирования в Афганистан
Необходимо отметить, что предварительное 12–15-дневное пребывание в Кагане или Чирчике (Узбекистан) оказывалось явно недостаточным для акклиматизации летного состава. Это подтверждается данными динамики снижения массы тела. Так, у летчиков, прибывших в Афганистан в феврале, мае, июле и сентябре, потери массы тела составили в среднем за один месяц 1,1; 6,5; 7,4; 3,5 кг, а суммарно за два месяца 1,9; 8,5; 10,5; 4,6 кг соответственно (рис. 2.7).
Рис. 2.7. – Динамика снижения массы тела у летного состава в зависимости от времени перебазирования в Афганистан: 1 – в феврале; 2 – в сентябре, 3 – в мае; 4 – в июле
Столь существенная разница в динамике снижения массы тела вызвана комплексом факторов: крайне высокими (до 45–50°С) внешними тепловыми нагрузками, более интенсивной нагрузкой в летний период, выраженным психоэмоциональным напряжением.
Наибольшие величины снижения массы тела у летчиков отмечались при сочетании воздействия летной и климатической нагрузок, которые в первые и последние два-три месяца пребывания в Афганистане также имели наибольшие значения (рис. 2.8).
Рис. 2.8. – Годовая динамика показателей налета (А), температуры воздуха (Б), потери массы тела (В), заболеваемости (Г) у командиров (1) и операторов (2) во время пребывания в Афганистане и после возвращения на аэродром основного базирования
Естественно, наибольшей была эмоциональная нагрузка. Об этом говорит более выраженная в течение всего года службы в Афганистане потеря массы тела у командиров вертолетов, на которых ложилась ответственность за успешное выполнение задания. На третьем месяце величины снижения массы тела у командиров и штурманов имели достоверные различия (р < 0,05).
Заболеваемость летчиков, хотя имела несколько иную динамику, в целом отражала характер изменения функционального их состояния. В частности, при пиковых значениях снижения массы отмечалась более низкая заболеваемость, которая имела более высокие цифры в первые два месяца и при снижении летной, нервно-психической и климатической нагрузок к январю, а также в первые четыре месяца после возвращения к основному месту базирования. В данном случае отношения между рассматриваемыми показателями являются более сложными и определяются различиями в степени напряжения функциональных систем организма в наблюдаемые периоды.
Анализируя причины снижения массы тела, можно отметить, что высокие температуры, интенсивная в летний период нагрузка, выраженное нервно-эмоциональное напряжение, воздействуя на недостаточно акклиматизированного летчика, приводили к выбросу катехоламинов, обладающих выраженным термогенным действием, способствующим изменению всех видов обмена, в частности к повышенному катаболизму белков. При этом резко снижался аппетит, чрезмерно увеличивалось потоотделение, сопровождающееся постоянной жаждой и потреблением до 10–12 л воды. «Непроизвольная дегидратация», возникающая вследствие терморегуляционного перераспределения крови, приводила к расстройствам работы желудочно-кишечного тракта (боли в желудке, энтероколиты, сопровождающиеся в течение двух-трех месяцев в жаркий период поносами, что, в свою очередь, приводило к ухудшению аппетита, усилению жажды и увеличению водопотребления).
Отмечаемый в сентябре-декабре рост заболеваемости вирусным гепатитом среди летчиков мог быть обусловлен выраженным проявлением острого адаптационного периода, а также длительным (до 6 мес) снижением иммунореактивности организма, характерным для неблагоприятного влияния высоких температур (Моммадов И. М. и др., 1985). Так, по данным анализа медицинской документации в авиагарнизоне Джелалабад, из 120 летчиков, прибывших в июле 1983 г., 19 человек перенесли в октябре-январе вирусный гепатит, из 60 летчиков, прибывших в конце сентября, – только 3 человека.
По данным ретроспективного анкетного опроса 75 человек проведен анализ изменения функционального состояния и работоспособности летного состава, вернувшегося после прохождения службы в авиагарнизонах Кундуз и Джелалабад к месту постоянного базирования в Закавказский военный округ (Телави).
Данные анкетирования позволили выявить зависимость частоты ухудшения работоспособности летчиков от степени нервно-психического напряжения и климатических условий в Афганистане. Так, несмотря на практически одинаковый общий налет в течение года в группе летчиков вертолетов Ми-8МТ на ухудшение работоспособности указывали до 60–70% летного состава против 30–33% летчиков транспортных вертолетов Ми-6 (рис. 2.9).
Рис. 2.9. – Годовая динамика доли (в %) летного состава вертолетов Ми-6 (1) и Ми-8МТ (2), прибывших из ЗакВО в Джелалабаде (А) и Кундузе (Б) в различные сроки и способных по субъективной оценке к выполнению служебных обязанностей на оптимальном уровне
Кроме того, длительность периода ухудшения работоспособности была больше у летчиков вертолетов Ми-8МТ, проходивших службу в Джелалабаде, где температура в тени достигала +48…+50°С, по сравнению с летчиками вертолетов Ми-8МТ, базировавшихся в Кундузе, где температура в тени не превышала +44…+46°С. В указанных группах отмечались аналогичные изменения и субъективного состояния летчиков.
Среди причин, определяющих столь существенные различия ухудшения работоспособности в группах летчиков вертолетов Ми-8МТ и Ми-6, можно выделить:
• более выраженный стресс у летчиков вертолетов Ми-8МТ, чаще выполняющих сложные боевые полетные задания;
• разные условия обитаемости на рабочем месте в кабине этих вертолетов (более неблагоприятные на Ми-8МТ).
В таблице 2.11 приведена оценка летчиками значимости факторов, влиявших на качество пилотирования и боевого применения вертолетов. Если летчики Ми-6 в качестве ведущих неблагоприятных факторов выделяли перепады температуры и шум, характерные и для полетов в условиях Закавказского военного округа, то летный состав Ми-8МТ отмечал недостаток воздуха при выполнении полетов и крайне высокие уровни загазованности кабины в режиме висения во время десантирования и ведения стрельбы.
Таблица 2.11 – Влияние факторов на качество выполнения полетного задания на различных типах вертолетов
Выявленные различия в уровнях работоспособности подтверждаются и данными о динамике состоянии здоровья, оцениваемыми по частоте обращения за медицинской помощью. Так, обращаемость за медицинской помощью в Афганистане в течение года среди летчиков вертолетов Ми-6 и Ми-8МТ составила 29 и 56 человек соответственно. Эта закономерность ухудшения здоровья и снижения резервных возможностей у летного состава, обусловленных комплексом неблагоприятных факторов летного труда в условиях в Афганистане, прослеживается и после возвращения в район основного базирования Закавказью (г. Телави). Правомерность такого заключения объясняется тем, что летчики сравниваемых групп до Афганистана в течение двух-трех лет проходили службу в одном авиагарнизоне, перебазировались в одно время года (сентябре), в Афганистане базировались в одном районе (Кундуз) и в сентябре следующего года одновременно вернулись в Телави. Обращаемость за медицинской помощью у летного состава Ми-8МТ за 8 мес после возвращения по сравнению с 2-летнеим периодом до службы в Афганистане возросла в 5–6 раз, у летчиков Ми-6 – в 2,5–3 раза. Отмечены и изменения диагноза при прохождении врачебно-летной комиссии в 18% и 10% случаев соответственно: после прибытия в Афганистан вирусным гепатитом заболело 2 летчика вертолета Ми-8, а после возвращения в Телави – 8 и 1 человек соответственно. Причем следует отметить, что эта категория летного состава находилась в наиболее благоприятных условиях, т. к. до прибытия в Афганистан имела опыт полетов в горных условиях при повышенных температурах и частично адаптировалась к горному климату.
Данные изучения динамики психофизиологического состояния, летного состава в течение всего периода выполнения деятельности в экстремальных условиях Афганистана в зависимости от сроков замены в различные сезоны года показали, что замена в летний период (в июне-июле), в самый пик температурных условий, по сравнению с осенне-зимним периодом характеризуется наиболее выраженными неблагоприятными проявлениями.
Сравнительная оценка субъективной переносимости летной, нервно-психической и физической нагрузок, а также влияния неблагоприятных факторов среды обитания летчиками армейской авиации в зависимости от сроков замены (в летний и осенний периоды) представленная в таблице 2.12, свидетельствует о том, что доля летного состава, прибывших в летний период и отмечавших пониженную переносимость, была существенно выше.
Таблица 2.12 – Сравнительная оценка переносимости летной, нервно-психической и физической нагрузок, влияния неблагоприятных факторов среды обитания летчиками армейской авиации (%) в зависимости от сроков замены (в летний и осенний периоды)
Это подтверждают и данные о характере и частоте жалоб летчиков армейской авиации (%), о неблагоприятном влиянии воздействующих факторов в полете (измененного функционального состояния и среды обитания) на самочувствие и работоспособность в зависимости от сроков замены в летний и осенний периоды года в Афганистане (табл. 2.13). Обращает внимание тот факт, что при замене в летний период года большее число летчиков отмечало в полете жалобы на выраженное нервно-психическое напряжение, усталость, изменение самочувствия (раздражительность, головная боль, боли в области сердца, желудка, одышка и др.). Косвенно о существенном изменении самочувствия в период выполнения полетов и после их завершения говорят данные о неконтролируемом приеме летчиками фармакологических препаратов, направленный на нормализацию сна, работы кишечника, снятие головной боли, к которому вынуждены были прибегать около 85% опрошенных (табл. 2.14).
Таблица 2.13 – Число летчиков армейской авиации (%), отмечающих в полете неблагоприятное влияние воздействующих факторов (измененного функционального состояния и среды обитания) на самочувствие и работоспособность при замене в летний и осенний периоды года в Афганистане
Таблица 2.14 – Данные о частоте неконтролируемого приема летчиками (в %) фармакологических средств
Анализ полученных материалов позволяет сделать вывод о существенном изменении функционального состояния и снижении реактивности организма летчиков в отношении как качества выполнения профессиональной деятельности, так и переносимости неблагоприятных условий среды обитания. К 10–12-му месяцам пребывания в Афганистане число летчиков, отмечавших низкую переносимость летной, нервно-психической и физической нагрузок, и число летчиков, выполнявших полеты на фоне повышенного нервно-психического напряжения, усталости, было примерно одинаковым.
Объективная оценка динамики психофизиологического состояния летного состава через 2,5; 4 и 8 мес при замене в летний период и через 9–10 мес при замене в осенний период позволила установить следующее. При замене летчиков в летний период года показатели самочувствия, активности, настроения (по методике САН) начинали ухудшаться уже с 1-го месяца боевой деятельности и сохранялись на пониженном уровне в течение всего периода пребывания. При этом наиболее низкие значения самооценки субъективного состояния были зарегистрированы через 2,5 и 10 мес (рис. 2.10).
Рис. 2.10. – Зависимость показателей теста САН у летчиков вертолетов Ми-24 от продолжительности участия в боевых действиях
Примерно в те же сроки отмечены и статистически значимые психофизиологические изменения (табл. 2.15). Так, через 2,5 мес на фоне потери массы тела в среднем на 10 кг (от 6 до 20 кг) у 46% летчиков отмечались явления невротизации, существенно понизилось систолическое и пульсовое артериальное давление, ухудшились показатели переносимости функциональных нагрузочных проб: снизилось максимальное мышечное усилие после 30-секундной статической нагрузки, увеличились угол поворота при проведении шаговой пробы и ортостатический индекс при выполнении активной ортостатической пробы.
Таблица 2.15 – Динамика психофизиологических показателей у летчиков, перебазировавшихся в Афганистан в летний период
Примечания: 1) приведены средние данные со средним отклонением; 2) звездочками отмечены достоверные различия по отношению к фоновым данным: * – p < 0,05; ** – p < 0,01.
Через 8 месяцев, несмотря на снижение климатической и профессиональной нагрузок, повторно отмечались существенное снижение пульсового давления, обусловленного увеличением диастолического артериального давления, увеличение угла поворота при выполнении шаговой пробы, увеличение ортостатического индекса и тремора пальцев рук при проведении координатометрии. Потеря массы тела в этот период составила в среднем 7 кг.
При анализе летной документации установлено, что за 2,5 мес боевой деятельности налет по группам (авиационная эскадрилья) в среднем составил 115 ч. Неравномерное распределение летной нагрузки среди летного состава (табл. 2.16) способствовало развитию в этот период неблагоприятных функциональных изменений.
Таблица 2.16 – Распределение величины летной нагрузки среди летчиков (%) за 2,5 мес участия в боевой деятельности
Явные признаки переутомления развились преимущественно у летчиков, имевших налет более 150 ч за 2,5 мес. В результате ухудшения функционального состояния отмечалось и снижение профессиональной работоспособности и боевой эффективности. По мнению летного и командного состава, эти нарушения проявлялись при поиске наземных целей, десантировании, посадке на необорудованный аэродром или ограниченную по размерам площадку: летчики испытывали затруднения в считывании приборной информации, ведении визуальной ориентировки, выполнении точно координированных движений. Ряд лиц отмечал к концу летного дня понижение остроты зрения, проявлявшееся в ухудшении восприятия показаний приборов.
Закономерным следствием снижения работоспособности явилось возрастание ошибочных действий, допускавшихся летчиками на различных этапах боевой деятельности. И хотя в течение первых 4–5 мес за счет резервных возможностей организма и высокой физиологической цены выполнения летной работы удавалось поддерживать относительно стабильный уровень работоспособности, в последующем вследствие развивающегося переутомления количество ошибок на 100 ч налета резко увеличивалось (рис. 2.11).
Рис. 2.11. – Распределение количества ошибок по месяцам боевой деятельности авиационной эскадрильи вертолетов Ми-24 (в расчете на 100 ч налета)
Дальнейшее обследование показало, что при замене летного состава в осенний период года у командиров экипажей Ми-8МТ и Ми-24 соответственно после 9 и 10 мес боевых действий отмечались фактически достоверные изменения в показателях психофизиологических функций (табл.2.17 и 2.18).
Таблица 2.17 – Психофизиологические показатели у летчиков вертолетов Ми-8МТ после 9 мес боевой деятельности
Примечания: 1) контрольная группа – летчики, проходившие службу в Средней Азии, основная – летчики, выполнявшие полеты в Афганистане; 2) приведены средние значения со средним отклонением; 3) звездочкой (*) отмечены достоверные различия по отношению к данным контрольной группы летчиков (р < 0,01).
Таблица 2.18 – Динамика психофизиологических показателей у летчиков вертолетов Ми-24
Примечания: 1) приведены средние значения со средним отклонением; 2) звездочками отмечены: * – p < 0,05; ** – p < 0,01.
При исследовании сердечно-сосудистой системы наиболее отчетливые сдвиги выявлялись при выполнении активной ортостатической пробы.
Так, у большинства летчиков контрольной группы ортостатический индекс находился в диапазоне 1,2–1,6 отн. ед. (т. е. в пределах физиологической нормы) и лишь у 16% превышал верхнюю границу. У летчиков, обследованных после 9 и 10 мес участия в боевых действиях, число лиц с умеренными величинами ортостатического индекса было в 2 раза меньше, а число случаев с неудовлетворительной ортостатической устойчивостью – в 3 раза больше. При оценке ортопробы по ортостатическому рефлексу между группами также установлены существенные различия. Если у летчиков контрольной группы с нормальным функциональным состоянием ортостатический рефлекс характеризовался увеличением частоты сердечных сокращений не более чем на 20 уд/мин, то у командиров экипажей боевых вертолетов после 9 и 10 мес боевой деятельности прирост частоты пульса при выполнении ортопробы нередко достигал 32–34 и даже 40–60 уд/мин.
Более подробный анализ состояния летчиков различных групп с учетом систолического артериального давления и оценок реакции на ортопробу приведен в табл. 2.19. При сравнении с контрольной группой выявлены следующие изменения в основной группе:
• увеличилось число летчиков с пониженным или повышенным систолическим АД в покое за счет снижения числа лиц с оптимальным значением АД;
• увеличилось число летчиков с симпатотоническим типом реакции на ортопробу при исходном снижении величины систолического АД (ниже 115 мм рт. ст.);
• у абсолютного большинства обследованных летчиков снижена величина пульсового давления как относительного показателя ударного объема сердца.
Таблица 2.19 – Сравнительная характеристика распределения летчиков (в %) в контрольной и опытной группе с исходным уровнем артериального давления и выраженности реакции на ортостатическую пробу (по ортостатическому индексу)
Характер мозгового кровотока изучался методом реоэнцефалографии (РЭГ). На реоэнцефалограммах было выявлено, что у летчиков основной группы длительность анакротической фазы выше, чем у контрольной группы, на 35,4% и 13,5% (в зависимости от полушария мозга). У некоторых лиц после 11 мес пребывания в Афганистане обнаружена явная асимметрия в скорости проведения пульсовой волны.
Между группами в показателях реографического индекса, характеризующего пульсовое кровенаполнение головного мозга, имелись достоверные различия. Особенно отчетливо это проявлялось при выполнении функциональных проб с физической нагрузкой. В последнем случае прирост РИ в основной группе на 10–15% был ниже, чем в контрольной (р < 0,02). По-видимому, у летного состава после длительной и напряженной боевой деятельности механизмы саморегуляции кровообращения вследствие их истощения не могли должным образом обеспечить необходимое кровенаполнение сосудов мозга. Возможно и то, что уровень кровенаполнения уже в покое находился на верхней границе оптимума, что требовало дальнейшего прироста реографического индекса при функциональных нагрузках. Анализ данных выполнения сердечно-сосудистой пробы Руфье – Диксона показал, что с увеличением продолжительности участия летчиков в боевых действиях ухудшалась работоспособность сердца. Если до убытия в Афганистан хорошую переносимость физической нагрузки имел практически весь летный состав, то в период адаптации к высокой температуре окружаю щей среды и особенно после 9 мес пребывания в Афганистане значительно возросло число лиц со снижением показателей сердечной деятельности (табл. 2.20).
Таблица 2.20 – Распределение летного состава (%) по переносимости дозированной физической нагрузки (по данным выполнения пробы Руфье – Диксона)
Заслуживает внимания тот факт, что у 22,7% летчиков основной группы после дозированной физической нагрузки (30 приседаний за 45 с) на ЭКГ наблюдалось смещение интервала S–T ниже изолинии более чем на 0,1 мВ или выше изолинии на 0,2 мВ, что свидетельствует о скрытой коронарной недостаточности. Указанные изменения в основном отмечались у командиров экипажей с боевым налетом свыше 450 ч. При сопоставлении длительности электрической систолы с должной величиной Q–T у лиц контрольной и основной группы (см. табл. 2.21) выявлено, что у 44% лиц основной группы наблюдалось ее удлинение по отношению к должной величине более чем на 0,04 с, что является одним из признаков сниженных функциональных возможностей сердечной мышцы (Максимович В. А., 1985).
По величине систолического показателя (когда он достигает 50% уровня и более) также отмечены статистически значимые различия в группах. Если в контрольной группе этот показатель не выходил за пределы нормальных значений, то у 19,2% летчиков основной группы он превышал должный уровень, что является неблагоприятным признаком.
Таблица 2.21 – Число случаев (%) удлинения электрической систолы по отношению к должной величине более чем на 0,04 с у обследованного летного состава
Известно, что при исследовании электрической активности сердечной мышцы в условиях эмоционального напряжения наибольшим изменениям подвергаются зубцы P и Т. С учетом того, что летный состав основной группы длительное время находился в условиях чрезмерного эмоционального напряжения, при анализе ЭКГ прежде всего обращалось внимание на величину этих зубцов. Оказалось, что амплитуда зубцов P у летчиков основной группы на 32 % меньше (р < 0,01), чем у лиц контрольной группы. Несколько ниже и величина зубца Т. Значительно изменилось соотношение зубцов Р/Т. Если в контрольной группе оно было равно 50%, то у летчиков основной группы всего 41% (р < 0,05). Уменьшение амплитуды зубцов P и индекса Р/Т свидетельствует о повышении тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы у летчиков основной группы.
Результаты исследования времени реакции на световой раздражитель показали, что летчики основной группы реагировали на предъявляемый световой стимул на 27 мс медленнее, чем лица контрольной группы. Наряду с этим у 43% лиц основной группы выявлено наличие эксцесс-реакций.
Интегральный показатель тремора пальцев рук (по частоте и амплитуде) у летчиков основной группы был на 39% больше, чем у лиц контрольной группы (см. табл. 2.17). У некоторых летчиков после 9 мес участия в боевых действиях выраженность тремора была в два раза больше, чем до убытия в Афганистан.
Диапазон угла поворота при выполнении шаговой пробы в 75% случаев составлял не более 45°, а линейное смещение – до 1 м (предел физической нормы). У 30% летчиков основной группы выявлено чрезмерное отклонение показателей от нормальных значений: угол поворота тела достигал 90° и более, а линейное смещение – свыше 1 м.
В результате динамометрических исследований наиболее выраженные изменения выявлены у летчиков вертолета Ми-24. Так, по сравнению с исходными данными сила мышц и мышечная выносливость у летчиков снизились соответственно на 13 и 10 кг (табл. 2.18), а физическая цена, затраченная на выполнение заданной статической нагрузки, увеличилась на 12,5 %.
При электропунктурной диагностике установлено, что у летчиков основной группы в биологически активных точках кожи (БАТК) левой и правой ветви меридианов отмечалась выраженная асимметрия электропроводимости (рис. 2.12).
Рис. 2.12. – Величина асимметрии электрической проводимости в БАТК левой и правой ветви меридианов у летчиков с различным функциональным состоянием после 9–10 мес пребывания в Афганистане (* – p < 0,05; ** – p < 0,01)
Ранее аналогичная картина в динамике электропроводимости в БАТК наблюдалась при значительном утомлении, а также при заболеваниях нервной системы.
Проведенная оценка изменения психического статуса летчиков основной группы свидетельствует, что через 9–10 мес боевой деятельности повышенная раздражительность и различные нарушения сна отмечались соответственно у 31 и 39% летчиков, а в контрольной группе – только у 6 и 0% соответственно. У 11,8% летчиков довольно часто возникало раздражение при общении с товарищами, а 15% считали, что они близки к нервному срыву. Кроме того, у 11,8 % летчиков отмечались выраженные нарушения регулятивных психических функций, в частности частое возникновение перед полетами апатии и безразличия к выполнению полетного задания. В контрольной группе таких лиц не было выявлено. Изменения психического статуса летчиков проявлялись прежде всего в изменении личностных особенностей, оцениваемых с помощью стандартизированного метода исследования летчика (рис. 2.13).
Рис. 2.13. – Личностные особенности группы летного состава по шкалам СМИЛ до убытия (1) и через 9 мес пребывания в Афганистане (2)
Различия проявлялись при сравнении как формы профиля, так и абсолютных значений шкал. Усредненный профиль, характеризующий личностные особенности летного состава, находившегося в Афганистане, расположен значительно выше 60 F. Достоверные различия наблюдались по 1–5-й и 7-й шкалам, а также по оценочным шкалам L и F.
О наличии выраженных эмоциональных нарушений у летчиков, находившихся в Афганистане, в первую очередь указывает повышение показателей по шкалам 1–3 (так называемая «невротическая триада»). Конфигурация профиля личности летчиков данной группы типична для лиц, обеспокоенных своей оторванностью от внешнего мира и испытывающих трудности социальной адаптации к окружающей действительности. Это приводило к появлению длительных негативных эмоций, выраженному состоянию тревожности и эмоционального напряжения (пик на шкале 2 при относительно низком значении по шкале 3).
Кроме того, летчикам этой группы была свойственна большая откровенность и раскрепощенность в описании своих переживаний. Они требовали сочувствия и сопереживания со стороны других лиц (снижение по шкале L и повышение по шкале F). Повышение показателей 4-й шкалы на фоне описанных изменений профиля личности в группе летчиков, находившихся в Афганистане, указывает на тенденцию реализации состояния эмоционального напряжения в непосредственном поведении. Для этих летчиков характерны появление агрессивных тенденций, пренебрежение к принятым общественным, моральным и этическим нормам. В данной группе летчики, имеющие ярко выраженные нарушения нервно-психического статуса, составляли 44,1%.
Помимо изменений личностных особенностей у летного состава, находившегося в Афганистане, по сравнению с периодом перед убытием на 13,2% увеличилась реактивная ситуационная тревожность (р < 0,05), повысился уровень эмоциональной реактивности, что свидетельствует о снижении эмоциональной устойчивости (рис. 2.14). Изменилась реакция на цветовой тест Люшера, что характерно для ситуаций, связанных с увеличением значимости внутренних конфликтов и проблем.
Рис. 2.14. – Динамика реактивной тревожности (а), эмоциональной реактивности (б), теста Люшера (в) у летчиков до убытия и через 9 мес пребывания в Афганистане
Эффективность профессиональной деятельности в боевых условиях в значительной мере определяется состоянием морального духа летного состава, в формировании которого наряду с социальными факторами значительную роль играет мотивация. Являясь мощным регулятором поведенческих реакций, она оказывает воздействие на развитие функциональных нарушений прежде всего психогенной природы. Так, по результатам анонимного анкетирования у 95% летного состава вертолетной авиации и у 80–85% летчиков истребительной авиации мотивация к профессиональной деятельности в конце годичного срока пребывания в Афганистане отсутствовала. Еще до убытия в Афганистан положительный мотив был выявлен только у 40–60% летчиков в зависимости от степени информированности об условиях предстоящей деятельности. В последующем под влиянием конкретных условий мотивация снижалась, а у 5–8% от общего числа опрошенных летчиков наблюдалось снижение мотивации не только к выполнению боевой деятельности, но и к летной работе.
Мотивация к работе в условиях Афганистана формировалась постепенно под влиянием разнообразной информации как позитивного, так и негативного плана. Личностные, социальные, служебные и другие аспекты мотивации также участвовали в ее формировании. К моменту убытия в Афганистан летчик уже имел сформированное отношение к предстоящей деятельности, и экстремальность условий существования, усугублявшаяся социально-бытовыми факторами, завершала создание негативного отношения к летной деятельности в условиях Афганистана. Косвенным подтверждением сказанного является отношение летчиков к содержанию и полезности своей работы (табл. 2.22 и 2.23). Так, если до прибытия в Афганистан 14 % летчиков хотели выполнять другую работу или выполняемая работа их угнетала, то в первые три месяца в Афганистане число таких летчиков составило 47%, а на завершающем этапе к 10–12-му месяцам – 66%. При этом 9% летчиков в Афганистане отмечали, что не убеждены в полезности своей работы.
Таблица 2.22 – Характеристика динамики изменения отношения летчиков (%) одной из частей армейской к выполняемой работе в период пребывания в Афганистане
Таблица 2.23 – Оценка степени полезности выполняемой работы летчиками одной из частей армейской авиации (%) в различные периоды пребывания в Афганистане
Отрицательная или недостаточно выраженная мотивация у летного состава сочеталась с пониманием необходимости выполнения своего воинского долга. Такое «раздвоение» наряду с другими причинами являлось серьезной предпосылкой для развития ряда психосоматических заболеваний. Анализ заболеваемости позволяет подтвердить существующее влияние психодинамических факторов на здоровье летного состава. Так, в структуре общей заболеваемости и трудопотерь летного состава во время пребывания в Афганистане после инфекционных и паразитарных заболеваний (45,7%), на втором месте находятся болезни органов пищеварения (18,5%), а на третьем – болезни нервной системы (12,5%). Экстремально высокий уровень комплекса воздействующих факторов, превышающий функциональные возможности организма летного состава, вынужденного выполнять профессиональную деятельность на фоне утомления и сниженной мотивации, привел к существенному увеличению заболеваемости. Так, по сравнению с заболеваемостью до направления в Афганистан во время пребывания и после возвращения из Афганистана отмечалось 3–4-кратное увеличение заболеваемости нервной системы (10,2; 34,0 и 40,8% соответственно) и 6–7-кратное увеличение заболеваемости органов пищеварения (6,8; 51,0 и 54,4% соответственно). Высокую степень значимости психодинамических факторов, воздействующих на летный состав, подтверждает также анализ дисквалификации летного состава. В структуре дисквалификации летного состава в Афганистане преобладали неврозы (16,2–23,1%), а на 2–3-м месте находились язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (17,9–21,6%), хронический гастрит и гастродуоденит (14,2–23,1%).
Резюмируя все вышесказанное, необходимо отметить, что специфические условия жизнедеятельности и интенсивная летная нагрузка приводили к существенному ухудшению профессионального здоровья летного состава в Афганистане. Субъективно отмечаемое ухудшение самочувствия, изменение функционального состояния и реактивности организма в отношении профессиональной деятельности, нервно-психических нагрузок, условий среды обитания регистрировались практически постоянно в течение всего периода пребывания в Афганистане. Особенно неблагоприятное влияние на функциональное состояние летного состава оказывала резкая смена климатических условий при проведении замены в летний период. Объективно регистрируемые показатели, свидетельствующие о снижении приспособительных возможностей сердечно-сосудистой системы, в том числе и степень кровенаполнения сосудов мозга, проявление признаков коронарной недостаточности, значительный дисбаланс лабиринтной функции (вестибуловегетативной устойчивости), снижение мышечной выносливости и координации совместной деятельности зрительного и двигательного анализаторов, ухудшение состояния нейродинамических процессов и потеря массы тела подтвердили субъективные оценки летного состава. Выделяют два периода существенного ухудшения функционального состояния летного состава. К ним относятся первые два-три месяца при замене в летний период и последние три-четыре месяца независимо от срока замены.
Практически у большинства летчиков в периоды интенсивной летной нагрузки отмечались дизадаптационные явления, проявлявшиеся в форме изменения реактивности организма, явления хронического утомления и переутомления, которые в сочетании с нарушениями нервно-психического статуса и пониженной мотивации приводили к заболеваемости или снижению профессиональной надежности летного состава. По всей видимости, изменения в функциональном состоянии летчиков наряду с недостаточной профессиональной подготовкой, техническими и эргономическими недостатками авиационной техники способствовали увеличению боевых потерь ЛА и гибели людей, а также небоевых потерь. И если летчики, имевшие те или иные заболевания, нуждались в лечении, то для летчиков с проявлениями дизадаптационных явлений требовалось применение медико-психологических средств сохранения и коррекции функционального состояния.
Глава 3. Изменение психофизиологического состояния человека-оператора при воздействии высоких температур
3.1. Аналитический обзор
С учетом материалов предыдущей главы, свидетельствующих о воздействии на летчика в кабине летательного аппарата высоких внешних тепловых нагрузок, в рамках данной главы необходимо было определить: во-первых, оказывает ли высокая температура влияние на работоспособность человека-оператора в реальном масштабе времени выполнения полетного задания летным составом; во-вторых, соответствует ли субъективная оценка качества выполнения деятельности объективно регистрируемым параметрам, в частности, насколько правомочны анкетные данные, свидетельствующие о снижении работоспособности у летчика в жаркий период года и возможном времени ее сохранения в условиях экстремально высоких температур в кабине ЛА; в-третьих, оценить, какова структура психофизиологических изменений при воздействии температурного фактора, что наряду с использованием общепринятых критериев теплового состояния может иметь важное самостоятельное значение при изучении эффективности методов повышения тепловой устойчивости у лиц операторского профиля.
Необходимость изучения поставленных вопросов была продиктована данными анализа материалов специалистов по авиационной медицине (Ажаев А. Н., 1979, Ажаев А. Н., 1986, Ажаев А. Н., Зорилэ В. И., 1980, Ажаев А. Н., Зорилэ В. И., 1988, Ажаев А. Н., Кузьмин А. С., 1992), свидетельствующими об отсутствии влияния высоких температур на работоспособность человека-оператора во временных интервалах, имеющих практическое значение. Так, по данным А. Н. Ажаева с соавт. (Ажаев А. Н., 1979, Ажаев А. Н., 1986, Ажаев А. Н., Зорилэ В. И., 1980), не зарегистрировано существенного изменения управления в режиме двухмерного слежения в течение 6 часов пребывания при температурах 45°С. При температурах 50 и 55°С значимые изменения качества деятельности были отмечены только в конце 4-го и 2-го часов воздействия, соответственно. Близки к указанным и данные об ухудшении работоспособности, полученные Ю. И. Приемским (1979). В свою очередь, В. А. Ефимову с соавторами (1982) не удалось найти изменений качества управления в режиме слежения при 60-минутных температурных воздействиях от 30 до 65°С. В то же время ранее приведенные нами собственные данные экспертной оценки летным составом времени сохранения работоспособности в условиях пребывания при температурах 30–45–55°С значительно ниже полученных указанными авторами.
Анализ доступных литературных источников также не позволил однозначно ответить на поставленные вопросы. Опубликованные в последнее время по материалам иностранной печати обзоры (Ажаев А. Н., Малинин И. Д., 1987, Grather W. F., 1973, Hancock P. A., 1984) преимущественно констатируют противоречивость данных о влиянии высоких температур на психофизиологическое состояние человека. Проведенный более системно обзор литературных данных позволил П. Ханкоку (Hancock P. A., 1982) заключить, что пороги понижения работоспособности при выполнении задач различной категории сложности находятся в обратно пропорциональной зависимости от прироста температуры тела. В частности, порог снижения простейших видов умственной работоспособности соответствует повышению температуры тела на 1,33°С, порог снижения выполнения слежения – 0,9°С и порог ухудшения комплексной работоспособности (двойные задачи) – повышению температуры тела на 0,22°С.
Не останавливаясь пока на результатах работ отдельных авторов, в целом, можно заключить, что сложившиеся к середине 60-х годов две точки зрения на характер изменения психофизиологического состояния человека под влиянием высоких температур находят своих сторонников и до настоящего времени. Инициатор первой точки зрения П. Уэбб (Webb P., 1961) считал, что снижение работоспособности под влиянием теплового стресса, является функцией приближающегося термофизиологического коллапса. Так, он писал: «…общее правило гласит: работоспособность начинает ухудшаться в любых заданных условиях, требующих трех четвертей переделов физиологической переносимости». Другой точки зрения придерживался Дж. Винг (Wing J., 1965), считающий, что кривая длительности температурной устойчивости при решении психофизиологических задач находится гораздо ниже сопоставимой кривой физиологической устойчивости к воздействию тепла в каждый момент времени.
Среди возможных причин отсутствия до настоящего времени единого мнения о характере влияния высоких температур на психофизиологическое состояние человека-оператора, что объясняется, по нашему мнению, рядом различных переменных, которые не могли не сказаться как на результатах, так и на выводах исследователей. Анализ работ позволил сгруппировать их в следующем виде.
А. Методические особенности моделирования теплового стресса и порядка тестирования в ходе экспериментальных исследований.
При первом варианте воздействие на испытателей высоких температур, кроме нагревания, проводимого в климатической камере с параллельным выполнением тестовых задач (Jampietro P. F., 1961, Mackworth N. H., 1950), использовалось предварительное нагревание в течение 60–120 мин с последующим определением работоспособности при высокой температуре (Alnutt M. F., 1971, Epstein J., 1980, Grather W. F., 1973, Wilcinson R. T., 1964), комфортной температуре (Марьянович А. Т., 1981, Садиков Г. Н., Азонова Е. К., 1982, Coutright J. F., 1982, Kenneth A., 1974).
При втором варианте прирост теплосодержания создавался с помощью костюма с водяной регуляцией температуры (Gibson T. M., 1979, Gibson T. M., 1980, Nunneley S. A., 1982), пребыванием в ванне, имеющей воду, нагретую до 41°С (Lind A. R., 1963), при выполнении в резиновом костюме ходьбы на тредбане (Benor D., 1971) с одновременной регистрацией психофизиологического состояния.
При третьем варианте – после работы на велоэргометре (Павлов А. С., 1990), выполнения марш-броска (Angus R., 1980).
Особенности используемых методических, подходов, вероятно определяют и существенные различия в состоянии организма испытателей к моменту проведения оценки работоспособности: развитие первичных адаптационных изменений к действию высоких температур при проведении предварительного в течение 60–120 мин теплового воздействия до начала тестирования, способное привести к существенному уменьшению интеркурентных взаимоотношений приспособительных реакций к звену «среда – деятельность», кроме того, исключение мощного потока импульсации с кожных терморецепторов при тестировании в комфортных условиях при первом варианте; исключение нагрева головы и испарительной теплоотдачи с туловища и конечностей, близкая к комфортной температуре вдыхаемого воздуха при втором варианте; при третьем варианте к некоторым из указанных недостатков первого и второго вариантов возможно приобщилось дополнительное влияние усталости или же повышение реакции активации после выполнения физической работы.
Б. Многообразие методов оценки работоспособности.
Обычно в исследовании используются от 1 до 3–5 методов оценки работоспособности; при этом, кроме простой и двухвыборной реакции, только в отдельных из представленных ниже работах они повторяются. В качестве иллюстрации мы их приводим в хронологическом порядке:
1) определение уровня бодрствования, считывание цифровых таблиц, тест на время реакции (Wilcinson R. T., 1964);
2) словообразование из 2 наборов букв (Konz S. A., 1969);
3) одномерное преследующее слежение, устный счет, двухвыборная реакция на свет (Jampietro P. F., 1969);
4) двухвыборная реакция на свет (Rota P., 1970);
5) скорость опознания звукового сигнала, время реакции на звуковой раздражитель (Benor D., 1971);
6) «полет» на тренажере (Jampietro P. E., 1972);
7) двухмерное компенсаторное слежение в сочетании с двухвыборной реакцией на свет (Приемский, 1978);