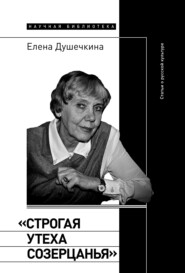скачать книгу бесплатно
«Строгая утеха созерцанья». Статьи о русской культуре
Елена Владимировна Душечкина
В посмертный сборник статей выдающегося специалиста по русской литературе и культуре, доктора филологических наук, профессора СПбГУ Елены Владимировны Душечкиной (1941–2020) входят ее избранные работы, представляющие научный путь исследователя. Круг интересов Е. В. Душечкиной был чрезвычайно широк: от особенностей построения нарратива в древнерусских летописях до языка и образов пионерских песен, от одической топики Ломоносова до проблем современной массовой культуры. Е. В. Душечкина была первооткрывателем целого ряда тем в филологической науке и культурологии: она первой обратила внимание на жанры календарной словесности, описала праздничные циклы и ритуалы горожан, по-новому обратилась к проблемам ономастики, показав связь имянаречения с литературным процессом. Сборник представляет интерес для преподавателей, исследователей, студентов факультетов гуманитарных и социальных наук, а также для широкого круга читателей, интересующихся проблемами русской литературы и культуры.
Елена Владимировна Душечкина
«Строгая утеха созерцанья». Статьи о русской культуре
ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
В посмертный сборник статей выдающегося специалиста по русской литературе и культуре, доктора филологических наук, профессора кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета Елены Владимировны Душечкиной (1941–2020) входят ее избранные работы, представляющие научный путь исследователя. Круг интересов Е. В. Душечкиной был чрезвычайно широк: от особенностей построения нарратива в древнерусских летописях до языка и образов пионерских песен, от одической топики Ломоносова до проблем современной массовой культуры. Е. В. Душечкина была первооткрывателем целого ряда тем в филологической науке и культурологии: она первой обратила внимание на жанры календарной словесности, описала праздничные циклы и ритуалы горожан, по-новому обратилась к проблемам ономастики, показав связь имянаречения с литературным процессом.
Представленные в сборнике статьи собраны из труднодоступных сборников и журналов, многие из которых выходили малыми тиражами, зачастую в издательствах университетов за пределами Москвы и Петербурга[1 - При наличии републикаций для включения в сборник выбирался последний (в большинстве случаев исправленный и дополненный) вариант статьи.]. В юности ученица профессора Ю. М. Лотмана, Е. В. Душечкина начинала свой научный и педагогический путь в Тартуском университете, и многие из ее работ вышли в ученых записках университетов Эстонии[2 - В настоящем издании слова «Таллинн» и таллиннский» по умолчанию пишутся с двумя «н», за исключением тех случаев, когда эти слова встречаются в цитатах или в выходных данных изданий, напечатанных до 1989 г. в соответствии с правилами орфографии, принятыми в то время на территории СССР.] и Латвии. Составители понимали, что многие из классических работ Е. В. Душечкиной («Вчерашний день часу в шестом…», «Есть в осени первоначальной…» и др.) остро нуждаются в переиздании, чтобы обеспечить к ним доступ нынешним исследователям и студентам. Дополнительная ценность сборника заключается в том, что разрозненные статьи Е. В. Душечкиной будут читаться и восприниматься в контексте всего корпуса ее статей – как по отдельно взятой теме (целый ряд статей о Тютчеве), так и по взаимосвязанным (святочные рассказы в периодике XIX в. и сценарии новогодних елок в Кремле).
Предисловие к сборнику написано антропологом, историком культуры И. А. Разумовой. В сборнике представлены пять научных разделов, снабженных аналитическими преамбулами от редакторов – ведущих специалистов в этих областях знания: «Древнерусская литература» (ред. А. В. Пигин); «Из истории русской литературы XVIII–XIX веков» (ред. О. Е. Майорова и Н. Г. Охотин); «Праздники и календарная словесность» (ред. А. К. Байбурин); «Дети и словесность для детей» (ред. С. Г. Маслинская); «Личное имя в литературе и культуре» (ред. С. М. Толстая). Последний, шестой раздел сборника составлен из текстов Е. В. Душечкиной, носящих мемуарно-эссеистический характер: «Своими словами: зарисовки, записки, эссе» (ред. Е. А. Белоусова). Раздел снабжен подробной преамбулой, объясняющей место данных текстов в научном и творческом наследии Е. В. Душечкиной. Часть текстов, входящих в этот раздел, публикуется впервые и снабжена комментариями редактора. Завершает сборник впервые собранная полная библиография работ Е. В. Душечкиной (сост. Е. А. Белоусова).
Рецензенты книг и статей Е. В. Душечкиной неоднократно подчеркивали уникальность ее авторского стиля: она говорит о сложных проблемах литературы и культуры понятным неспециалистам языком. Эта особенность помогла Е. В. Душечкиной стать популяризатором науки за пределами академии и заинтересовать своими темами и сюжетами самую широкую аудиторию: ее неоднократно приглашали на телевидение, просили дать материалы в популярные журналы, приглашали выступить перед читателями в библиотеках. Благодаря популярному изложению, сборник представляет интерес как для преподавателей, исследователей, студентов гуманитарных и общественнонаучных факультетов вузов, так и для широкого круга читателей, интересующихся проблемами русской литературы и культуры.
Пользуемся случаем выразить благодарность всем, кто помогал нам в подготовке сборника: А. Ф. Белоусову, Т. В. Велицкой, И. В. Рейфман, Г. Г. Суперфину, С. Ю. Неклюдову, Х. Барану за всестороннюю помощь и ценные замечания; С. В. Николаевой, А. А. Сенькиной, О. Р. Титовой, И. С. Веселовой, Э. Г. Васильевой, М. К. Сивашовой, И. А. Едошиной, А. А. Карпову, Е. М. Матвееву, П. Е. Бухаркину, Г. М. Утгофу, С. Ф. Дмитренко, В. В. Яковлеву, Е. Н. Строгановой, О. А. Лекманову, Н. В. Башмаковой, А. Б. Устинову, Н. И. Озеровой, С. И. Зенкевич за помощь в работе с библиографией; С. А. и А. С. Белоусовым, В. Ф. Лурье и Д. И. Захаровой за помощь в работе с документами и фотографиями. Благодарим А. Н. и М. А. Качманов, Г. Г. Суперфина и А. М. Кокеева за предоставленные фотографии для вкладки и В. Ф. Лурье – автора фотографии на лицевой стороне обложки.
От коллектива сборника
Е. А. Белоусова
И. А. Разумова
«ЗЕРКАЛА» ЕЛЕНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ДУШЕЧКИНОЙ
Сборник статей разных лет был задуман самой Еленой Владимировной Душечкиной (1 мая 1941 – 21 сентября 2020), а осуществили замысел ее дочь Е. А. Белоусова, близкие коллеги и ученики. Эта книга подготовлена в память о замечательном филологе и педагоге.
Многие работы Е. В. Душечкиной печатались в малотиражных и не самых доступных даже для специалистов изданиях. Это еще одна причина, по которой потребовалась републикация ценных в научном отношении текстов видного литературоведа и историка культуры. Изначально статьи имели разное назначение. Большей частью они публиковались в тематических сборниках, в том числе юбилейных и мемориальных, а также в периодических и серийных научных изданиях. Помимо этого, собрание включает доклады на научно-практических конференциях и материалы учебно-методического характера.
Разделы сформированы по тематическому и условно «дисциплинарному» принципам. Сам факт, что преамбулы к разделам написаны ведущими специалистами в разных областях гуманитарного знания, свидетельствует о предметно-тематической и методологической емкости научного наследия автора. Завершает книгу приложение, включающее несколько текстов, которые показывают, что для Елены Владимировны достойными интереса, описания и осмысления в историческом контексте были самые разные культурные явления, связанные с ее собственными жизненными обстоятельствами, будь то воспоминания ее матери, Веры Дмитриевны Фоменко, история тартуской кафедры или беседы с учителями и коллегами.
Выявить «этапы» научного пути Е. В. Душечкиной при желании было бы возможно, но лишь по формальным, внешним основаниям: смене мест жительства и работы, выходу из печати монографий и наиболее резонансных статей. Судя по тому, что и как ею написано на протяжении без малого шестидесяти лет, переходы от одного предмета изучения к другому были «плавными», а большинство тем сквозными. Они вытекали одна из другой, переплетались, детализировались, развивались. Лейтмотивной в научной биографии Е. В. Душечкиной была «новогодне-рождественская», или «святочная», тема. С ней так или иначе связаны основные монографические исследования[3 - Душечкина Е. В. Русский святочный рассказ: Становление жанра. СПб.: СПбГУ, 1995. 256 c.; Душечкина Е. В. Русская елка: История, мифология, литература. СПб.: Норинт, 2002. 414 с.; Душечкина Е. В. Светлана: Культурная история имени. СПб.: Европейск. ун-т в СПб., 2007. 227 с.; Душечкина Е. В. «Повесть о Фроле Скобееве»: История текста и его восприятие в русской культуре. СПб.: Юолукка, 2018. 127 с.], выбор писателей, текстов для публикации, анализа и учебно-методических разработок[4 - Чудо рождественской ночи: Святочные рассказы / Сост., вступ. ст., примеч. Е. Душечкиной, Х. Барана. СПб.: Худож. лит., 1993. 704 с.; Душечкина Е. В. Повесть о Фроле Скобееве: Литературный и историко-культурный аспекты изучения: Учеб. пособие. СПб.: СПбГУ, 2011. 116 с. и др.].
У биографов и рецензентов создается впечатление цельности жизненного и творческого «проекта» Е. В. Душечкиной, согласованности изучаемых тем, научных и педагогических интересов. «На эту гармонию и цельность, на эту самодостаточность не могли повлиять никакие внешние (общественные и политические в том числе) факторы и происшествия <…>; какая гармоничная, какая светлая, какая чудесная жизнь!» – написал М. В. Строганов[5 - Памяти Елены Владимировны Душечкиной: Старая рецензия Михаила Строганова с новыми комментариями // Labyrinth: Теории и практики культуры. URL: https://labyrinth.ivanovo.ac.ru/2020/09/29/памяти-елены-владимировны-душечкино/ (дата обращения 12.03.2021).].
Раннее детство Елены Владимировны прошло в оккупированном Ростове-на-Дону, в эвакуации на Урале, с конца войны – в Хибинах. Там работал ее отец Владимир Иванович Душечкин, видный ученый, физиолог растений[6 - Душечкин Владимир Иванович // Шталь Е. Н. Литературные Хибины: Энциклопедический справочник. 1835–2015. М.: АИРО–XXI, 2017. С. 272.]. Затем были переезды с Крайнего Севера в Адыгею, а в 1952 году – в Эстонию, вслед за сменой места работы отца. Переезд семьи в Таллинн определил профессиональную траекторию Е. В. Душечкиной благодаря открывшимся там возможностям образования и вхождения в науку[7 - Биографические факты подробно изложены в публикациях-некрологах: Baran H. Elena Vladimirovna Dushechkina (May 1, 1941 – September 21, 2020) // Slavica Revalensia. 2020. Vol. VII. P. 300–309; Лурье М. Елена Владимировна Душечкина (1 мая 1941 – 21 сентября 2020) // Антропологический форум. 2020. № 47. С. 243–246.].
Во время учебы на отделении русской литературы Тартуского университета Елена Владимировна обрела выдающихся учителей Ю. М. Лотмана (руководившего ее дипломной работой о построении текста Жития протопопа Аввакума) и Д. С. Лихачева (приглашенного научного руководителя ее кандидатской диссертации о художественной функции чужой речи в Киевском летописании). В эти годы Елена Владимировна вошла в ту интеллектуальную среду, которая в истории науки о литературе и культуре именуется Московско-тартуской семиотической школой. Принадлежность к ней воспринимается как «знак качества» гуманитария. Она указывает на концептуальность трудов, вовлеченность в международные научные коммуникации, нетривиальность предметной области, использование определенных методов и специфических языков описания. В рамках Тартуской школы формировались новые технологии и новый язык междисциплинарных исследований, что обусловило ее известную «эзотеричность»[8 - Даниэль С. О Лотмане // Лотман Ю. М. Статьи по семиотике искусства. СПб.: Академический проект, 2002. С. 5–6.]. При всем том работы Е. В. Душечкиной отличаются от многих трудов последователей школы прежде всего по характеру изложения. Они написаны ясно и достигают того высокого уровня «простоты», по которому уверенно опознаются исключительно глубокое и разностороннее знание предмета и высокая филологическая культура. Только в самых необходимых случаях автор выходит за рамки русской терминологической традиции. Столь же редко она прибегает к рассуждениям методологического свойства. В текстах Елены Владимировны так четко и детально показан процесс научного поиска, что теоретические обобщения или описания метода становятся избыточными. Вместе с автором читатель проходит путь к пониманию смысла произведений и отдельных образов, стихотворных строк и имен, обрядовых и обыденных действий, природных и вещественных реалий, наблюдает, как складывалась их литературная история, менялись значения, варьировалось восприятие. Такой способ представления исследований как нельзя лучше соответствует основной профессиональной ипостаси Е. В. Душечкиной – преподавательской.
Преподаванию Елена Владимировна посвятила всю жизнь. По окончании университета и аспирантуры, с 1972 года, она работала в Тартуском университете и Таллиннском педагогическом институте. После переезда с мужем, филологом Александром Федоровичем Белоусовым, и детьми в Ленинград она сначала стала доцентом кафедры литературы Института культуры им. Н. К. Крупской, а с 1992 года – доцентом и вскоре профессором кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского университета, защитив докторскую диссертацию о становлении жанра русского святочного рассказа. В СПбГУ Елена Владимировна преподавала до последних дней. В разные годы в разных вузах она читала курсы по введению в литературоведение, теории литературы, истории древнерусской литературы и русской литературы XVIII и XIX веков, анализу художественного текста, спецкурсы о творчестве Пушкина, Тютчева, Толстого, Лескова, о русской календарной словесности и массовой беллетристике, о феномене русской интеллигенции; руководила фольклорной практикой и научной работой студентов, аспирантами. Заметную часть списка ее трудов составляют учебные материалы и пособия. Острая потребность школьных учителей в «методическом подспорье» была одной из забот Е. В. Душечкиной. В ее научно-методических публикациях не допускались, да и не требовались, никакие упрощения ни в способе изложения, ни в языке.
С начала 1990?х расширились возможности зарубежных поездок, и Елену Владимировну стали приглашать для преподавания русской литературы университеты США, Финляндии, Латвии, Эстонии. В то же время Елена Владимировна не смогла отказаться, например, от приглашения регионального филиала Петрозаводского университета, который работал в заполярных Апатитах и испытывал дефицит преподавателей-филологов. Профессор Душечкина прочитала там курс истории русской литературы XIX века, а заодно не без грусти посетила одно из мест своего детства.
Талант Елены Владимировны как комментатора текстов проявился в специальных статьях, примечаниях к публикациям литературных произведений, а также в совместных с Хенриком Бараном публикациях, основанных на материалах из архива Р. О. Якобсона в Массачусетском технологическом институте: его переписке с выдающимися славистами П. Г. Богатыревым, С. И. Карцевским, А. В. Соловьевым[9 - Баран Х., Душечкина Е. В. Письма П. Г. Богатырева Р. О. Якобсону // Славяноведение. 1997. № 5. С. 69–72; Баран Х., Душечкина Е. В. Страница из истории славяноведения: Письмо С. И. Карцевского И. И. Мещанинову // Литературный текст: Проблемы и методы исследования. Вып. 4 / Отв. ред. И. В. Фоменко. Тверь: Твер. гос. ун-т, 1998. C. 150–156; Баран Х., Душечкина Е. В. Переписка С. И. Карцевского и Р. О. Якобсона. Вступ. ст., публ., примеч. // Роман Якобсон: тексты, документы, исследования. М., 1999. С. 175–191; Баран Х., Душечкина Е. В. Вокруг «Слова о полку Игореве»: Из переписки Р. О. Якобсона и А. В. Соловьева // Славяноведение. 2000. № 4. С. 50–78.].
Антропологические «повороты» в гуманитарном знании взломали стандарты академической филологии и границы между научными дисциплинами[10 - См. напр.: Николози Р. Антропологический поворот в литературоведении: примечания из немецкого контекста // Новое литературное обозрение. 2012. № 1 (113). С. 80–84; Изер В. К антропологии художественной литературы // Новое литературное обозрение. 2008. № 6 (94). C. 7–21.]. Предметная сфера расширилась за счет разнообразных словесных феноменов повседневной социально-культурной жизни, среди которых семейный фольклор, творчество детей и для детей, пионерская песня, практика имянаречения и многое другое. В проблематике большое место заняли вопросы литературной и читательской рецепции, которые всегда были в фокусе интересов Е. В. Душечкиной. Яркость и оригинальность ее трудов во многом коренится в способности, во-первых, обратить взгляд на «невидимые», или «самоочевидные», слова и вещи и, во-вторых, написать их историю в литературе и культуре на основе увлекательного сюжета и богатого историко-этнографического материала. Монографии, в особенности «Русская елка» и «Светлана», не утрачивая научной весомости, стали популярным чтением; первая выдержала три издания. Трудно не процитировать один из откликов в социальных сетях. Он показывает, какие читательские открытия могут быть сделаны в результате знакомства с книгой о Светлане: «Никогда бы не подумала, что работа по истории имени может быть такой интересной! Автор собирает ВЕСЬ материал по имени, от названия торговой марки до саморекламы проституток, и делает на основе этого удивительные выводы. Я вообще люблю такие штуки про имена: об этом вроде никто никогда не задумывается, но все чувствуют <…>; вся история страны сработала таким образом, что получился именно такой образ имени. <…> В общем, начала читать по учебе, а в итоге затянуло <…>. Редко когда научка бывает настолько захватывающей»[11 - Отзывы о книге «Светлана. Культурная история имени»: URL: https://www.livelib.ru/book/1000839732/reviews-svetlana-kulturnaya-istoriya-imeni-elena-dushechkina (дата обращения 12.03.2021).]. Со своей стороны, профессиональный литературный критик заметил, что эта книга – «синопсис истории России XIX–XXI веков, рассмотренной с неожиданной, необычной точки зрения»[12 - Елисеев Н. Насмешка Клио // Эксперт. 2007. № 9 (311). URL: https://expert.ru/northwest/2007/09/sinopsis_istorii/ (дата обращения 14.03.2021).].
В качестве названия сборника составители использовали поэтическую строку, которой Елена Владимировна озаглавила одну из своих статей. Образ полностью соответствует специфике антропологической и филологической оптики, присущей работам Е. В. Душечкиной. Как возможно соединить строгий взгляд ученого с со-чувственным проникновением в изменчивый «океан смыслов» того или иного явления? Созерцатель, в отличие от наблюдателя, не имеет четкой аналитической задачи. Она рождается интуитивно и случайно, в процессе рассматривания того, что произвело впечатление, заставило почему-то обратить на себя внимание: междометие «чу» в русской поэзии, анекдоты о детях в семейном фольклоре, темы здоровья в пионерской песне, образы чудесных зеркал в памятнике древнерусской литературы. Елену Владимировну очень интересовало все, что связано с «зеркалами» и отражениями – устройствами, которые позволяют проникнуть за пределы видимого. К ним относятся и «чужая речь» в литературе, и восприятие детьми художественного текста, и отношение к имени в истории. К созерцателю и наблюдателю обращены их собственные отражения, только в разной степени и в разных качествах. Вглядываясь в то или иное произведение, филолог вступает в диалоги: с текстом, с автором, его и своими читателями. Недосказанность всегда остается. Не случайно среди главных литературных пристрастий Елены Владимировны – Ф. И. Тютчев, для которого проблема понимания чувственно воспринимаемой реальности была чрезвычайно важна. «Зрительное восприятие мира у Тютчева, – пишет Е. В. Душечкина, – иерархично: от профанической очевидности через глубинное видение, проникающее за пределы окружающего мира, к мировоззрению – целостной и истинной картине Вселенной». По существу, это программное утверждение той не имеющей четких границ области знания, которая располагается на пересечении филологии, истории культуры и антропологии.
«Нам не дано предугадать…», как отзовется слово Елены Владимировны Душечкиной, блестящего филолога, аналитика и комментатора текстов, у читателя, способного прирастить свои смыслы к тем, которые проявлены ею. Нет сомнений, что у публикуемой книги будут очень разные читатели: ученый-филолог, историк, антрополог, школьный учитель, студент, а также те, кого принято называть «широкой аудиторией». В нашем случае адресование «широкому кругу читателей» – не просто дежурная формула аннотаций. Научные статьи Е. В. Душечкиной, как и ее известные монографии, обращены ко всем любителям русской словесности, для которых она служит и предметом строгих штудий, и «забавой», и «утешением».
И. А. Разумова, доктор исторических наук
1. Древнерусская литература
А. В. Пигин
ПРЕДИСЛОВИЕ К РАЗДЕЛУ
Путь Е. В. Душечкиной в науку начался с ее увлечения древнерусской словесностью. По этой причине публикации по древнерусской тематике занимают в научном наследии ученого особое место – в них определялись подходы к изучению художественного текста, закладывались основы научной методологии. Студентка Тартуского университета, ученица Ю. М. Лотмана, Е. В. Душечкина первые свои работы посвятила Житию протопопа Аввакума. В 1966 году Елена Владимировна защитила дипломную работу на тему «Специфика построения текста „Жития“ протопопа Аввакума в свете русской агиографической традиции». Защите предшествовала апробация результатов исследования на студенческих конференциях в Тартуском университете и публикация тезисов докладов[13 - Душечкина Е. В. 1) Анализ речевого поведения в «Житии» протопопа Аввакума // Материалы XXII научной студенческой конференции: Поэтика. История литературы. Лингвистика. Тарту, 1967. C. 38–42; 2) Мировоззрение Аввакума – идеолога и вождя старообрядчества // Русская филология: 2?й сборник научных студенческих работ. Тарту, 1967. C. 5–20; и другие.]. Уже эти ранние работы свидетельствуют о таланте будущего ученого, об умении очень тонко и самостоятельно анализировать тексты и ясно излагать свои мысли. Основная проблема, интересовавшая Е. В. Душечкину в этот период, – особенности изображения в агиографии «речевого поведения» и «чужой речи», понимаемых в аспектах поэтики, хотя и с неизбежным обращением к лингвистическим вопросам. Уже в это время она пыталась применять и даже творчески развивать идеи М. М. Бахтина, В. В. Виноградова, Б. А. Успенского и своего учителя Ю. М. Лотмана. Помимо частных весьма удачных наблюдений, ранние работы Е. В. Душечкиной содержат и интересные попытки обобщений. Так, по утверждению исследовательницы, «в русской житийной традиции тип святого определяется типом его поведения и типом его „речей“, в частности. (По этому признаку можно построить и типологию русской житийной литературы <…>, где каждый социальный тип святого обладает четкими речевыми характеристиками)»[14 - Душечкина Е. В. Организация речевого материала в «Житии Михаила Клопского» // Материалы XXVI научной студенческой конференции: Литературоведение. Лингвистика. Тарту, 1971. C. 14.]. Действительно, исследования типологии и топики русской агиографии, с учетом в том числе и речевого поведения персонажей, занимают в современной медиевистике весьма важное место[15 - См., напр., серию работ Т. Р. Руди: 1) Топика русских житий (вопросы типологии) // Русская агиография: Исследования. Публикации. Полемика. СПб., 2005. С. 59–101; 2) О композиции и топике житий преподобных // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 2006. Т. 57. С. 431–500; и др.].
После окончания Тартуского университета Е. В. Душечкина поступила в аспирантуру того же университета, где ее приглашенным научным руководителем стал Д. С. Лихачев. Традиция «лихачевской» (петербургской) школы в подготовке ученых-«древников» заключается в том, что для диссертации обычно предлагается текстологическое исследование неизученных рукописных памятников. Для Е. В. Душечкиной Д. С. Лихачев сделал исключение. По-видимому, увлеченность Елены Владимировны в первую очередь вопросами художественности древнерусских текстов и достигнутые в этой области результаты произвели впечатление на мэтра: ей разрешено было продолжить работу в том направлении, в котором она двигалась.
В настоящем издании публикуются две статьи Е. В. Душечкиной, отражающие основное содержание ее кандидатской диссертации, посвященной изучению поэтики «чужой речи» на материале Киевского летописания: «Художественная функция чужой речи в русском летописании» (1973); «Прение Яна Вышатича с волхвами» (1972).
«Чужая речь» понимается Е. В. Душечкиной как чужое высказывание, чужая позиция в тексте и чужое мировоззрение. В работах исследуются связи речей с восприятием того или иного факта (или высказывания) как истинного, изображение речевого общения, влияние речи на развертывание летописного сюжета, типы речевых ситуаций, летописная «точка зрения». Е. В. Душечкина устанавливает своеобразную иерархию «речей» («речей-отсылок») по степени их авторитетности для летописца, убедительно доказывает абсолютное превосходство в мире летописи письменного цитируемого слова над устным, анализирует использованные древнерусскими авторами способы опровержения «ложных речей». Интересно сравнение актов коммуникации персонажей в русской литературе Нового времени и в древнерусской летописи. Летописную речь («речь-событие») отличает смысловая и синтаксическая законченность, она существует как бы вне времени (все остальные события останавливаются во время ее произнесения), для акта произнесения несущественны тембр речи и интонация и т. д. На материале «Повести о Васильке Теребовльском» (летопись, 1097 г.) Е. В. Душечкина показывает, как на основе речей происходит развертывание сюжета. Известный летописный сюжет, изложенный в «Повести временных лет» под 1071 г., о прении воеводы Яна Вышатича с белозерскими волхвами, приводится Е. В. Душечкиной как пример «монологизма» летописного текста, не допускающего множественности точек зрения. Враги христианства, язычники, исповедуют в летописи взгляды в духе ереси богомильства (тело человека сотворено дьяволом, богом является антихрист), которые в действительности они не могли разделять. «Ложная» идеология (картина мира, космология) интерпретируется летописцем как вывернутая наизнанку «истинная» идеология. Статья о летописном рассказе 1071 года опирается на методологические принципы Московско-тартуской школы – не случайно она была опубликована в фестшрифте к 50-летию Ю. М. Лотмана.
Анализу художественной природы древнерусского текста посвящены и две статьи Е. В. Душечкиной о творчестве русского царя Алексея Михайловича (1629–1676). В одной из них предлагается краткий обзор написанного царем в самых разных жанрах деловой, духовной и исторической литературы (эпистолография, документы делопроизводства, стихотворство, мемуары). Е. В. Душечкина отмечает широту литературной деятельности царя, сочетание в вышедших из-под его пера текстах традиционных и новаторских черт. Предметом изучения другой статьи является послание Алексея Михайловича новгородскому митрополиту Никону (впоследствии российскому патриарху) – так называемый «Статейный список» (май 1652 г.), в котором царь рассказывает своему адресату о перенесении из Старицы в Москву мощей патриарха Иова и о смерти патриарха Иосифа. Этот источник неоднократно привлекал к себе внимание историков, но как литературный памятник исследован не был. Е. В. Душечкина интерпретирует «Статейный список» как произведение мемуарного жанра, в котором отчетливо обнаруживается «тенденция к самовыявлению» автора, к открытию индивидуального начала в человеке. Интересны отмеченные Е. В. Душечкиной черты стилистической общности послания царя с сочинениями протопопа Аввакума (некоторая сбивчивость и непринужденность повествования, отказ от этикета ради достоверности, внимание к деталям, использование фразеологизмов). Эти наблюдения свидетельствуют о том, что такой автобиографический исповедальный стиль был характерен не только для литературы раннего старообрядчества, но обнаруживается и в писаниях тех лиц XVII века, которые находились на противоположном социальном и культурном полюсе. Вместе с тем, как справедливо отмечает Е. В. Душечкина, отступления от литературного этикета в сочинении Алексея Михайловича объясняются и самим предметом повествования – рассказом о кончине, о процессе умирания человека. В древнерусской литературе, в первую очередь в агиографии, существовал определенный «чин» в описании смерти человека (прежде всего, конечно, праведника), но зачастую трафарет уступал место «реалистическому», даже «натуралистическому» изображению. Кроме упомянутой исследовательницей в качестве близкой к «Статейному списку» литературной параллели – «Записки» Иннокентия о последних днях жизни Пафнутия Боровского» (XV в.), можно назвать и целый ряд других сочинений о смерти XV–XVI веков, написанных в той же безыскусной манере: «О преставлении старца Кассиана Босого» Нифонта Кормилицына, «О преставлении святого епископа Тверского Акакия» Вассиана Кошки, «Повесть о преставлении старца Антония Галичанина» Досифея Топоркова и др. В литературе Нового времени эту традицию в изображении смерти человека продолжил Л. Н. Толстой – данное обстоятельство также отмечено в статье Е. В. Душечкиной.
Статья «Зеркала Индийского царства» представляет собой комментарий к весьма необычным, «диковинным», образам в произведении русской переводной литературы – «Сказании об Индийском царстве». Написанное в форме послания мифического индийского царя-попа Иоанна византийскому императору Мануилу, «Сказание» возникло на греческой почве и стало известно на Руси, по-видимому, в XIII–XIV веках. Рассказывая своему адресату о многочисленных чудесах Индии, Иоанн подробно описывает два зеркала: одно из них («зерцало праведное») открывает смотрящему в него все его грехи, другое («зерцало цкляно») позволяет узнать, «зло» или «добро» мыслят подданные на «своего господаря». Обращение Е. В. Душечкиной, ученицы Ю. М. Лотмана, к этим образам, желание понять и описать их «природу» и «технологию» может объясняться отчасти тем, что зеркало является семиотическим объектом. Так, в 1988 году в Тартуском университете вышел сборник, посвященный семиотике зеркальности[16 - Ученые записки ТГУ. Вып. 831: Труды по знаковым системам. [Сб.] 22: Зеркало. Семиотика зеркальности / Ред. З. Г. Минц. Тарту, 1988.]. Содержащиеся в статье ссылки на этот сборник, как и предложенные в статье подходы к изучению зеркальности, убеждают в том, что данный аспект интересовал исследовательницу. Одновременно Е. В. Душечкина использует методы сравнительного литературоведения и текстологического анализа: она показывает вариативность комплекса «зеркальных» мотивов в латинских версиях сюжета и в разных древнерусских списках самого «Сказания», привлекает другие близкие по содержанию фольклорные и литературные тексты (легенда о статуе с колокольчиками, сказочный «золотой петушок»). Анализ опубликованных списков «Сказания» подводит Е. В. Душечкину к интересному наблюдению: «В одних списках <…> „зеркальная“ тема приобретает более гуманный и христианский характер, в других же она проявляет тенденцию к изображению еще более ужесточенного государственного контроля над личностью». Елена Владимировна работала над этой темой в конце 1980?х – 1990?е годы[17 - Статья опубликована в 1998 г. Несколько ранее, в 1990 г., были опубликованы тезисы доклада на эту тему: Душечкина Е. В. Зеркала Индийского царства // Академик Василий Михайлович Истрин: Тезисы докладов областных научных чтений, посвященных 125-летию со дня рождения ученого-филолога / Отв. ред. Д. С. Ищенко. Одесса, 1990. С. 87–89.], когда падение тоталитарной системы и надежды на лучшее будущее вызывали потребность в осмыслении самой природы тоталитаризма, в поисках исторических прецедентов и аналогий. Не случайно статья наполнена историческими и политическими аллюзиями, благо сам анализируемый памятник предоставлял для этого богатые возможности. Е. В. Душечкина называет индийское зеркало «средством государственного разведывательного управления», «инструментом <…> Третьего отделения – органа политического надзора и сыска», «идеальным и безошибочным инструментом по подавлению свободы», «механизмом» для реализации «(до сих пор, к счастью не реализованной) мечты человечества – чтения (раскрытия) сокровенных мыслей человека». Такая интерпретация древнего памятника, быть может, выводит эту статью за рамки «чистой» академической науки, но зато позволяет открывать в нем актуальные и вечные смыслы.
Древнерусскому памятнику посвящена и последняя монография Е. В. Душечкиной – «Повесть о Фроле Скобееве: История текста и его восприятие в русской культуре» (СПб., 2018). Первая публикация Е. В. Душечкиной об этой повести рубежа XVII–XVIII веков, рассказывающей о похождениях удачливого плута, женившегося обманом на дочери стольника и разбогатевшего, вышла в свет в 1986 году как учебный материал для студентов[18 - Душечкина Е. В. Стилистика русской бытовой повести XVII века (Повесть о Фроле Скобееве): Учебный материал по древнерусской литературе. Таллин, 1986 (см. также: Душечкина Е. В. Стилистика «Повести о Фроле Скобееве»: Литературный и историко-культурный аспекты изучения: Учеб. пособие. СПб., 2011).]. Повесть интересовала Е. В. Душечкину своими стилистическими особенностями, новым для русской литературы типом «чужой речи», святочными мотивами, связями с фольклором и лубком, последующей рецепцией в русской культуре. Как справедливо отметила в своей рецензии на книгу 2018 года Н. В. Савельева, «главное достоинство монографии состоит прежде всего в том, что она создана в лучших традициях академической науки и представляет собой классическое историко-филологическое исследование памятника»[19 - Савельева Н. В. Фрол Скобеев: история и современность // Русская литература. 2019. № 4. С. 226.]. Поскольку переиздать текст монографии в рамках настоящего издания невозможно, мы выбрали статью, опубликованную в сборнике памяти А. М. Панченко, – «О „Фроле Скобееве“ и о Фроле Скобееве» (2008). Е. В. Душечкина блестяще продемонстрировала здесь, как происходили усвоение и трансформация образа Фрола в русской литературе и культуре XVIII–XXI веков: от повести малоизвестного писателя XVIII века Ивана Новикова «Новгородских девушек святочный вечер» – до современной фантастики и заметки в мужском журнале Men’s Health.
Несколько публикаций Е. В. Душечкиной посвящено истории науки о древнерусской литературе, вкладу некоторых ученых в ее изучение. В 1980 году, совместно с Е. А. Тоддесом и А. П. Чудаковым, Е. В. Душечкина подготовила к печати и прокомментировала работу В. В. Виноградова 1922 года «О задачах стилистики: Наблюдения над стилем Жития протопопа Аввакума»[20 - Виноградов В. В. О задачах стилистики: Наблюдения над стилем Жития протопопа Аввакума / Подг. текста, коммент. Е. В. Душечкиной, Е. А. Тоддеса и А. П. Чудакова // Виноградов В. В. Избранные труды: О языке художественной прозы. М., 1980. C. 316–325.]. Елена Владимировна приняла участие в подготовке пятитомной «Энциклопедии „Слова о полку Игореве“» (1995), которая издавалась в Отделе древнерусской литературы Пушкинского Дома с целью «создать свод сведений об итогах изучения и художественного освоения „Слова“ за два века»[21 - От редакторов «Энциклопедии» // Энциклопедия «Слова о полку Игореве». СПб., 1995. Т. 5. С. 3.]. Для этого издания Е. В. Душечкина подготовила статьи о переводчике «Слова» на эстонский язык Аугусте Аннисте (совместно с Р. Круусом), об исследователях «Слова» Б. М. Гаспарове, Ю. М. Лотмане и Т. М. Николаевой.
В 2000 году в журнале «Славяноведение» Е. В. Душечкина в соавторстве с Х. Бараном опубликовала переписку двух крупных исследователей «Слова о полку Игореве», сторонников его подлинности: языковеда и литературоведа Р. О. Якобсона и историка А. В. Соловьева. Письма датируются 1948–1970 годами и затрагивают широкий круг вопросов, касающихся интерпретации отдельных чтений «Слова», его переводов, полемики со «скептиками»[22 - Публикация переписки была использована Л. В. Соколовой в изложении истории этой полемики (см.: История спора о подлинности «Слова о полку Игореве»: Материалы дискуссии 1960?х годов / Вступ. статья, сост., подгот. текстов и коммент. Л. В. Соколовой. СПб., 2010. С. 7, 27, 31, 684).].
В 2009 году был издан коллективный сборник научных трудов о Ю. М. Лотмане (под редакцией В. К. Кантора), для которого Е. В. Душечкина подготовила аналитический обзор его работ в области древнерусской литературы и культуры (см. в настоящем издании). Взяв за основу свою статью о Лотмане из «Энциклопедии „Слова о полку Игореве“», Е. В. Душечкина существенно расширила ее текст за счет привлечения тех работ своего университетского учителя, в которых древнерусские тексты использовались им «для исследования и демонстрации тех или иных особенностей мировоззренческих и культурных моделей, где они служат материалом для культурно-типологических и семиотических построений»[23 - Душечкина Е. В. Ю. М. Лотман о древнерусской литературе и культуре // Юрий Михайлович Лотман / Под ред. В. К. Кантора. М., 2009. С. 312–313.]. Статья Е. В. Душечкиной дает ясное понимание того, какое место древнерусская словесность занимает в наследии выдающегося тартуского ученого, и имеет по этой причине важное значение в истории науки о Древней Руси.
Памятники древнерусской письменности широко привлекались Е. В. Душечкиной и в качестве историко-литературного контекста в ее работах, посвященных литературе и культуре Нового времени. Начав свой научный путь как исследователь литературы Древней Руси, Елена Владимировна оставалась верна этой теме на протяжении всей своей жизни.
А. В. Пигин, доктор филологических наук, профессор
ПРЕНИЕ ЯНА ВЫШАТИЧА С ВОЛХВАМИ
Лаврентьевская летопись под 1071 годом содержит рассказ о волхвах, появившихся в Ростовской области, и о расправе с ними Яна Вышатича, записанный, по предположению, со слов самого Яна, свидетеля и участника событий[24 - См. Шахматов А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908.]. Ученые-историки вполне естественно подходят к летописи как к документу для реконструкции самых разнообразных сторон социальной действительности соответствующего времени. Поэтому обычно в исторических работах эпизод с волхвами рассматривается как отражение одной из первых крестьянских войн, которые имели место на Руси, начиная с XI века. При этом волхвы представляются руководителями восстания смердов, в котором участвовало 300 человек и которое было направлено против богатой, уже выделившейся к тому времени верхушки общества. Подход этот характеризует работы М. Н. Мартынова, В. В. Мавродина, М. Н. Тихомирова и ряд других[25 - Мартынов М. Н. Восстание смердов на Волге и Шексне во второй половине XI века // Ученые записки Вологодского пединститута. Т. IV. Вологда, 1948. С. 3–36; Мавродин В. В. Очерки по истории феодальной Руси. Л., 1949; Тихомиров М. Н. Крестьянские и городские восстания на Руси XI–XIII вв. М., 1955.].
Историки в основном обращают внимание именно на эту социально-политическую сущность события. Таким образом получается, что они на основе данного текста реконструируют один из нескольких содержащихся в нем смысловых пластов, в то время как ряд других вопросов, которые могут встать в связи с этим эпизодом, сознательно оставляются в стороне или же затрагиваются лишь попутно[26 - Например, в работе В. В. Мавродина объясняется, почему именно волхвы, представители «старой, привычной языческой религии, религии общинных времен», стояли во главе восстания (Мавродин В. В. Очерки по истории феодальной Руси. С. 159–160).]. М. Н. Тихомиров так прямо и заявляет о границах своего интереса: «Оставляя в стороне рассуждения летописца о бесах, заблуждениях волхвов, антихристе и т. д., постараемся выяснить реальную картину событий в Ростовской области»[27 - Тихомиров М. Н. Крестьянские и городские восстания на Руси. С. 120–121.]. Под «реальной картиной событий» исследователь понимает вполне определенную вещь, а именно – классовый характер движения, во главе которого стояли волхвы. «Суеверные формы, – пишет автор, – в которые выливалась борьба против „лучших людей“, державших „обилье“, не мешает нам видеть истинный характер движения как движения классового»[28 - Там же. С. 121–122.]. Не удивительно, что при этом и рассуждение о бесах, являющееся для летописца узловым моментом эпизода, обоснованием его появления в составе летописи, и само прение Яна с волхвами почти не получают освещения. Мы не сомневаемся в правомерности и нужности такого подхода к интересующему нас эпизоду, но лишь обращаем внимание на то, что некоторые аспекты текста при этом остаются (и вполне сознательно оставляются) за пределами интересов исследователей. Мы имеем в виду в первую очередь именно те «суеверные формы», которые как бы затемняют истинный характер восстания.
Однако в ряде других работ представлена иная точка зрения на восстание 1071 года – основное внимание уделяется именно «суеверной форме» его, и тот факт, что движением руководили волхвы, становится ведущим. При этом эпизод трактуется двояко – или же как восстание смердов, которое хотят использовать в своих интересах «служители языческой религии волхвы»[29 - Воронин Н. Н. Восстание смердов в XI веке // Исторический журнал. 1940. № 2. С. 54.], или же как восстание приверженцев языческой религии, направленное не столь против «лучших» людей, сколь против христианства. «<…> Мы повсюду наблюдаем, – пишет Л. Нидерле, – и кровавую реакцию и восстания приверженцев язычества, которое удерживалось в народе главным образом усилиями жрецов и волхвов»[30 - Нидерле Л. Славянские древности. М., 1956. С. 296.].
Но что же представляли собой сами волхвы, возглавлявшие движение против христианства и нарождающегося феодализма? Каковы их верования, обряды, мировоззрение? Порою вопрос этот в литературе решается очень просто: то, что волхвы говорят в летописи о себе, принимается за реально существовавшее. Так, например, А. Афанасьев пишет: «На вопрос Яна: какому богу они веруют? – волхвы отвечали: антихристу, т. е. прямо объявили себя врагами христианства»[31 - Афанасьев А. Колдовство на Руси в старину // Современник. 1854. № 4. С. 50.]. Более глубокую трактовку дает Е. В. Аничков[32 - Аничков Е. В. Язычество и древняя Русь. СПб., 1914.], которого занимает проблема язычества в Древней Руси, и естественно, что на эпизод восстания волхвов 1071 года он смотрит именно под этим углом зрения. Е. В. Аничков пытается выяснить, что представляло собой язычество в раннехристианской Руси, и приходит к выводу, что восстановить его сущность в XI веке почти нет никакой возможности. Источники не дают по данному вопросу в достаточной степени определенного материала, так как встреча христианства с волхвами могла приводить и приводила только к одному – к смерти одной из сторон. Однако кое-что летописец-христианин все-таки знал о язычестве, и о волхвах в частности, но интерес к ним и знания о нем были своеобразны. И об этом Е. В. Аничков пишет следующее: «Интерес к язычеству даже когда его, до известной степени и насколько это было доступно, начинают изучать, – своеобразен. И хотят знать о нем и не хотят в то же самое время. О нем говорить не прочь, но только по-своему. Эта последняя тенденция сказывается в рассказе о волхвах преп. Никона»[33 - Там же. С. 236.].
Е. В. Аничков предполагает, что летописец сообщил о волхвах меньше, чем знал. А это характеризует уже не собственно верования волхвов, но способ восприятия их сознанием летописца при наличии у него стремления определенным образом преподнести имеющиеся сведения, то есть дать всему описанию вполне понятную направленность и трактовку. Однако говоря о том, что летописец знал «сказку» волхвов о мироздании, Е. В. Аничков, видимо, ошибается. Трудно себе представить, чтобы полубогумильская апокрифического толка легенда была сочинена как история мироздания языческими волхвами. При этом Е. В. Аничков считает, что волхвам принадлежит лишь начало этой легенды о происхождении человека от божественного пота. Кончается же эта сказка по типу богумильских, так как летописец «резко обрывает, точно вспомнив, что не подобает сообщать такие вещи»[34 - Аничков Е. В. Язычество и древняя Русь. С. 236.]. По мнению Е. В. Аничкова, волхвы и оказываются какими-то странными, чтущими сатану и антихриста богумилами по той простой причине, что у христиан не было выработано способов полемики с язычниками – «<…> против еретиков было известно что и как говорить, а язычество в XI веке как учение (посколько и оно было учением в том или ином смысле) было неведомо христианам и уже не понятно вовсе. О нем знали только внешность»[35 - Там же. С. 236–237.].
Так Е. В Аничков подходит вплотную к интересующему нас вопросу. Перед нами текст, смысл которого оказывается для нас недостаточно ясным, и, следовательно, мы можем рассматривать его как текст, подлежащий расшифровке. Как воспринималось язычество на Руси в XI веке самими христианами – создателями летописи, как и насколько «по-своему» говорит христианство в лице летописца о волхвах, – мы и попытаемся выяснить. Таким образом, речь идет не о том, что летописец забыл или не знал вовсе, как утверждает Е. В. Аничков, характер верований волхвов, – летописец и не желал знать об этом, он и не ставит перед собой задачу понимания. Мы будем говорить о способе отображения им имеющихся сведений, ибо летописец сообщает о волхвах с совершенно определенной тенденциозностью, которая характеризует не только данный рассказ, но и три других, не случайно помещенных под одним годом, на что справедливо указывает Д. С. Лихачев[36 - Повесть временных лет. Т. II, Комментарий. М.; Л., 1950. С. 401–402.]. Поэтому, естественно, главной целью, которую преследует летописец, становится разоблачение волхвов, о чем он и заявляет, переходя к рассказу о белозерских волхвах, сразу же связывая их действия с «бесовским наущением»:
Беси бо подътокше на зло вводять; посем же насмисаются ввергъше и? в пропасть смертную, научивше глаголати. Яко же се скажем бесовьское наущенье и действо[37 - Повесть временных лет. T. I. М.; Л., 1950. С. 117. (Далее цитаты из «Повести временных лет», с. 117–119.)].
Оказывается, что для летописца-христианина единственно возможным способом осудить волхвов становится обнаружение связи между ними и бесами. Так что с самого начала летописец и не пытается изобразить волхвов, какими они были, а находит им место в уже известной ему системе, в пределах которой ему и свойственно мыслить. Неверное действие может проистекать только от «бесовского наущения», но ведь бесы – один из элементов христианской космологии и входят в ее систему. Сам по себе такой подход к представителям враждебной христианству идеологии не оригинален и повсеместно встречается в христианской письменности. Любопытным оказывается его применение при изображении данного, вполне конкретного эпизода. В этой связи наиболее существенным для наших дальнейших рассуждений становится описание прения Яна Вышатича с пойманными по его приказу волхвами.
Летописцем выделяются две процедуры. С одной стороны, в тексте изображено прение о вере, с другой – гражданский суд над людьми, нарушившими законы. В последнем случае волхвы представляются смердами, совершившими незаконные убийства, что является основанием для их казни. При этом летописец тщательно вырабатывает описание юридической процедуры.
Ян, предварительно уверившись в том, что волхвы действительно смерды князя Святослава, решает своей властью, властью заместителя князя, расправиться с ними. Для летописца, однако, оказывается важным не только осудить действия волхвов, указав на бесовский источник этих действий, но и дать возможность высказаться самим волхвам о себе и о своих верованиях. Поэтому Ян, выступающий в данном тексте в роли судьи, проводит своеобразное следствие по делу волхвов. Первый вопрос, который задает он волхвам, вполне юридически оправдан и справедлив. Он спрашивает о причине расправы над жителями Ростовской области:
Что ради погубиста толико человек?
Волхвы отвечают, что люди, которых они истребляют, держат «обилье», и если их убить и отнять у них богатства, не будет голода. И добавляют при этом, что они могут вынуть из спин этих людей на глазах самого Яна «жито, ли рыбу, ли ино что», то есть по существу они предлагают Яну стать свидетелем этого действа, вполне логично исходя из представления, что если Ян убедится в их правоте, то поверит им (как, впрочем, верили им все остальные люди). В исследовательской литературе неоднократно указывалось, что реальный комментарий к загадочным действиям волхвов дан в работе П. И. Мельникова-Печерского «Очерки мордвы»[38 - Мельников П. И. Очерки мордвы // Русский вестник. 1867. № 9. С. 245–249.], в которой они трактуются как мордовский обряд сбора припасов для жертвоприношений. Но как это реально могло происходить, нас сейчас не интересует, важно подчеркнуть другое – в начале всего рассказа о белозерских волхвах летописец замечает, что волхвы, разрезая женщинам заплечья, вынимали оттуда припасы, и нимало в этом не сомневается:
Она же в мечте прорезавша за плечемь, вынимаста любо жито, любо рыбу…
Так что можно предположить, что и на глазах Яна они могли бы это совершить, тем самым сняв с себя вину. Но для летописца преступление волхвов представляется не столько в убийстве «лучших жен», сколько в том, что они посягнули на единственно божью привилегию – знание о сущности и о сотворении человека. Поэтому преступной становится сама фраза, вложенная им в уста в начале рассказа:
Be свеве, кто обилье держить.
Тут видна разница позиции современного наблюдателя и автора текста. Для современного читателя увидеть доказательство невиновности – значит оправдать.
С этой точки зрения, если Ян вел правильное судопроизводство, то он должен был бы убедиться, но для него опыт не представляется доказательством. Не удивительно поэтому, что Ян отвергает предложение волхвов и переводит разговор на другой уровень – на уровень богословского спора. Он утверждает, что сказанное волхвами – ложь, так как человек не может знать того, о чем знает только Бог и что составляет его исключительное свойство:
По истине лжа то; створил Бог человека от земле, оставлен костьми и жылами от крове; несть в немь ничто же и не весть никто же, но токьмо един Бог весть.
Волхвы, однако, вслед за Яном перейдя на богословский спор, заявляют, что они не только знают нечто о людях Ростовской области, но и вообще обладают высшим знанием о сотворении человека:
Be веве, како есть человек створен.
Поскольку для летописца оказывается в данном рассказе самым важным скомпрометировать наиболее присущие волхвам черты, а именно – дар пророчества и высшего знания, то он предоставляет Яну возможность продолжить этот разговор. Таким образом волхвы могут сказать о сущности своего знания.
Ян спрашивает, как же, по их мнению, сотворен человек, и в ответ волхвы рассказывают апокрифическую легенду о сотворении человека[39 - П. Н. Третьяков полагает, что «рассказ волхвов о сотворении человека находит ближайшие аналогии в древнем языческом фольклоре поволжских финно-угров», но, что важно для нас, в самом тексте на это нет ни единого намека (Третьяков П. Н. У истоков древнерусской народности. М., 1970. С. 141).]. Ян же, выслушав эту, с его и общехристианской точки зрения, ложную речь, говорит, что их прельстил бес, и спрашивает, какому богу они веруют.
Она же рекоста: «Антихресту». Он же рече има: «То кде есть?» Она же рекоста: «Седить в бездне».
Вряд ли языческие волхвы, да еще, по утверждениям некоторых ученых, финно-угорских кровей, могли в действительности утверждать, что они верят в антихриста. Принадлежность к вере в бога-антихриста приписана волхвам с тем, чтобы подорвать их авторитет и показать их бесовскую сущность, причем их вера при таком ее изображении может быть интерпретирована как христианство навыворот, ибо получается, что тот, кто в христианстве антибог, у волхвов – бог.
Именно на основании высказывания волхвов о своем боге, сидящем в бездне, Ян получает возможность доказать им, что это не Бог, так как Бог не может сидеть в бездне, это бес, и рассказывает историю сверженного ангела – антихриста.
Таким образом, вся космология волхвов представляется летописцем как вывернутая наизнанку христианская космология, причем наиболее существенным при таком типе описания становится тот факт, что волхвы сами говорят об этом, чем и разоблачают себя.
Для чего же летописцу понадобилось, чтобы волхвы именно таким образом говорили о своей вере? Предположим, что существует летописный текст, в котором волхвы на вопрос Яна об их боге рассказывают историческую правду о своих верованиях. Тогда в летописи оказываются представленными две несовпадающие точки зрения по вопросу мироздания. При этом летописец точно так же может принять одну из них и отвергнуть другую, связав ложную, по его мнению, точку зрения с «бесовским наущением». Однако от этого отвергнутое воззрение все же не теряет своей самостоятельности. Такого рода описание оказывается для летописца неприемлемым, хотя и может представиться вполне естественным.
Текст летописи оказывается в принципе монологичным, и хотя, казалось бы, в речах действующих лиц летопись приводит различные суждения, все они сводятся к двум – правильным и неправильным. При этом неправильным оказывается не просто все, отвергнутое летописцем, но то, что является по своей конструкции прямо противоположным правильной позиции. Именно это и наблюдается в разбираемом нами эпизоде, в котором представлены две точки зрения: позиция Яна – христианская, которую разделяет летописец, и позиция волхвов – прямо противоположная, не просто не-христианская (отличная от христианской), но антихристианская, представляющая собой зеркальное отражение христианской точки зрения[40 - Ср. в этой связи положение о соотношении понятий культуры и антикультуры, выдвигаемое в статье Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского «О семиотическом механизме культуры» (Труды по знаковым системам. Вып. V. Тарту, 1971. С. 155): «<…> она (т. е. антикультура. – Е. Д.) воспринимается как культура с отрицательным знаком, как бы своего рода зеркальное ее отображение (где связи не нарушены, а заменены на противоположные)».]. Читатель летописи получает сведения о вере волхвов непосредственно из их уст, от этого сказанное волхвами о своей вере при таком способе изображения представляется абсолютно подлинным.
Однако в диалоге Яна с волхвами совместились, по крайней мере, два уровня – богословский и юридический. Пока волхвы в богословском споре, их позиция представляет собой отраженную позицию противоположной стороны, юридически же они говорят вполне разумные вещи.
Посмотрим, как это осуществляется в тексте. Вывод, который Ян делает из своего рассказа о победе Бога над антихристом, вполне практический – как Бог победит антихриста, так и сам Ян победит волхвов. Причем к этому заключению он приходит не без помощи самих волхвов, на речь которых он и ссылается в процессе своих доказательств («яко же то вы глаголета»). Волхвы утверждают от имени своих богов, что Ян ничего не может с ними сделать, Ян говорит, что это ложь («Лжуть вама бози»). В ответ волхвы переводят разговор на уровень правосудия – Ян не имеет права совершать над ними суд, так как судить их может только сам Святослав – ведь они смерды этого князя:
Нама стати пред Святославомь, а ты не можеши створити ничтоже.
Волхвы в данной ситуации выступают как смерды князя, признает свою зависимость от него и поэтому, что вполне естественно, требуют, чтобы именно он совершал над ними суд[41 - Как уже неоднократно указывалось в исследовательской литературе, место это сопоставимо с 33?й статьей «Русской Правды». Б. А. Романов в комментарии к данному месту пишет: «Ян же, со слов которого составлен весь этот рассказ, понимает „княжое слово“ не как личный суд князя, а как суд полномочного княжого судьи, каким и выступает сам в рассказе» (Повесть временных лет. Т. II. С. 404). См. об этом также: Приселков М. Д. Киевское государство второй половины X в. по византийским источникам // Ученые записки Ленинградского ун-та. Серия исторических наук. Вып. 8. 1941. С. 237–238.]. Они стоят на своей точке зрения, вполне приемлемой и оправданной. Однако Ян разрешает спор делом и, вынудив силой у волхвов признание в поражении, приказывает людям расправиться с волхвами.
После описания мести «повозников», убивших волхвов и повесивших их трупы на дубе, летописец помещает собственную трактовку рассказа о волхвах в целом, в которой он способом определенного логического умозаключения показывает их неправоту и разоблачает их дар ясновидения – они утверждали, что знают правду о людях Ростовской области и вообще – знают тайну о человеке, но если бы действительно знали, то должны были бы также знать, что с ними произойдет. А это-то как раз им было неизвестно, и значит их знание вообще – ложно. Приводим текст этого весьма любопытного силлогизма:
И тако погыбнуста наущеньемь бесовьскым, инем ведуща, а своеа пагубы не ведуче. Аще ли быста ведала, то не быста пришла на место се, иде же ятома има быти; аще ли и ята быста, то почто глаголаста: «Не умрети нама», оному мыслящу убити я?? Но се есть бесовьское наученье; беси бо не ведять мысли человечьскыя, но влагають помысл в человека, тайны на сведуще. Бог единь свесть помышленья человечьская, беси же не сведають ничтоже, суть бо немощни и худи взором.
Перед летописцем стояла задача разоблачить волхвов. Доказать, что они неправы, претендуя на знание божественной тайны о сущности человека, можно было двумя способами. С одной стороны – победить их физически, и с другой – связать их действия с «бесовским наущением». Летописец делает и то и другое. При этом он заставляет волхвов разоблачать себя своими же словами. Однако передавая в летописи вполне исторический факт встречи Яна Вышатича с волхвами, летописец не может, естественно, совершенно отвлечься от материала, взятого им для демонстрации своей идеи. Поэтому рассказ этот отражает (и не может не отражать) определенные реальные стороны древнерусской жизни, в частности, что было важным для нас, практическое применение юридических законов.
В начале своей работы мы дали краткий обзор исследований, посвященных реконструкции событий, отраженных в рассказе о волхвах. Но при обращении к летописи с точки зрения организации летописцем имеющегося в его руках материала для нас важным становится сам тип описания как особый способ осмысления и отбора фактов. Этот тип описания мы и пытались раскрыть в предложенной статье.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ ЧУЖОЙ РЕЧИ В РУССКОМ ЛЕТОПИСАНИИ
Большинство исследований, предметом которых является русское летописание, посвящено изучению летописи в основном с двух точек зрения. Одни из них подходят к ней как к источнику, который предоставляет материал для истории самых разнообразных сторон бытия восточнославянских племен и русского государства соответствующего времени. При этом непосредственными объектами изучения могут служить быт, экономика, религия, история отдельных княжеств, биографии князей, политические формы существования и т. п. Работы этого типа подходят к фактам, встречаемым в летописи, как к верному или неверному отображению реально бывшего. Они либо пользуются ими как достоверными данными, либо отвергают их на основании более достоверных источников, если таковые имеются. Работы второго типа изучают историю летописного текста – редакции, изводы, списки, пытаясь восстановить первоначальный текст летописи и историю движения этого текста. Мы имеем в виду, в первую очередь, работы А. А. Шахматова и ученых его школы. Оба эти подхода не только закономерны, но и доказали многочисленными работами свою плодотворность и необходимость. Но при взгляде на летопись как на явление литературы, факт словесного творчества, работы этих двух типов мало что могут дать, так как для этого, последнего, подхода летописный факт представляет интерес не со стороны его соответствия действительности, а со стороны его изображения в летописи.
Первым и чуть ли не единственным дореволюционным исследованием, посвященным литературной природе русских летописей, является работа М. И. Сухомлинова «О древней русской летописи как памятнике литературном»[42 - Сухомлинов М. И. О древней русской летописи как памятнике литературном // Сухомлинов М. И. Исследования по древней русской литературе. СПб., 1908. С. 1–247.]. Определяя литературоведческие задачи изучения летописи, автор пишет:
Особенности древней летописи, как произведения литературного, могут быть наблюдаемы в двух отношениях: во-первых, в самом содержании летописи – в тех данных, из коих она составлена; во-вторых, в способе сообщения данных, излагаемых в определенном порядке. Упоминание одних происшествий и опущение других, большее или меньшее сочувствие при передаче событий, случайность или обдуманность в приведении известий, и т. п. – вот предметы, рассмотрение коих знакомит с отличительными свойствами литературного труда. Разнообразие подобных предметов приводится к двум главным отделам – к обозрению того, что и как передано потомству писателем[43 - Сухомлинов М. И. О древней русской летописи… С. 124–125.] (курсив автора. – Е. Д.).
Таким образом, М. И. Сухомлинов ставит для исследователя литературы два вопроса – что выбирается для изображения из всего разнообразного множества событий и явлений и как это выбранное изображается.
Целью настоящей работы является рассмотрение природы такого летописного факта, как чужая речь. Правомерность этой темы обосновывается тем, что летопись необычайно широко приводит речи одних действующих лиц, ссылается на речи и высказывания других; при чтении летописи создается впечатление постоянного обмена мнениями, сведениями, многократно сообщаются намерения, высказываются отношения к тому или иному факту и т. п. Ни один другой жанр в древнерусской литературе не предоставляет этот материал (т. е. материал чужой речи) в таком неограниченном количестве при самых разнообразных способах его выражения. Прежде чем перейти к постановке проблемы, мы предлагаем обзор исследований, которые разрабатывали данную тему или же в той или иной мере касались ее.
Работы, посвященные изучению литературной природы русских летописей, неизбежно затрагивают вопрос о прямой речи. Не раз уже отмечалось, что обилие прямой речи в русских летописях является одной из характерных особенностей, которая не свойственна ни византийским, ни западноевропейским хроникам. В связи с этим был поставлен и решен ряд вопросов, касающихся данной темы. В упомянутой нами работе М. И. Сухомлинова намечается тот подход к летописным «речам», который характерен и для более поздних работ. М. И. Сухомлинов считает, что «форма разговора (т. е. прямая речь. – Е. Д.) составляет одну из главнейших особенностей летописного изложения»[44 - Сухомлинов М. И. О древней русской летописи… С. 204.]. Для этого подхода характерны поиски источников «разговорной формы», которая нашла отражение в летописи. Один из этих источников М. И. Сухомлинов видит, вслед за А. Шлецером[45 - Шлецер А. Нестор. СПб., 1909. Т. 1.], в библейских книгах и объясняет их влиянием библейского способа повествования; другим источником, по его мнению, является живая народная речь, следы которой видны «преимущественно в разговоре лиц, упоминаемых в летописи»[46 - Сухомлинов М. И. О древней русской летописи… С. 214.]. Почему именно на летописные разговоры «живая народная речь» имела такое влияние? На этот вопрос М. И. Сухомлинов дает следующий ответ: синтаксическая основа письменного древнерусского языка была очень проста. Простота эта приближала его к разговорной форме, т. е. к устной речи. А поскольку летописцу очень часто приходилось передавать живую речь, то естественно, что именно в «речах» эта форма нашла свое наиболее яркое отражение. Однако при этом М. И. Сухомлинов не дает ответа на вопрос, почему летописцу необходимо было так часто приводить эти «речи», почему форма «речей» стала столь распространенной в русской летописи (в отличие, например, от западных или же византийских хроник).
Далее автор констатирует, что в форме прямой речи (или, как он пишет, в форме разговора) в летописи всегда выражалось решение или обдумывание – «единственно в силу той неоспоримой истины, что мысль и слово связаны друг с другом неразрывно»[47 - Там же. С. 216.]. В дальнейшем многие из подобного рода «речей» начинают передаваться «в обыкновенной форме повествования», т. е. в авторской речи.
И наконец, М. И. Сухомлинов пишет о существе передаваемых в летописи «разговоров». Они, по его мнению, «сообразны духу времени», просты и естественны. «В способе сообщения их не видно ни малейшего желания придавать искусственную обделку словам собеседников, просто и прекрасно выражающим мысли, вполне соответствующие быту тогдашнего времени»[48 - Там же. С. 220. Мы не будем подробно касаться других дореволюционных работ, посвященных летописи и в той или иной мере затрагивающих интересующую нас тему, потому что предметом этих исследований были частные вопросы. Из них можно отметить: Хрущев И. П. О древнерусских исторических повестях и сказаниях. Киев, 1878; Барац Г. О библейско-агадическом элементе в повестях и сказаниях начальной русской летописи. Вып. I. Киев, 1907; Аничков Е. В. Язычество и древняя Русь. СПб., 1914 и др.].
Среди работ последнего времени в первую очередь заслуживают внимания исследования Д. С. Лихачева[49 - Лихачев Д. С. Русский посольский обычай XI–XIII вв. // Исторические записки. 1946. № 18. С. 41–55; Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947; Лихачев Д. С. «Повесть временных лет» // Повесть временных лет. Т. II. М.; Л., С. 3–148; Лихачев Д. С. О летописном периоде русской историографии // Вопросы истории. 1948. № 9. С. 28–34; Лихачев Д. С. Возникновение русской литературы. М.; Л., 1952.], в которых дается генетическая классификация типов прямой речи. При этом называются три возможные источника их – действительность, фольклорные произведения и письменные памятники, в частности, житийного характера:
<…> в летописи мы можем встретить следующие типы прямой речи:
1. Чаще всего летописец вносит в свою летопись жизненно-реальную речь, воспроизводит действительно произнесенную речь как документ, по возможности не изменяя ее.
2. С другой стороны, прямая речь в летопись вносится на основании фольклорного произведения; в этом случае она отражает особенности фольклорной прямой речи.
3. Наконец, прямая речь вставлена в летопись вместе с отрывком житийного произведения (например, «Сказание о Борисе и Глебе»), в такой прямой речи может ощущаться сильный налет книжности: речи святого пересыпаны цитатами из молитв и псалмов – они по большей части не воспроизводят действительно произнесенные речи, а служат религиозно-нравственным целям[50 - Лихачев Д. С. Возникновение русской литературы… С. 252.].
Анализируя первый тип летописных речей, Д. С. Лихачев отмечает, что «речи» эти выделяются «своим жизненно-конкретным, а не вымышленным характером», что читатель имеет дело не с книжной речью, а с живой, устной, «с речью, которая близка к действительно произнесенным словам»[51 - Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение… С. 114.]. «Русские летописи с поразительной точностью заносили сказанные в исторических обстоятельствах слова, они верно сохраняли все формулировки»[52 - Там же.], – пишет по этому поводу Д. С. Лихачев. Для того чтобы показать, каким образом летописец мог достаточно верно воспроизводить «речи», которых он сам не слышал, Д. С. Лихачев обращается к опыту дипломатических, воинских и вечевых «речей». Описывая характер древнерусского посольского обычая, исследователь отмечает, что переговоры между князьями в XI–XIII вв. на Руси велись устно через послов, что послы передавали порученные им «речи» в точном виде. Посол при исполнении своих обязанностей становился как бы заместителем князя, так что оскорбление, нанесенное послу, приравнивалось оскорблению, нанесенному князю, от лица которого этот посол выступал. Причем посол не мог изменять по-своему порученные ему «речи» и передавал их, «соблюдая грамматические формы первого лица – от лица пославшего»[53 - Лихачев Д. С. Русский посольский обычай… С. 43.].
Посольские речи от лица князей, – пишет Д. С. Лихачев, – настолько вошли в практику русской жизни, что летописец нередко, говоря о посольских речах, не упоминал о после, который эти речи передавал. Отсюда очень часто при чтении русской летописи создается впечатление, что князья, разделенные огромными расстояниями, свободно переговариваются друг с другом[54 - Лихачев Д. С. Русские летописи… С. 20.].
Д. С. Лихачев считает тесно связанными два вопроса – вопрос о точности передачи порученных послам «речей» и о точности занесения их в летопись.
Если «речи» передавались послами в более или менее законченных формулировках, то и в отчетах послов <…>, и в записях самих летописцев формулировки эти, конечно, сохранялись не менее бережно[55 - Лихачев Д. С. Русский посольский обычай… С. 48.].
Практика посольского обычая не могла не выработать таким образом готовых формулировок, которые, благодаря лаконизму и выразительности, облегчали запоминание и передачу речи.
Итак, говоря о первом типе летописных «речей», Д. С. Лихачев указывает на их документальность и историчность.