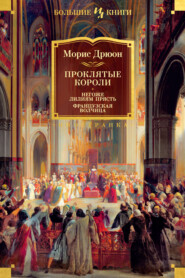скачать книгу бесплатно
Но прошло две недели, а дела в Артуа были еще далеки от завершения, да и договор с фламандцами мог быть подписан не раньше первого сентября. Поэтому Филипп снова попросил Дюэза об отсрочке, на сей раз через посредство вьеннского дофина. Но Дюэз, к великому удивлению регента, выказал неожиданную твердость духа и ответил чуть ли не грубо: церемония, мол, назначается на пятое сентября, и это уж бесповоротно.
Вновь избранный папа настаивал именно на этой дате по весьма веским в его глазах причинам, которые, впрочем, предпочитал держать в тайне, да и догадаться о них было трудно. А дело заключалось в том, что в 1300 году, именно пятого сентября, его посвятили в епископы города Фрежюса; именно в первую неделю сентября 1309 года короновался покровитель Дюэза – король Роберт Неаполитанский; и именно четвертого сентября 1310 года увенчался успехом маневр Дюэза, когда он, подделав королевскую подпись, добился для себя епископского кресла в Авиньоне.
Новый папа умел ладить с небесными светилами и знал, когда движение солнца благоприятно его собственному восхождению.
«Ежели его высочеству, регенту Франции и Наварры, столь любезному нашему сердцу, – велел передать он Филиппу, – государственные заботы препятствуют находиться вместе с нами в сей высокоторжественный день, мы душевно скорбим, но раз уже нам нечего бояться, что ему предстоит совершить столь дальний путь, мы возложим на себя тиару в городе Авиньоне».
Филипп Пуатье скрепил договор с фламандцами утром первого сентября. А пятого на заре он прибыл в Лион в сопровождении графа Валуа и графа де ла Марша, боясь оставить их без присмотра в Париже, а также в сопровождении Людовика д’Эврё.
– Вы, племянник, совсем загнали нас, мчались сломя голову, – сказал Валуа, вступив на лионскую землю.
Прибывшие едва успели переодеться в особые одежды, приготовленные для церемонии и заранее заказанные для них казначеем Жоффруа де Флери. Регенту принесли мантию персикового цвета, подбитую беличьими животиками в количестве двадцати шести штук. Карл Валуа, Людовик д’Эврё, Карл де ла Марш и Филипп Валуа, тоже приглашенный на празднество, получили в подарок плащи, богато подбитые мехом.
Празднично разубранный Лион кишел народом, собравшимся поглядеть на торжественное шествие.
Жак Дюэз прибыл в храм Святого Иоанна верхом на коне, а впереди него прогарцевал мимо коленопреклоненных толп сам регент Франции. Над городом стоял оглушительный колокольный звон. Папского коня вели под уздцы граф д’Эврё и граф де ла Марш. Французская монархия тесно замкнула папство в свое кольцо. Сзади шествовали кардиналы в красных шапках, завязанных тесьмой под подбородок и надетых поверх скуфеек. Епископские митры сияли на солнце. Сам кардинал Орсини, потомок римских патрициев, возложил тиару на чело Жака Дюэза, сына простого горожанина из Кагора.
Гуччо, успевший занять в соборе удобное место, восхищался своим господином. Сухонький, узкоплечий старичок с острым подбородком, который еще месяц назад готовился, по всеобщему мнению, отдать Богу душу, без малейшего усилия нес на себе тяжелые атрибуты папской власти. Сказочно пышные обряды этой многочасовой церемонии, возвышавшей простого кардинала над всеми прочими священнослужителями, превращавшие его в живой символ божества, – все это, помимо воли, оказало на Дюэза свое воздействие: черты лица, осанка приобрели несвойственную ему внушительность и величавость, и выражение это проступило еще явственнее к концу литургии. Однако, когда Дюэза обули в папские туфли, он не мог удержать легкой улыбки.
«Scarpinelli! Мне дали кличку scarpinelli – кардинал-туфельщик, – подумал он. – Распространяли слухи, что я сын башмачника. А теперь я сам буду ходить в туфлях… Господи! Нечего мне больше желать. Только бы умело повести дела!»
Он и доказал свое умение вести дела – в тот же день по просьбе папы регент пожаловал его брату, Пьеру Дюэзу, дворянство, а сам он собирался уже собственной волей назначить пятерых своих племянников кардиналами и выполнил свое намерение в течение двух ближайших лет.
Акт о пожаловании дворянства, продиктованный лично Филиппом Пуатье по окончании церемонии, если и имел целью отдать долг уважения наместнику святого Петра в лице родного брата папы, одновременно свидетельствовал об удивительных умонастроениях юного регента. «Фамильное достояние, накопленное богатство и все прочие дары фортуны, – писал он, – играют ничтожно малую роль в совокупности моральных качеств и в достохвальных деяниях человеческих; все это переходит достойным, равно как и недостойным, заслуженно, а равно и незаслуженно лишь игрою случая… Зато каждый есть детище собственных своих деяний и личных заслуг, и не имеет значения, откуда мы пришли, если даже мы знаем, от кого мы произошли…»
Но регент не для того проделал столь длинный путь и выказал в отношении нового папы так много внимания, чтобы уехать с пустыми руками, не получив ничего взамен. Между этими двумя людьми, которых разделяли целые полвека («Вы, ваше высочество, восход, а я, увы, закат!» – любил повторять Дюэз Филиппу), с первой же встречи установилась какая-то тайная близость и общность замыслов. Иоанн XXII не забыл тех обещаний, которые давал Жак Дюэз, а регент – тех, которые давал граф Пуатье. Как только регент завел разговор о церковных бенефициях, первый аннуитет от которых должен был поступить в королевскую казну, новый папа тут же сообщил, что документы ждут лишь подписи. Но прежде чем были приложены печати, Филипп успел приватно побеседовать с Карлом Валуа.
– Нет ли у вас ко мне каких-нибудь претензий, дядюшка? – спросил он.
– Конечно нет, племянник, – ответил бывший император Константинопольский.
Единственный способ сказать человеку в лицо, что у тебя к нему одна лишь претензия – зачем он вообще существует на свете!
– В таком случае, дядюшка, если вы не имеете оснований на меня жаловаться, зачем же вы вредите мне? Я заверил вас, когда вы вручали мне ключи от казны, что не спрошу отчета, и сдержал свое обещание. Вы же клялись мне в преданности и верности, а слова своего не держите и оказываете помощь Роберу Артуа.
Валуа возмущенно махнул рукой.
– Боюсь, что вы просчитаетесь, дядя, – продолжал Филипп, – Робер обойдется вам слишком дорого. У Робера гроша за душой нет; единственный его доход – это деньги, которые ему выплачивает казна, а я распорядился не выплачивать ему больше ничего. Поэтому теперь он будет осаждать вас просьбами о помощи. А где вы сами возьмете нужные средства, поскольку финансы королевства уже не в ваших руках? Да не дуйтесь вы, не краснейте, а главное, воздержитесь от грубых слов, о которых вы сами пожалеете, так как я пекусь о вашем же благе. Дайте мне обещание не слишком поддерживать Робера, а я со своей стороны попрошу святого отца, чтобы аннаты епископств Валуа и Мэн шли прямо вам, минуя казну.
Сердце графа Валуа терзали ненависть и алчность.
– А какова сумма этих аннатов? – спросил он.
– От десяти до тринадцати тысяч ливров в год, дядюшка; возьмите в расчет, что в последние годы царствования моего отца и во все время царствования Людовика бенефиции вообще не взимались.
Для Карла Валуа, не вылезавшего из долгов, привыкшего к королевскому образу жизни и посулившего непомерно огромное приданое за своими дочерьми, для которых он мечтал о самых выгодных партиях, десять – тринадцать тысяч ливров ежегодного дохода если и не разрешали окончательно финансовых затруднений, то, во всяком случае, давали временную передышку.
– Вы, племянник, как я вижу, человек добрый и понимаете мои нужды, – ответил Карл Валуа.
Получив от Гоше де Шатийона добрые вести, Филипп, не торопясь, возвращался в Париж, делая небольшие переходы, улаживал по дороге всевозможные дела и наконец, прежде чем въехать в столицу, заглянул в Бенсен к королеве Клеменции, чтобы передать ей благословение нового папы.
– Как я счастлива, – воскликнула королева, – что наш дорогой Дюэз взял себе имя Иоанн, ведь то же имя я выбрала своему ребенку. Я дала обет назвать его Иоанном еще на корабле, по дороге во Францию, когда разразилась страшная буря.
Клеменцию по-прежнему не интересовали вопросы власти. Всеми помыслами ее владел покойный супруг и будущее материнство со всеми его заботами. Пребывание в Венсенне благотворно сказалось на состоянии Клеменции: она похорошела, к ней вернулись прежние краски, и сейчас, раздобрев на седьмом месяце, она чувствовала себя совсем здоровой, что нередко бывает к концу тяжелой беременности.
– Неподходящее имя для французских королей, – заметил Филипп. – В нашем роду никогда не было Иоаннов.
– Но, брат мой, я говорю вам, что дала обет.
– Что ж, придется уважить ваше желание… Если родится мальчик, он будет зваться Иоанн Первый.
Прибыв во дворец Сите, Филипп направился в покои своей супруги Жанны, которая, сияя счастьем, нянчилась с крошкой Луи-Филиппом, кричавшим, как и подобает кричать в двухмесячном возрасте.
Но графиня Маго, услышав о возвращении зятя, как фурия примчалась во дворец, засучивая на ходу рукава.
– Ох, сынок, пока вы отсутствовали, меня предали! Известно вам, что натворил в Артуа ваш плут Гоше?
– Гоше вовсе не плут, а коннетабль Франции, матушка, и еще недавно вы не считали его плутом. Так что же он наделал?
– Он отступился от меня! – вопила Маго. – Осудил во всем. Ваши посланцы снюхались, как воры на ярмарке, с моими вассалами, посмели потребовать, чтобы я не возвращалась в Артуа… Слышите, это мне, Маго, запрещают возвращаться в мое же собственное графство… прежде чем я подпишу этот проклятый мирный договор, который я в прошлом декабре отказалась подписать, как ни понуждал меня к этому покойный Людовик. Больше того, они требуют, чтобы я вернула какие-то подати, которые я, по их мнению, неправильно взимала.
– Все это кажется мне вполне справедливым. Мои посланцы строго выполняют мои распоряжения, – спокойно отозвался Филипп.
От удивления Маго даже замолчала и застыла на месте с открытым ртом, выпучив глаза. Но, оправившись от первого потрясения, завопила еще громче:
– Ах, справедливо! Значит, по-вашему, справедливо грабить мои замки, вешать мою стражу, топтать мои нивы?! Значит, это вы так распорядились, значит, вы поддерживаете моих врагов! Ваши распоряжения! Вот уж действительно заплатили мне за все добро, которое я для вас сделала!
На ее лбу вздулась толстая синяя жила, и Филипп подумал, что вечером его теще придется отворить кровь.
– Не знаю, матушка, что вы такое для меня сделали, если не считать того, что отдали мне свою дочь, – возразил он, – и почему я должен терпеть, что вы наносите ущерб моим подданным и ради собственной выгоды ставите под угрозу мир в королевстве.
Маго не сразу нашлась что ответить, ярость боролась в ее душе с благоразумием. Но, услышав из уст зятя слова «мои подданные», чисто королевские слова, она забыла все.
– А убить твоего братца, – крикнула она, наступая на Филиппа, – это, по-твоему, ничего не значит?
Десять недель она хранила про себя тайну и выдала ее сейчас в неразумном порыве гнева.
Филипп не отпрянул, не крикнул от ужаса, он только бросился закрывать двери и близоруко оглядывался, боясь обнаружить нежелательного свидетеля, который мог их слышать. Затем запер все замки, вынул ключи и засунул их за пояс. Маго вздрогнула от страха, а когда она увидела медленно приближавшегося к ней Филиппа, увидела его лицо, она совсем перетрусила.
– Стало быть, это вы, – проговорил он негромко, – стало быть, то, о чем шушукаются по всей Франции, правда?
Но Маго была не из тех, кто сдается без боя.
– А как, по-вашему, все это произошло, сын мой? И кому, по-вашему, вы обязаны честью быть регентом, а возможно, рано или поздно и королем? Ну-ну, не прикидывайтесь простачком! Ваш брат отобрал у меня Артуа; Карл Валуа настраивал его против меня; а вы, вы сидели в Лионе, выбирали папу. Подумаешь, нужен мне папа! Не смотрите на меня как блаженненький и не вздумайте уверять, что не одобряете моего поступка! Ничуть вы не любили Людовика и, конечно, рады, что вам досталось после него еще тепленькое местечко! А все благодаря мне, все потому, что я чуточку, совсем чуточку приправила его драже. Но вот уж чего я никак не ожидала – что вы окажетесь еще хуже Людовика!
Филипп опустился в кресло, скрестил на груди свои длинные руки и задумался.
«Рано или поздно, это все равно бы произошло, – подумала Маго. – В каком-то отношении это даже лучше; теперь он у меня в руках».
– Жанна знает? – вдруг спросил Филипп.
– Ничего не знает. Это не женское дело.
– А кто знает, кроме вас?
– Беатриса, моя придворная дама.
– И этого уже много, – отозвался Филипп.
– Ох, не трогайте ее! – вскричала Маго. – Она из могущественной семьи.
– О да, как раз из той семьи, по чьей вине вас так обожают в Артуа! А кроме Беатрисы? Кто вам дал… эту приправу, как вы изволили выразиться?
– Одна колдунья из Арраса, я ее в глаза не видела, а Беатриса ее знает. Я велела нарочно сказать, что хочу избавиться от оленей, которые портят мой парк, и действительно мы их немало потравили.
– Следовало бы найти эту женщину, – заметил Филипп.
– Поняли ли вы наконец, – продолжала Маго, – что теперь вы не можете от меня отступиться? Как только люди увидят, что вы лишили меня своего покровительства, враги мои осмелеют и начнут клеветать…
– Злословить, матушка, злословить… – уточнил Филипп.
– И если меня обвинят, то – да было бы вам известно – вся тяжесть обвинения падет на вас, люди скажут, что я действовала в ваших интересах, если не по вашему прямому наущению.
– Знаю, матушка, знаю; я как раз об этом и думал.
– Помните, Филипп, ради вас я рисковала загубить свою душу. Так что не будьте неблагодарным.
Филипп даже зашелся от гнева, что случалось с ним весьма редко.
– Нет, это уж слишком, матушка! Вы теперь потребуете, чтобы я вам ноги целовал за то, что вы отравили моего брата! Если бы я знал, что регентство достанется мне такой ценой, я никогда, слышите, никогда не согласился бы. Я отвергаю убийство; никого не следует убивать ради достижения своей цели; к такому средству прибегают плохие политики, и я приказываю вам более не прибегать к нему, пока я ваш сюзерен.
В первое мгновение он чуть было не поддался благородному порыву: немедленно собрать Совет пэров, разоблачить преступление, потребовать достойной кары… Маго, угадавшая по выражению лица Филиппа ход его мыслей, пережила скверную минуту. Но Филипп никогда не следовал своим первым побуждениям, даже самым благим. Поступить так – значит бросить тень не только на свою жену, но и на самого себя. Да и графиня Маго способна возвести на него любой поклеп, лишь бы обелить себя, лишь бы загубить его, не вставшего на ее защиту. Найдется немало желающих воспользоваться удобным случаем и пересмотреть вопрос о регентстве и престолонаследовании. А Филипп успел уже немало сделать ради Франции и мечтал сделать еще больше; он не вправе лишиться власти. В конце концов, брат его, Людовик, был скверным королем, да и убийцей к тому же… Возможно, такова воля провидения, воздавшего убийце за убийство и передавшего Францию в более достойные руки.
– Бог вам судья, матушка, Бог вам судья, – произнес он. – Мне хотелось бы только, чтобы адское пламя по вашей милости не коснулось нас еще при жизни. Приходится расплачиваться за ваше преступление, и поскольку я не могу бросить вас в темницу, я и впрямь вынужден стать вам поддержкой… Искусно вы сумели все подстроить. Послезавтра мессир Гоше получит от меня новые распоряжения. Не скрою от вас, что даю их с тяжелой душой.
Маго бросилась было на шею зятю. Но он отстранил ее.
– И запомните хорошенько, – сказал он, – отныне все кушанья, прежде чем поступят ко мне на стол, будут пробоваться трижды, и если я почувствую хоть малейшие желудочные колики, часы вашей жизни будет нетрудно сосчитать. Так что молитесь за мое здоровье.
Маго склонила чело.
– Я так верно буду служить вам, сын мой, – произнесла она, – что рано или поздно вы вернете мне свою любовь.
Глава IV
«Коль скоро нас вынуждают воевать…»
Никто, и в первую очередь Гоше де Шатийон, не мог понять, почему Филипп Пуатье так круто изменил свою политику в отношении графства Артуа. Регент внезапно объявил своих собственных посланцев неправомочными, а подготовленное ими соглашение неприемлемым и потребовал составить новое, которое более благоприятствовало бы графине. Последствия не замедлили сказаться. Переговоры были прерваны, и участники их, представлявшие умеренную часть знати графства Артуа, сразу же присоединились к стану мятежников. Трудно описать их негодование; коннетабль их предал, провел; отныне единственное их оружие – сила.
Граф Робер ликовал.
– Ну что, разве не предупреждал я вас, что с этими мошенниками нельзя вести переговоры? – говорил он всем и каждому.
Собрав свое воинство, он снова двинул его на Аррас.
Гоше, прибывший для переговоров с горсткой людей, едва успел улизнуть из Арраса через Перонские ворота, когда Робер торжественно, под звуки труб, с развернутыми знаменами, вступил в свою столицу через ворота Сент-Омер. Войди он на четверть часа раньше, быть бы коннетаблю Франции в плену. Произошло все это двадцать второго сентября. В тот же день Робер отправил своей тетке Маго следующее послание:
Высокочтимой, высокороднейшей даме Маго Артуа, графине Бургундской от Робера Артуа, шевалье. Так как вы препятствовали осуществлению моих законных прав в графстве Артуа, что много мне вредило и тяжелым камнем на душе лежит, каковое положение терпеть более я не намерен, сим довожу до вашего сведения, что отныне буду сам вершить все дела и надеюсь возвратить себе все свое добро, как только успею.
Робер не был силен в эпистолярном искусстве; дипломатические выверты и тонкости были не по его части, и он весьма гордился своим посланием, полностью выражавшим то, что он хотел сказать.
В Париж коннетабль Франции явился туча тучей и не замедлил высказать графу Филиппу все, что накипело у него на душе. Перед регентом он не чувствовал ни малейшего стеснения – он знал его с пеленок; Гоше прямо так и сказал Филиппу и добавил, что негоже подобным образом обращаться с верным слугой и преданным родственником, который целых двадцать лет командует французской армией. Где это видано, посылать человека заключать договор на одних условиях, а потом менять их!
– До сих пор, ваше высочество, я слыл человеком честным и раз уж давал кому слово, то каждый знал, что сдержу его. А по вашей милости я очутился в роли предателя и плута. Когда я поддерживал вас как будущего регента, я надеялся обнаружить в вас хоть какие-то черты моего покойного государя, вашего батюшки, тем паче что до этого вы не раз делом доказывали, что пошли в него. А теперь я вижу, что жестоко заблуждался. Неужели вы до такой степени попали под влияние женщины, что меняете мнения, как перчатки?
Филипп старался успокоить коннетабля, уверяя его, что поначалу плохо разобрался в делах и дал неправильные указания. Все равно бесполезно идти на мировую со знатью графства Артуа, пока Робер не сложит оружия. Робер представляет собой вечную угрозу для государства и для всей королевской фамилии, ибо бесчестит ее. Разве не он первый посеял смуту, разве не он распространяет клеветнический слух, что Маго отравила Людовика?
Гоше пожал плечами.
– Но кто же поверит такой ерунде? – вскричал он в сердцах.
– Не вы, Гоше, конечно, не вы, – заметил Филипп, – но многие прислушиваются к клевете с удовольствием, лишь бы нам навредить, а завтра они скажут, что я, что вы тоже причастны к этой кончине, которую хотят обставить таинственными обстоятельствами. Но ничего, Робер сделал ложный шаг, чего, впрочем, я и ждал. Посмотрите, что он пишет Маго…
Филипп протянул коннетаблю письмо от двадцать второго сентября.
– В этом письме, – продолжал Филипп, – он отказывается признавать решение, вынесенное парламентом по настоянию моего отца еще в тысяча триста девятом году. До сих пор он поддерживал врагов графини, а сейчас он бунтует уже против законов королевства. Придется вам снова отправиться в Артуа.
– Нет уж, увольте, ваше высочество, – воскликнул Гоше. – Слишком я там осрамился. Улепетывал из Арраса, как старый кабан от гончих, даже помочиться и то не успел. Нет уж, сделайте милость, найдите себе другого, пусть он и улаживает такие дела.
Филипп поднес сплетенные пальцы к губам. «Если бы ты только, Гоше, знал, – думал он, – как мне больно тебя обманывать! Но скажи я тебе всю правду, ты бы еще больше стал меня презирать!» И он повторил:
– Вы поедете в Артуа, Гоше, из любви ко мне и потому что я вас об этом прошу. Возьмите с собой вашего зятя, мессира Миля, и на этот раз достаточно вооруженных людей, а также горожан и затребуйте подкрепление из Пикардии; Роберу объявите, что ему следует предстать перед парламентом и дать отчет в своих действиях. Одновременно поддержите деньгами и вооруженными людьми тех горожан, которые остались нам верны. А если Робер не подчинится, я сумею привести его к повиновению иным способом… Правитель – такой же человек, как и все прочие, – продолжал Филипп, взяв Гоше за плечи, – он может поначалу сделать ошибку, но самая большая ошибка – упорствовать в своей неправоте. Ремеслу правителя учатся, как любому другому ремеслу, и я пока еще учусь. Простите меня за то, что я поставил вас в неловкое положение.
Ничто так не трогает человека в летах, как откровенное признание юноши в своей неопытности, особенно когда этот юноша стоит много выше вас на иерархической лестнице. Слеза увлажнила глаза Гоше, полуприкрытые морщинистыми, как у черепахи, веками.
– Ах да, я и забыл! – воскликнул Филипп. – Я решил, что вы будете опекуном будущего ребенка королевы Клеменции… нашего короля, если Бог пошлет мальчика, и вторым крестным отцом после меня[24 - По обычаю тех лет у отпрысков королевских или княжеских семейств было сразу по нескольку крестных отцов и матерей, иногда до восьми. Так, Карл де Валуа и Гоше де Шатийон оба оказались крестными отцами Карла де ла Марша, третьего сына Филиппа Красивого. Маго тоже была крестной матерью этого принца, как, впрочем, и многих других детей рода. А потому не было ничего удивительного в том, что ее избрали, чтобы нести к купели посмертного ребенка Людовика Х – напротив, не выбрать ее показалось бы опалой.].
– Ваше высочество, ваше высочество!.. – растроганно лопотал Гоше.
И он бросился обнимать регента, словно вина за неудачу в Артуа падала только на него, Гоше.
– А насчет крестной матери, – продолжал Филипп, – мы решили с самой королевой, что крестить будет графиня Маго, и это положит конец всем слухам.
Через неделю коннетабль снова отбыл в Артуа.
Как и следовало ожидать, Робер отказался повиноваться регенту и продолжал бесчинствовать вместе со своей вооруженной ордой. Но в октябре счастье изменило ему. Если Робер был великолепным воином, он был скверным стратегом: свои набеги совершал без системы и плана, сегодня бросал людей на север, завтра – на юг, словом, куда ему подсказывало вдохновение. Первый рейтар среди рейтаров, первый кондотьер среди кондотьеров, он был скорее создан для подчиненной роли, как военная сила, направляемая свыше, чем для роли командира, что и доказал пятнадцать лет спустя, когда сражался на стороне Англии против Франции. В графстве Артуа, которое он считал своей родной вотчиной, Робер распоясался, как на вражеской территории, и вел опасную, дикую, лихорадочную жизнь, что вполне отвечало его вкусам. Он наслаждался тем, что при его приближении все трепещет, но не замечал, что сеет вокруг себя ненависть. Слишком много повешенных на первом попавшемся суку, слишком много обезглавленных и зарытых живьем в землю под радостное ржание его приспешников, слишком много испорченных девушек, на чьей нежной коже сохранились царапины от медных кольчуг, слишком много пожаров отмечало его победоносный путь. Матери, желая утихомирить расхныкавшееся дитя, грозили позвать его светлость Робера, но как только он появлялся поблизости, они хватали своих ребятишек и бежали прятаться в соседний лес.
Городские ворота забаррикадировали; ремесленники, наученные примером фландрских коммун, точили втихомолку ножи, а старшины поддерживали связь с эмиссарами Гоше. Робер любил бой в открытом поле и презирал осадную войну. Жители Сент-Омера или Кале запирали ворота перед его носом, а он пожимал плечами и грозился: