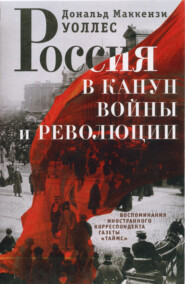скачать книгу бесплатно
Вдобавок ко всему этому, поскольку в высших официальных кругах Санкт-Петербурга опасались, что оппозиционный дух земства может найти публичное выражение в печатной форме, губернаторы получили широкие права предварительной цензуры предлагающихся к публикации протоколов земских собраний и тому подобных документов.
Чего бюрократия в своем рвении защитить нерушимость самодержавной власти боялась больше всего, так это объединения ради общей цели земств разных губерний. Поэтому она наложила вето на все такие объединения, хотя бы даже в статистических целях; и когда однажды обнаружилось, что ведущие представители земств со всех концов страны проводят частные собрания в Москве якобы для обсуждения экономических вопросов, им приказали вернуться по своим домам.
Даже в пределах своих определенных законом полномочий земство не совершило того, чего от него ожидали. Страна не покрылась сетью шоссированных дорог, да и мосты отнюдь не так прочны, как того хотелось бы. Сельские школы и лазареты по-прежнему далеки от того, чтобы удовлетворить потребности жителей. Для развития торговли и производства сделано мало или совсем ничего; а деревни и села во многом остались такими же, какими были при старой администрации. Между тем местные налоги и сборы росли с угрожающей быстротой; и на основании всего этого многие делают вывод, что земство – никчемное учреждение, которое только увеличило поборы, но не принесло стране соизмеримой пользы.
Если принять за критерий оценки учреждения те завышенные ожидания, которые поначалу питало общество, нам будет легче согласиться с такими выводами, но это все равно что утверждать, что земство не сотворило чуда. Россия намного беднее и менее густо населена, чем более развитые страны, которые она берет себе за образец. Думать, что она может сразу же посредством административной реформы создать для себя все блага, которыми пользуются более развитые государства, столь же абсурдно, как и полагать, что бедняк может вмиг построить великолепный дворец, потому что получил от богатого соседа необходимые архитектурные чертежи. Должны пройти не просто годы, а поколения, прежде чем Россия будет выглядеть так же, как Германия, Франция или Англия. Хорошее правительство может ускорить или замедлить это преображение, но его невозможно добиться незамедлительно, даже если в изданных с этой целью законах учесть всю совокупную мудрость философов и государственных деятелей Европы.
Однако земство сделало гораздо больше, чем готово признать большинство его критиков. Оно довольно сносно выполняет свои повседневные обязанности без коррупционных скандалов и создало новую, более справедливую систему тарифов, которая заставила земле- и домовладельцев нести свою долю общественных затрат. Земство очень много сделало для предоставления медицинской помощи и начального образования простому народу и замечательным образом улучшило состояние больниц, лечебниц для душевнобольных и других благотворительных учреждений, находящихся на его попечении. В своих стараниях облегчить положение крестьянства оно содействовало улучшению местных пород лошадей и крупного рогатого скота и создало в деревнях систему обязательного страхования от пожаров вместе со средствами их предотвращения и тушения, что чрезвычайно важно в стране, где крестьяне живут в деревянных домах и пожары – отнюдь не редкость. Вопрос увеличения доходов крестьян долго игнорировался, но в последнее время земство… помогло им получить в свое распоряжение более качественные сельскохозяйственные орудия и семена, способствовало созданию небольших кредитных союзов и сберегательных касс, а также назначило сельскохозяйственных инспекторов, дабы научить земледельцев тому, какие улучшения они могут внести сами в пределах своих ограниченных средств[3 - Сумма, израсходованная на эти цели в 1897 году – последнем, по которому у меня есть статистика, составила около полутора миллионов рублей, или, грубо говоря, 150 000 фунтов, которые распределились по следующим статьям:1. Агрономическое обучение – 41 100 фунтов2. Экспериментальные станции, музеи и т. д. – 19 800 фунтов3. Ученые агрономы – 17 400 фунтов4. Сельскохозяйственное производство – 26 700 фунтов5. Улучшение пород лошадей и крупного рогатого скота – 45 300 фунтовИтого – 150 300 фунтов]. В то же время во многих уездах оно старалось содействовать местным ремеслам, которым угрожает гибель из-за крупных фабрик, и всякий раз, когда предлагались меры в интересах сельских жителей, как, например, снижение выкупных платежей за землю и создание Крестьянского поземельного банка, земство неизменно поддерживало их от всего сердца.
Если вы спросите ревностного земского депутата, почему земство не сделало большего, он, вероятно, ответит вам, что причиной является правительство, которое постоянно вставляло ему палки в колеса. Собрания вынуждены были согласиться на то, что их возглавили предводители дворянства, многие из которых были людьми устаревших взглядов и ретроградных идей. На каждом шагу более просвещенные, более активные члены сталкивались с тем, что государственные чиновники противодействуют и мешают им и в конце концов окончательно срывают их планы. Когда была предпринята похвальная попытка ввести более справедливое налогообложение в торговле и промышленности, на этот план наложили вето, и вследствие этого класс коммерсантов, уверенный в том, что всегда будет платить смехотворно низкие налоги, потерял всякий интерес к земским делам. Даже в отношении налогов на земельную и жилую собственность правительство устанавливает низкий предел, ибо опасается, что, если ставки значительно повысятся, оно не сможет собирать высокие налоги. Неограниченная гласность, в условиях которой поначалу работали собрания, впоследствии была урезана бюрократией. Утверждалось, что при таких ограничениях всякое свободное и энергичное действие становится невозможным, а земские органы не могут осуществить того, чего от них обоснованно ожидали. Все это в известной мере правда, но это не вся правда. Если мы рассмотрим некоторые конкретные обвинения, выдвинутые против этого учреждения, нам будет легче понять его истинный характер.
Чаще всего на него жалуются за то, что оно сильно раздуло ставки. С этим невозможно спорить. Сначала расходы земств в 34 губерниях, где оно существовало, составляли менее 6 миллионов рублей; за два года (1868 г.) они подскочили до 15 миллионов; в 1875 году расходы составили уже почти 28 миллионов; в 1885 году – более 43 миллионов, а к концу века достигли весьма почтенной суммы в 95 800 000 рублей. Поскольку каждая губерния имела право устанавливать собственные налоги, размеры повышения в разных губерниях значительно варьировались. В Смоленске, например, они составили всего около 30 процентов, в Самаре – 436 процентов, а в Вятке, где преобладает крестьянский элемент, – не менее 1262 процентов! Чтобы справиться с этим повышением, налоги на землю выросли с менее чем 10 миллионов в 1868 году до более чем 47 миллионов в 1900 году. Удивительно ли в таком случае слышать жалобы владельцев земли, которым стоит большого труда сделать ее обработку прибыльной!
Хотя этот рост неприятен для налогоплательщиков, из этого не следует, что он чрезмерен. Во всех странах повышаются центральные и местные налоги, и именно в отсталых странах они растут быстрее всего. Например, во Франции средний ежегодный рост составлял 2,7 процента, а в Австрии – 5,59 процента. В России же он должен был быть выше, чем в Австрии, притом что в губерниях с земскими учреждениями он составил всего около четырех процентов. По сравнению с государственным налогообложением местное не кажется чрезмерным, если его сопоставить с другими странами. В Англии и Пруссии, например, государственные налоги относятся к местным как сто к пятидесяти четырем и к пятидесяти одному, а в России – как сто к шестнадцати[4 - Эти данные взяты у наилучших из доступных авторитетов, в основном у Шванебаха и Скалона, но я не готов поручиться за их точность.]. Снижение налогов в целом, безусловно, способствовало бы материальному благополучию сельских жителей, но желательно, чтобы оно касалось государственных налогов, а не местных, поскольку последние можно рассматривать как нечто сродни вложениям в производство, тогда как доходы от первых идут в основном на цели, которые мало или вообще никак не связаны с потребностями простых людей. В этих рассуждениях я исхожу из того, что местные расходы разумно обоснованны, но и я вынужден признать, что по этому пункту нет единого мнения.
Враждебно настроенные критики могут указать на, мягко говоря, странные и аномальные факты. Земство тратит около 28 процентов своих доходов на здравоохранение и благотворительные учреждения и около 15 процентов на народное образование, при этом на дороги и мосты выделяется лишь около 6 процентов, а до недавнего времени, как я уже говорил выше, вопросы усовершенствования сельского хозяйства и прямого увеличения доходов крестьянства оставались без внимания.
Прежде чем вынести приговор по этим обвинениям, надо вспомнить, в каких обстоятельствах было основано и выросло земство. В прежние времена в него входили люди с наилучшими побуждениями, но имевшие очень мало опыта в управлении или какой-либо практической деятельности, кроме как при старых порядках, в которых они прозябали раньше. Большинство достаточно долго прожило в деревне, чтобы знать, насколько крестьяне нуждаются в самой элементарной медицинской помощи, и поэтому сразу же взялись именно за этот вопрос. Они попытались организовать систему с врачами, фельдшерами и диспансерами, при которой крестьянину не приходилось бы преодолевать по 15–20 миль, чтобы перевязать рану и получить совет или простое лекарство от обычного недуга. Они также осознавали необходимость в коренной реорганизации больниц и психиатрических лечебниц, находившихся в весьма плачевном состоянии. Совершенно очевидно, что здесь им предстояла немалая работа. Кроме того, были и более высокие цели. В отсутствие практического опыта они чрезмерно увлеклись теориями. В частности, с энтузиазмом была воспринята теория о том, что в недостатке образования и заключается главная причина того, почему Россия так отстает от стран Западной Европы. «Дайте нам образование, – говорили они, – а уж к этому приложатся и все прочие блага. Освободите русский народ от уз невежества, как освободили его от оков крепостничества, и тогда со своими невероятными природными талантами он создаст все необходимое для своего материального, интеллектуального и нравственного благополучия».
Если среди ведущих деятелей земства кто-то придерживался более трезвого и прозаического взгляда на вещи, его называли невеждой и реакционером. Вольно или невольно всем приходилось плыть по течению. Про дороги и мосты не то чтобы совсем позабыли, но усилия в этой области ограничивались абсолютной необходимостью. Подобные прозаические дела не вызывали энтузиазма, и бытовало мнение, что в России строительство хороших дорог, как это понимают в Западной Европе, выходит далеко за пределы возможностей любой администрации. Мало кто осознавал потребность в таких дорогах. Требовалось только обеспечить возможность попасть из одного места в другое при обычной погоде в обычных условиях. Если река слишком глубока, чтобы перейти ее вброд, нужно построить мост или наладить паромную переправу; а если добираться до моста приходится по болоту или глубокой грязи, так что телеги и кареты вязнут в ней по самые оси и нужно звать подмогу из соседней деревни, чтобы вытаскивать их на веревках, то требуется принять соответствующие меры. А дальше этого старания земства шли редко. В вопросе дорог оно не строило далеко идущих планов.
Что касается обнищания крестьянства и необходимости улучшения системы земледелия, то этот вопрос едва поднимался над горизонтом. Возможно, когда-нибудь потом мы разберемся с этим, но никакой спешки нет. Как только деревенские жители получат образование, вопрос решится сам собой. Лишь в 1885 году проблема была признана более насущной, чем считалось раньше, и в некоторых земствах поняли, что народ может оголодать еще до того, как завершится его предварительное просвещение. Нередкие случаи массового голода заставили усвоить этот урок, а землевладельцы обнаружили снижение своих доходов из-за падения цен на зерно на европейских рынках. И тогда зазвучали громкие крики: «Сельское хозяйство в России в упадке! Страна вступила в острый экономический кризис! Если немедленно не принять энергичные меры, народ вскоре окажется перед лицом голода!»
К этим тревожным голосам земство не осталось ни глухим, ни равнодушным. Понимая, что опасность можно предотвратить, только если побудить крестьян перейти к более интенсивной системе земледелия, оно все больше внимания уделяло усовершенствованиям в сельском хозяйстве и старалось их внедрить. Иными словами, земство делало все, что могло, в пределах своих возможностей и скромных ресурсов. К сожалению, доступные ему ресурсы были невелики, поскольку правительство запретило ему повышать налоги, и оно не могло увольнять врачей и закрывать диспансеры и школы, когда народ требовал большего. Так, по крайней мере, утверждают защитники земства, и даже больше того: что земство правильно поступило, не боровшись с обнищанием крестьянства раньше, когда реальные условия проблемы и способы ее решения осознавались очень плохо – если бы оно начало действовать уже тогда, то неизбежно совершило бы много ошибок и зря потратило бы уйму денег.
Так или иначе, было бы несправедливо осуждать земских деятелей за то, что они не слишком опередили общественное мнение. Если они всеми силами стараются ответить на все ясно осознаваемые потребности, то большего от них и не следует ожидать. Более справедливым, на мой взгляд, был бы упрек в том, что они в известной степени проникнуты тем непрактичным духом педантизма, который, по распространенному мнению, свойственен исключительно государственным органам, но в земстве он всего лишь отражает общественное мнение и некоторые интеллектуальные особенности образованных сословий. Когда русский пишет на какую-то простую, повседневную тему, он любит связать ее с общими принципами, философией, историей и начинает, к примеру, с изложения своего взгляда на интеллектуальное и социальное развитие человечества вообще и России в частности. Если у него достаточно места, он может даже рассказать вам кое-что о раннем периоде русской истории до монгольского нашествия, прежде чем дойдет до простого вопроса, о котором и должна идти речь. В предыдущей главе я описал процесс «пролития на дело света науки» в государственных законопроектах. Но и в деятельности земства мы нередко встречаемся с подобной схоластикой.
Если бы эта схоластика ограничивалась составлением докладов, возможно, от нее не было бы большого вреда. К сожалению, она часто проявляется и в сфере действий. Чтобы проиллюстрировать свою мысль, я приведу пример из Нижегородской губернии. Земство этой провинции в 1895 году получило от центрального правительства некоторые финансовые средства на улучшение дорог с указанием из Министерства внутренних дел, что дороги следует разбить на категории в соответствии с их относительной важностью и вести работы согласно классификации. Любой разумный человек, хорошо знакомый с данным регионом, за неделю или за две составил бы такую классификацию с точностью, достаточной для любых практических целей. Вместо того чтобы действовать таким простым порядком, что же делает земство? Оно выбирает один из одиннадцати уездов, входящих в состав губернии, и поручает своему отделению статистики описать все деревни ввиду определения той доли дорожного движения, которая приходится на каждый населенный пункт в общем дорожном движении, а затем подкрепляет свои априорные данные тем, что выделяет отряд особых «регистраторов» и ставит их на всех перекрестках, где они стоят в течение шести дней каждого месяца. Эти регистраторы записывали каждую проезжавшую мимо крестьянскую телегу и прикидывали на глаз вес ее груза. По завершении этой сложной и затратной процедуры в одном уезде она проводилась в следующем; но по истечении трех лет, не успев даже описать все деревни второго уезда и оценить местное движение, отделение статистики совсем обессилело и, подобно молодому автору, которому не терпится увидеть свои строки в печати, опубликовало за государственный счет свой фолиант, который никто никогда не прочитает.
Неизвестно, сколько на все это потрачено денег, однако мы можем составить себе некоторое представление о том, сколько на всю эту операцию требуется времени. Простая задачка на пропорцию. Если на предварительное обследование полутора уездов ушло три года, сколько лет потребуется на одиннадцать уездов? Более двадцати лет! Видимо, в течение всего этого срока дороги должны оставаться в их теперешнем состоянии, и когда все-таки придет время их улучшить, окажется, что, если только губерния не пребывала в полном экономическом застое, столь «ценный статистический материал», собранный с такими временными и финансовыми затратами, почти весь устарел и никуда не годится. Следовательно, департамент статистики будет вынужден, подобно другому несчастному Сизифу, начать всю работу заново, и трудно представить себе, каким образом земство, если только оно не вернется на землю с небес, сможет когда-либо выйти из этого порочного круга.
В данном случае увлечение схоластикой привело к ненужному промедлению, пока тем временем накапливался капитал, если, конечно, проценты целиком не ушли на статистические изыскания; но бывают и куда более серьезные последствия. Приведу пример из просвещенной Московской губернии. Было замечено, что в некоторых деревнях особенно много больных, и местный врач указал, что тамошние жители обыкновенно используют для хозяйственных нужд воду из грязных прудов. Очевидно, жителям требовались хорошие колодцы, и практичный человек немедленно принял бы меры, чтобы их вырыли. Но не уездное земство. Оно сразу же превратило простое дело в «вопрос», требующий научного исследования. Была назначена комиссия для изучения проблемы, и после долгих размышлений было решено провести геологическое исследование, дабы определить глубину залегания хорошей воды во всем уезде – в качестве подготовки к составлению проекта, который когда-нибудь потом будет обсуждаться в уездном собрании, а может быть, и в губернском. Пока все это делалось в соответствии со строгими принципами бюрократической волокиты, несчастные крестьяне, в интересах которых проводились изыскания, продолжали пить мутную воду из грязных прудов.
Подобного рода случаи, которые я мог бы приводить до бесконечности, напоминают пресловутый китайский формализм; но между китайским и русским бюрократизмом есть существенная разница. В Среднем царстве практические соображения приносятся в жертву из преувеличенного почитания мудрости предков; в царской империи это происходит из-за преувеличенного поклонения перед богиней Наукой и привычки апеллировать к абстрактным принципам и научным методам, когда требуется лишь немного элементарного здравого смысла.
Отсутствие этого самого здравого смысла иногда проявляется с мучительной очевидностью во время дебатов в собраниях и придает оттенок нереальности всему происходящему. Помню, как-то раз на одном из уездных собраний в Рязанской губернии, когда обсуждался вопрос о начальных школах, встал один влиятельный депутат и предложил сразу ввести систему обязательного образования во всем уезде. Как ни странно, его предложение почти что приняли, хотя все присутствующие прекрасно знали или, по крайней мере, должны были знать, если бы поинтересовались, что имеющееся число школ нужно увеличить в двадцать раз, но при этом все были единодушны в том, что местные налоги нельзя увеличивать. Чтобы сохранить свою репутацию либерала, сей почтенный господин далее предложил не вводить, несмотря на обязательность этой системы, никаких штрафов, наказаний или иных средств принуждения. Он не снизошел до объяснения, каким образом можно сделать ее обязательной, не используя никаких средств принуждения. Один из поддержавших его предложил в качестве решения этой проблемы снимать крестьян, которые не будут отправлять своих детей в школу, с занимаемых ими постов в общинах; но это предложение вызвало только смех, так как многие депутаты знали, что для большинства крестьян это якобы наказание будет даром с небес. И пока шла дискуссия о необходимости введения идеальной системы обязательного образования, улицу под самыми окнами зала покрывал слой грязи чуть ли не в два фута глубиной! Остальные улицы находились в таком же состоянии; и множество депутатов постоянно опаздывало на заседания, потому что дойти пешком было положительно невозможно, а общественных средств передвижения в городе насчитывалось ровно одно. К счастью, у многих были свои личные экипажи, но даже на них ездить было отнюдь не легким делом. Как-то раз на главной улице у одного из депутатов перевернулся тарантас, а самого его выбросило прямо в грязь!
Едва ли справедливо сравнивать земство с более старыми аналогичными учреждениями Западной Европы и особенно с нашим местным самоуправлением. Все наши учреждения выросли из реальных, практических потребностей, остро ощущаемых значительной частью населения. Осторожные и консервативные во всем, что касается общественного благополучия, мы смотрим на перемены как на необходимое зло и оттягиваем этот черный день как можно дольше, даже если убеждены, что он неизбежен. Таким образом, наши административные потребности всегда опережают у нас средства их удовлетворения, и мы энергично применяем средства, как только получаем их в руки. Своеобразен и наш способ получения этих средств. Вместо того чтобы начинать с чистого листа, мы максимально используем то, что имеем в распоряжении, и добавляем лишь самое необходимое. Образно говоря, мы перестраиваем и расширяем наше политическое здание в соответствии с меняющимися потребностями нашего образа жизни, не обращая особого внимания на абстрактные принципы или непредсказуемые условия далекого будущего. Это здание может быть эстетически уродливым, не относящимся ни к одному из признанных стилей архитектуры и возведенным вопреки всем принципам теоретиков искусства, но оно хорошо приспособлено к нашим нуждам, и каждый уголок в нем обязательно найдет свое применение.
Совершенно иначе складывалась политическая история России в последние два столетия. Кратко ее можно охарактеризовать как серию переворотов, мирно осуществленных самодержавной властью. Каждый молодой и энергичный государь пытался открыть новую эпоху, полностью перекроив администрацию в соответствии с наивернейшей иностранной политфилософией того времени. Государственным органам не давали спонтанно вырастать из потребностей народа, их изобретали теоретики-бюрократы для удовлетворения потребностей, которых народ зачастую еще не осознавал. Таким образом, административная машина практически не получала импульса от народа и всегда приводилась в движение исключительно энергией центрального правительства. Учитывая все это, неудивительно, что неоднократные попытки правительства облегчить бремя централизованного управления путем создания органов местного самоуправления не увенчивались особыми успехами.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: