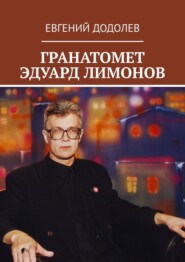скачать книгу бесплатно
Помню, когда весной 1989 года съемочная группа легендарного «Взгляда» приехала в редакционный офис на Калининском проспекте, ныне Новом Арбате (мы – редакция «Совершенно секретно» – располагались в бывшей конспиративной двухкомнатной квартире на предпоследнем этаже дома №22, где до этого опера встречались с тайными осведомителями и куда завербованные «валютные проститутки» приводили нужных интуристов), Иван Демидов, который уже тогда был не только режиссером-новатором, но и грамотным продюсером + негласным вождем, посоветовал мне в конце беседы сподвигнуть хозяина задымленного сигарным облаком кабинета на его «любимый анекдот про Штирлица».
Кадр из фильма.
Я, разумеется, ответствовал ухмылкой Мюллера-Броневого: ванина просьба была из категории «миссия невыполнима». Автор не любил анекдоты про красного штандартенфюрера. Мастеру пера казалось, что скабрезные шутки про Штирлица нивелирует подвиг разведчика. И никак Юлик не готов был признать, что этот феномен лишь свидетельствует о всесоюзной популярности героя. Юлик = это вовсе не фамильярность, это любовное прозвище главреда, именно так за глаза мы все его и звали.
К вопросу о Штирлице, писателя упрекали в невольной романтизации того, что на Западе величают Nazi Chic, а у нас с подачи кремлевских политтехнологов, атаковаших Лимонова, обозвали «гламурным фашизмом»: SS-форма была весьма к лицу Вячеславу Васильевичу Тихоновну и на ч/б телеэкранах смотрелась впечатляюще, что неудивительно, ведь эсэсовкие мундиры производил член нацисткой партии Хьюго Босс (Hugo Boss), костюмы которого и поныне украшают прилавки лучших магазинов мира, от московского ЦУМа до нью-йоркского Saks Fifth Avenue.
Впрочем, упреки закономерны, мятежного Юлика всегда одолевали многочисленные завистники, которые не могли простить глобального успеха сочинителю, который, в отличии от них, не прогибался под Систему, а сумел ее обхитрить, победить сумел.
Ему, одному из немногих удалось.
Поэтому сейчас, когда Семенов ответить не может, тусклые КГБ-функционеры охотно рассказывают, как они снабжали яркого писателя материалами и в этих рассказах зашифровано очевидное послание: «он был с нами, он был наш, мы были вместе, общее дело делали». Так лубянским хочется прислониться, рядом помаячить.
Однако, как справедливо заметил Александр-Борисыч Градский, «сколь не рисуй себя с великими – не станешь лучше рисовать». Один из коллег, стоявших рядом с гробом Семенова, сейчас, снисходительно улыбаясь, объясняет телевизионщикам, что, Юлиан, мол, не столько искал «Янтарную комнату», сколько использовал эти поиски как предлог для своих частых загранкомандировок.
Но не объясняет при этом почему погибли нескольких партнеров по этому журналистскому расследованию: первый заместитель начальника ГРУ генерал-полковник Юрий Гусев, исследователь Пауль Энке и бывший эсэсовец Георг Штайн (последний по версии следствия «сделал себе харакири» после пыток).
В Ялте.
А еще писателя Семенова подозревали в использовании «литературных негров»: ведь всякий судит по себе и немногие способны «выдавать на гора» по несколько страниц в день (Юлиан Семенович мог за пару недель сочинить роман, он писал быстрее, чем иные читали).
В документальном фильме Алевтины Толкуновой «Рассказы об отце. Юлиан Семенов глазами дочери» (канал «Россия 24», октябоь 2011) Ольга Семенова впервые сказала публично: ее отца фактически устранили. С Юликом случился инсульт за час до очень важной встречи (об этом ниже). Забавно, что Семенов не проявил в свое время энтузиазма по поводу публикации в «Совсеке» интервью с генералом КГБ Олегом Калугиным, в котором опальный чекист рассказывал о спецлаборатории, где разрабатывались технологии моментального провоцирования инсультов, инфарктов, кожных нарывов и прочих прелестей (про плутоний тогда речи не было).
Я настаивать не стал и опубликовал ту беседу в «Неделе». Отчасти и потому что Семенов тогда был не в восторге от только что напечатанного в его газете «антиармейского материала», сочиненного мной в соавторстве с Денисом Гореловым. Он говорил, что критиковать спецлужбы и армию это значит «мешать Горбачеву» и был, как я сейчас понимаю, абсолютно прав, хотя в тот момент мне и казалось, что Юлиан Семенович просто не хочет осложнять свою (распиаренную им же самим) «дружбу с Лубянкой», которую использовал и для писательской своей работы и для грамотного манипулирования Административно-командной системой, которую ненавидел люто.
На самом деле я помню, что сделал он больше, чем написал. Ну, например, в контексте данного повествования – вернул в СССР писателя Эдуарда Лимонова. Потратив собственные $$$ и нервы. В нем был силен дух фронды, хотя многие пытаются ныне рисовать его певцом & партнером Лубянки на основании того, что он был допущен к архивам КГБ лично шефом тайной полиции Андроповым. В начале 1989 года Юлиан на свой страх и риск опубликовал в проекте «Детектив и политика» два лимоновских рассказа: «Коньяк Наполеон» и «Дети коменданта» и лично вручил автору-эмигранту экземпляр во время очередного визита в город Парижск, где живет со своим французским супругом его дочь Ольга. Правда, вместо благодарности мы получили истерику + наезд: Лимонов устроил разборки на предмет редактуры. Не цензуры, а именно пресловутой «работы с текстом».
ЦДЛ, 80-летие Юлиана Семенов: Додолев, дочь писателя Ольга, его внук, Лиханов.
Mea culpa и только моя. Дело в том, что первый заместитель главреда «Совсека» Саша Плешков занимался серьезными делами, включая все финансово-хозяйственные разборки, а мне поручено было заниматься кастингом. И я собирал штат нашей первой частной советской редакции, как мог.
Из своей репортерской альма-матер «МК» пригласил Пастернака (однофамилец) и Светлову (то же самое), а из журнала «Смена», где трудился до основания «Совершенно секретно», позвал ответсека Борю «Бобика» Данюшевского. Борис был грамотным портфелесоставителем, но…
Помню «сменовский» эпизод. Захожу с заметкой про бит-квартет «Секрет» в кабинет ответсека и вижу взмыленного Данюшевского. Интересуюсь – в чем дело? Да вот, раздраженно отвечает, по разнарядке из ЦК ВЛКСМ надо срочно в номер рассказ поставить, а там редактуры невпроворот. Показывает мне рукопись. Живого места нет, массивные правки в каждом абзаце. Напомню, компов не было, правили ручкой и отдавали в машбюро для повторного набора. После корректуры – то же самое.
Ну да ладно.
Беру титульный лист, чтобы понять что за автора слили нам комсаки (по-моему курировал печатные СМИ тов. Орджоникидзе). Вижу: Фазиль Искандер. Давясь от смеха, иду к Мише Кизилову. Главный редактор «Смены» спас творение абхазского классика от редактуры «Бобика»; Лимонову не повезло.
По забавному стечению обстоятельств именно с Эдиком 20 апреля 1990 года позавтракал в Париже Плешков, который был отравлен во время ужина с главным редактором влиятельнейшего в ту пору французского еженедельника VSD. Через пару недель выбыл из строя и сам основатель «Совершенно секретно»: два инсульта подряд, причем последний – после ночного визита в неохраняемую палату двух таинственных посетителей в штатском.
Режиссер Борис Григорьев, снявший четыре фильма по сценариям Семенова, среди которых «Петровка, 38» и «Огарева, 6» в интервью киевскому проекту Виталия Коротича «Бульвар Гордона» в октябре 2011 года отметил:
– Конечно, мы смертны, но с болезнью и смертью Семенова не все чисто – мне кажется, ему просто помогли уйти. Юлиан многим переходил дорогу, многим был неудобен, потому что лез в такие сферы, в которые его не хотели пускать. К тому же у него была какая-то нечеловеческая, клиническая память, особенно это касалось документов. Ему достаточно было один-два раза прочесть любую бумагу, чтобы запомнить ее наизусть. Он помнил все – даты, факты, лица, фамилии. Причем сам этому удивлялся, говорил: «Что ни увижу, все запоминаю раз и навсегда». Очевидно, были люди, которые боялись, что однажды он сопоставит известные ему факты и сделает единственно правильные выводы. А делать их Семенов умел. У него, например, была своя теория убийства президента Кеннеди, очень, кстати, оригинальная, которую он обсуждал с людьми из КГБ. Кто знает, возможно, она была верна?.. Юлик был очень здоровым человеком, поэтому обширный инсульт, который с ним якобы случился, внушает мне большие подозрения. Конечно, это только мои ощущения, я не врач, и никаких доказательств у меня нет.
Кармен и Семенов, 70-е.
В помянутом юбилейном фильме Алевтины Толкуновой есть эпизод: создатель Штирлица встречается с поклонниками в концертной студии «Останкино» (1983). Семенов говорит, что писатель не может не быть политиком. Чтобы он сказал, увидев как именно и во что конвертировал свой литературный дар его креатура Лимонов?
Риторический вопрос.
Юлиан был светлым и наивным романтиком, совершеннейшим ребенком, «верившим в социализм с человеческим лицом». Несмотря на все свои «мажорские» (по дефиниции неблагодарного & неблагородного Лимонова) понты: гаванские сигары, клетчатые пиджаки, цепочку на щиколотке, бороду а-ля Хэм.
Юлиана Семенов можно смело называть великим русским писателем, хотя бы потому, что его Максим Исаев навсегда вошел в нашу культуру, а один из президентов Новой России Владимир Путин даже проговорил, что учился жизни по разведчику Исаеву. В школах, правда, Семенова не преподают и именем его улиц не называют, но это и неудивительно – Юлиан Семенов не был человеком Системы.
И примером своей жизни доказал, что успеха можно добиться не прогибаясь под изменчивый мир, а прогибая его под себя (© Макаревич). Показал и более существенную вещь – перед сильными мира сего не обязательно пресмыкаться, – ими можно успешно манипулировать в интересах державы.
Короче, с ним случился инсульт. За 52 минуты до встречи, которая бы внесла существенные коррективы в историю отечественной медиа-индустрии. Мы вместе со знаменитым британским документалистом Оливией Лихтенстайн в эти дни снимали ленту о Семенове для BBC ONE, где уже были отэфирены фильмы (из той же серии Comrades) про стебальщика-музыканта Сергея Курехина и бизнесмена-офтальмолога Святослава Федорова.
Додолев и Семенова во время работы над фильмом Толкуновой, Франция, 2011.
И остались записи с сотрудниками больницы. Зафиксировано: ночью после инсульта в палату пришли двое. И после этого визита, вызвавшего «повторный инсульт», Юлиан уже не мог говорить. Его не стало. Видеоматериалы у Оливии пытались изъять на таможне во время ее возвращения в Лондон, вопрос разруливали в посольстве Соединенного королевства, которое тогда, как помню, располагалось на Софийской набережной.
Родные писателя только сейчас открыто заговорили об убийстве. Закономерен вопрос – почему молчали раньше? Я могу ответить лишь за себя. И, возможно, за некоторых коллег по «Совсеку». Версия об устранении писателя однозначно бросала тень на нашего товарища, Артема Боровика, который незаконно унаследовал и «Совершенно секретно», и мастерскую писателя в центре Москвы, ключи от коей вручил ему при жизни сам Семенов, когда Артем пожаловался, что им с Вероникой негде жить. То есть сторонний наблюдатель может узреть пресловутый мотив.
И это абсолютно несправедливо, потому что Боровик-младший никаким образом не мог быть причастен к такому делу, все кто его знал, это скажут без колебаний. Одно дело, переписать уставные документы («бизнес это война» любит повторять Саша Любимов, чей отец-разведчик с моей подачи дебютировал как писатель именно в «Совсеке»), другое – ввязаться в авантюру с покушением.
До этого писали только об убийстве в Париже первого заместителя главреда «Совсека» всего за пару недель до загадочного инсульта, заставившего самого главного редактора замолчать до самого дня кончины.
Напомню, Плешков был отравлен во время трапезы с главным редактором влиятельнейшего в ту пору французского еженедельника VSD. Как мне рассказал мой соавтор Франсуа Моро (в начале 90-х мы написали несколько книг для издательства Mercure de France, включая Les coulisses du Kremlin), который, собственно и был связным Юлика во Франции, – местные спецслужбы сделали однозначный вывод об отравлении советского журналиста и передали материалы своим московским коллегам.
Как-то случайно встретился (на выставке работ Михаила Королева) с Александром Плешковым-младшим, который был студентом, когда его отец рулил «Совсеком». Саша сказал, что они с матерью так и не получили документы на руки, но не сомневаются, что все трое членов редколлегии (включая Александра Меня), которые тогда погибли, знали нечто про «золото партии». Не то «золото партии», которым занимался Штирлиц. Не той партии. Партии, членом которой, в отличии от своих оппонентов, не был Юлиан-Семенович.
Еще раз: он выбыл из строя всего за час до подписания масштабного контракта с представителем Руперта Мердока Джоном Эвансом), который вывел бы советский холдинг «Совершенно секретно» на мировой медиа-рынок.
«У меня предстоят переговоры с газетно-телевизионной группой австралийского миллиардера Мэрдока; его штаб утверждает, что у Вас с ним намечены беседы в Вашингтоне во время встречи с Бушем. Был бы очень признателен, если бы Вы поддержали совместный проект „Совершенно секретно“ – Мэрдок. Дело стоящее, за ним – миллиарды» – так заканчивается письмо писателя президенту СССР Михаилу Горбачеву. Последнее письмо. Последние строки написанные Семеновым. Тем, кого запомнили не медиа-магнатом, коим он не успел стать. Тем, кто остался в памяти соотечественников создателем Штирлица. Героя, сумевшего выжить в режиме «чужой среди чужих».
«Но был там Саша Плешков-младший…».
А что касается Лимонова, то он, вообще говоря, открылся для меня с новой стороны во время юбилейного вечера памяти Семенова (10 октября 2011) в ЦДЛ. Хотя его там не было. Но был там Саша Плешков-младший, сын убитого семеновского зама. И он, когда сели мы за стол помянуть усопших в «Арт-кафе», рассказал, что после смерти отца на него вышел Эдуард и предложил осиротевшему парню (ему тогда было всего 19) стать его литературным агентом в России.
То есть фактически расписался в готовности оказать финансовую помощь. Сказал, что объяснит подробно, что да как, научит и покажет.
Саша тогда этого не понял и отказался.
Но потом, post factum оценил лимоновскую оферту.
3 1/2 ИНТЕРВЬЮ
Здесь три с половиной интервью, потому что одну из четырех «нововзглядовских» бесед Лимонов записал… сам с собой!
«НЕ ПУТАЙТЕ МЕНЯ С ЛИМОНОВЫМ»
ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ «НОВОМУ ВЗГЛЯДУ» (1992)
Имя Эдуарда Лимонова в первую очередь ассоциируется с отголосками какого-то скандала. Где-то что-то краем уха слышали: не то он гомик, не то шизик, не то засланный за бугор агент Кремля. Хотя журнал «Знамя» еще в 1989 году опубликовал его роман «У нас была великая эпоха», куда более известна вышедшая в России в конце 91-го года книжка «Это я – Эдичка», выдержавшая за четыре месяца четыре издания общим тиражом около миллиона экземпляров. А уж в «Эдичке» натуралистически выписанных сексуальных сцен, отборного русского мата, с помощью которого предпочитает изъясняться главный герой, – в избытке. Это, понятно, тоже работает на создание имиджа Лимонова – этакого смутьяна и скандалиста.
…Дверь гостевой квартиры в доме на Герцена открыл седеющий мужчина среднего роста. Галантно помог избавиться от верхней одежды, предложил разуться: «У меня туфли чистые, а вы с улицы. Если бы вы были сегодня единственными гостями, а то ведь еще люди придут. – И добавил, словно извиняясь. – Кстати, в Швеции тоже в квартирах обувь снимают». Леша Азаров, фотокорреспондент, попытался что-то спросить: «Эдуард… э-э, извините, как ваше отчество?» Ответ последовал без задержки: «Амвросиевич». Пока Леша приходил в себя, я решил перехватить инициативу:
– А действительно, какое обращение вы предпочитаете – господин, товарищ, сударь?
— Мне больше нравится собственное имя – Эдуард.
ДЕТСТВО БОСОНОГОЕ МОЕ
– Родился я в 43-м году в Дзержинске Горьковской области. Отец мой был тогда солдатом, позже, окончив военную школу, стал офицером. Году в 47-м мы осели в Харькове. Я пришел в сознание в рабочем поселке, там провел детство, отрочество, юность. В 9 лет я уже убегал из дома, в 15 начал воровать. Чудом не загремел в тюрьму, с превеликим трудом закончил десятилетку. Это было нормально, типичная судьба пацана с окраины большого индустриального города. Дорога вела на завод или за решетку.
В институт попали единицы.
Поскольку я к ним не принадлежал, то оказался на заводе. Работал монтажником-высотником, потом сталеваром в литейном цехе, ну и так далее…
– В пока не изданном в России романе «Подросток Савенко» вы описываете Харьков 58-го года, рассказываете, как вместе с местной шпаной «бомбили» магазины, разбойничали. Причем в ваших устах это звучит совершенно естественно, будто речь об игре в футбол или походе в кино.
— Я в самом деле не вижу в этом ничего удивительного. Повторю, гораздо более странно, что не угодил в тюрягу, хотя, например, мой приятель Костя Бондаренко в 62-м году получил высшую меру наказания. Понимаете, для нас это были не преступления, а доказательства доблести. Началось все с того, что вместе с дружком Вовкой Боксером я высадил витрину магазина и украл деньги, спиртное. После такие набеги стали повторяться. Мы совершенствовались, превращались в мастеров. Этим занятием я пробавлялся до 20 с лишним лет. Уже работал на заводе, даже на заводской доске почета висел. Видно, одно другому не мешало.
– А с правоохранительными органами у вас не было проблем?
— По мелочам. Конечно, стоял на учете в милиции, как все нормальные люди, получал по 15 суток. Подростком я много пил, меня несколько раз подбирали на улице, приносили домой мертвецки пьяного. Я считал, что мужчина должен уметь надираться. По субботам мы ходили в самый большой ресторан города «Кристалл» и выпивали по 800 граммов коньяка… А что? Я и сейчас выпью шестьсот без проблем, но алкоголиком, как видите, не стал.
ЗАВОЕВАТЕЛЬ МОСКВЫ
– Эрнст Неизвестный рассказывал мне, что в конце 60-х вы шили ему штаны, что какое-то время подрабатывали портным.
– Абсолютная правда. Перебравшись в 67-м году в Москву, я оказался без средств к существованию. Я ведь в Харькове не только коньяк попивал и магазины грабил, но и с 15 лет стихи писал. Прослышав, что в Москве существует СМОГ – Союз молодых гениев, рванул в белокаменную. Поэзия поэзией, но жить-то на что-то надо было. А у меня московской прописки нет, кто же без нее на работу возьмет? Вот и шил брюки. Научился этому совершенно без чьей-либо помощи, сам. Я никогда не стремился заработать много. Лишь бы хватало на еду да была тридцатка за комнату. Семь московских лет, пока меня не выставили из страны, были тяжелыми. Сегодня я вспоминаю их в романтическом ореоле, хотя моя первая жена Анна, она делила со мной все эти трудности, в конце концов психологически сломалась, долго лечилась, а в 90-м году покончила с собой, выбросилась из окна.
– Ради чего вы терпели эти лишения?
– Искусство превыше всего. Я ел состоявшие почти из одного хлеба микояновские котлеты по 60 копеек за десяток и мечтал о славе.
За первую московскую зиму я похудел на 11 кило. Я несколько месяцев простоял у дверей Дома литераторов, чтобы попасть на семинар Арсения Тарковского. Меня не пускали, гнали, но я все-таки попал.
Правда, выяснилось, что Тарковский абсолютно бездарный учитель, его лекции не представляли никакого интереса, более того, он не давал нам свободно читать стихи. А я ведь ехал в Москву, чтобы меня услышали. Словом, я устроил на семинаре восстание…
– Значит, вы не считаете Тарковского своим учителем?
— Нет, конечно. Им был скорее Евгений Крапивницкий, с ним я очень-очень дружил.
– Сегодня вы поэзию оставили?
– Да, совсем.
Кстати говоря, то увлечение России поэзией было архаично, в ту пору молодежь всего мира жила уже другим рок-н-роллом.
Я – САВЕНКО
– Оказавшись в 74-м году на Западе, вы поставили перед собой цель зарабатывать на жизнь писательским трудом. Вслед за «Эдичкой», рассказывающим о ваших мытарствах в Нью-Йорке, вы издали, если не ошибаюсь, еще 12 книг, героем большинства которых являетесь вы сами. Чем вызван такой повышенный интерес к собственной персоне?
— Надо определиться, что считать автобиографическим произведением. Главное действующее лицо моих книг – Лимонов. Но ведь такого человека не существует в природе. По паспорту я Савенко Эдуард. Точка.
А Лимонов, значит, это и герой, и автор. Автобиографические приемы были важны для меня при показе эпохи, среды.
Например, в романе «У нас была великая эпоха» маленький сын лейтенанта Эдик только предлог, чтобы показать время конца 40-х.
А «Молодой негодяй» – это Эдичка в Харькове 60-х. Понимаете, страна через героя, это эпопея.
– Кстати, почему Лимонов?
— Это родилось из литературной игры, дело происходило в Харькове, мне был 21 год. Мы с приятелями называли себя… как это называется по-русски?.. искусственными фамилиями.
Кто-то стал Буханкиным, кто-то Одеяловым, я стал Лимоновым. Так ко мне и прилипло, превратилось в кличку, второе «я» быстро вытеснило первое. Привыкли все, я в том числе. Так и осталось, сегодня поздно уже избавляться.
Но если бы мне не нравилась фамилия отца, я мог бы взять материнскую – Зыбина. Так что дело не в этом.
– Читатели меня не поймут, если я не спрошу вас о роли нецензурных выражений в вашем творчестве.
– Мат – нормальное средство характеристики героев.
Во всех языковых стихиях подобные революции произошли в 30-е годы. Вспомните хотя бы «Тропик Рака» Миллера.
Нечто похожее ожидало бы и Россию, но Советская власть со своим пуританизмом затормозила процесс.
Мат – это колоссальное оживление языка.
– Значит ли это, что вы таким же образом оживляете и собственную разговорную речь?
— Нет, я вежливый человек, ко всем обращаюсь на «вы». Но если меня обматерят, я отвечаю тем же.
– Тем более удивительно, что вы решили нарушить табу и напечатать непечатное слово.
— Знаете, мне неоднократно предлагали издать «Эдичку» с многоточиями на месте матерных выражений.
Я отказывался и рад, что сегодня удалось сломать барьер.
Для меня мат – не самоцель. В большинстве моих книг вы не встретите ненормативной лексики.
В «Эдичке» же показан человек в стесненных обстоятельствах, в глубоком кризисе, на дне жизни. Естественно, что он прибегает к крепким выражениям.
И чтобы упредить возможные вопросы, повторю еще раз: не следует отождествлять меня с Эдичкой.
Я не ругаюсь в обществе женщин, я не наркоман и не гомосексуалист. Я семейный человек. Последние 10 лет живу во Франции с женой Натальей Георгиевной Медведевой.
СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ…
– Как вы устроились в Париже?
— Мы обосновались на крыше дома в старой части города, почти в центре.
– На крыше?