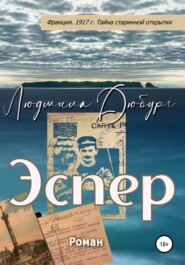скачать книгу бесплатно
И потому, друзья, вперед, точнее, назад, к ним, к тем, кто смотрит на нас с черно-белых фотографий. Выправка, холеные руки, сложенные на коленях, точеные лица, глаза с прищуром. Кажется, сейчас оживут: встанут, потрут ладони и насмешливо спросят своих потомков: «Ну-с, братцы, рассказывайте. Что вы тут натворили?»
* * *
Итак, начинаем. За два года до октябрьского переворота отношения между Францией и Россией были на пике дружбы. Подтверждением станет созданная непосредственно на линии Западного фронта служба санитарной помощи России: Les Ambulances russes aux Armеes Fran?aises. Санитарные отряды России во французской армии – абсолютно неизвестная страница истории Первой мировой войны.
В марте 1915 года колонна из двадцати санитарных автомобилей торжественно, под гимн России, выстроилась на площади Инвалидов в Париже. На каждом автомобиле надпись: «Ambulance Russe de S. M. Imperatrice Alexandra Feodorovna de Russie», в переводе – «Русский санитарный отряд ее величества Александры Федоровны, императрицы России». Начало положено: Россия отправила Франции первую помощь. Это вам не дипломатические папирусы, увенчанные вензелями! Щедрый вклад был сделан августейшей императрицей, той самой Аликс, которой здорово достанется через два года от революционеров всех мастей.
Санитарные автомобили поступают в распоряжение армии под командованием французского генерала Langle de Cary[10 - Фернан Лангль де Кари – 04.07.1849 – 19.02.1927. Французский военный деятель, дивизионный генерал.]. Колонна автомобилей скорой помощи проследует в сторону русской церкви на улице Дарю, где пройдет торжественный обряд освящения. Пресса опубликует репортажи и фото знаменательного события.
Медицинский персонал полевых госпиталей, операционных блоков состоял большей частью из французских врачей. Но возглавил санитарные отряды Les Ambulances russes полковник Дмитрий Ознобишин[11 - Дмитрий Иванович Ознобишин – 08.08.1869–1956. Помощник военного атташе во Франции. Дипломат, художник.] – блестящий русский офицер и известный художник, ставший еще до войны центром парижской творческой элиты.
В числе друзей и поклонников Ознобишина были известные журналисты, писатели, артисты, художники. Некоторые из них в знак ли солидарности, или по иным причинам поддержали своего лидера, записавшись в службу санитарной помощи России. Тот же вопрос: зачем? Зачем им-то? Богатым, знатным, знаменитым? Талантливым! Можно гадать, предполагать и даже подозревать! Однако историческая реальность такова, что творческая интеллигенция сменила богемные места на траншеи, промозглые бункеры и продуваемые палатки. Подобный шаг стал своеобразным тестом, определившим значимость представителей культуры не только в эстетических результатах их деятельности, но прежде всего – в нравственных.
Предоставим историкам разбираться в том, что двигало французами в момент, когда их страна находилась в состоянии военного конфликта. Что же до выходцев из России – тех, кого война застала во Франции, – выбор был. Или встать на защиту граждан страны-союзника, или уехать в Россию. Или – ни то ни другое. Элементарно отсидеться. Большинство выбрали первое. Основной костяк санитаров, механиков-водителей санитарных отрядов службы Les Ambulances Russes, находящейся в составе французской армии, был представлен именно урожденными русскими, причем теми, про которых говорили: элита. В то далекое время это слово воспринималось в своем первозданном значении, без оттенков презрения и сарказма: лучшие. Они рисковали жизнью, спасая французских, а позднее и русских солдат. Подвергали себя газовым атакам, терпели все лишения военного времени.
По-разному, очень по-разному, сложатся судьбы этих людей. Дмитрий Ознобишин, убежденный монархист, окажется в конечном итоге опасным и для Временного правительства, и, еще больше, для большевиков. Он, чьими личными усилиями была создана служба, прославившая Россию, показавшая ее гуманитарную роль в этой тяжелейшей войне XX века, больше не вернется на родину. Объятой революционным угаром России 1917 года будет, увы, не до тех, кто бросился – или кого бросили – спасать и защищать союзников.
1916 год. Франция – Россия. Годом позже
Держимся, держимся, друзья! Исторический экскурс продолжается, но вы уже в середине пути! Санитарные автомобили, подаренные Франции Россией, были лишь прологом к последующим событиям. Терпеливо листаем страницы истории дальше. Вслед за санитарными автомобилями на Западный фронт отправятся бригады Русского экспедиционного корпуса (РЭК).
Майи-ле-Кан, регион Шампань-Арденн – здесь будет место их дислокации. Но у потомков тех, кто прошел маршем по Елисейским полям, слово «шампань» не вызывает грустных эмоций. Через сто лет после событий о Русском экспедиционном корпусе императорской армии знают немного и, за исключением специалистов-историков, немногие. Во Франции и, еще меньше, в России. А посему упреки в забвении адресовать некому.
Вот что пишет Сергей Оболенский, президент Ассоциации памяти Русского экспедиционного корпуса во Франции: «Роль Российской Империи в Великой войне известна сравнительно мало и заслуживает краткого напоминания. В 1891 году, в царствование Александра III, Россия и Франция обязались оказывать взаимную помощь в случае агрессии со стороны третьей державы. Император Николай II подтвердил этот союз во время пребывания во Франции в 1896 году, а президент Феликс Фор – в ходе визита в Россию в 1898 году. В соответствии с планами союзников (…) в августе 1914 года Россия, еще даже не закончив мобилизацию, начала наступление в Восточной Пруссии. Это вынудило немцев перебросить два армейских корпуса на восток, но привело к большим потерям среди русских войск»[12 - Gеrard Gorokhoff, Andrei Korliakov „Le corps Expeditionnaire Russe en France et Salonique 1916–1918“, Ymca-Press, Paris, 2003, стр. 8.].
Несмотря на тяжелые потери, наступивший 1916 год не предвещал будущих еще более трагичных, переломных событий. Две страны, Россия и Франция, продолжают активно обмениваться визитами и намерениями. На высочайшем уровне ведутся переговоры: союзники просят помощи, ссылаясь на договоренность о взаимной поддержке. Стоит вспомнить, что шестнадцать лет назад, в 1900 году, одним из символов франко-русского союза стал красивейший парижский мост Александра III, заложенный его сыном, будущим императором Николаем II. Если бы в дипломатических отношениях для подтверждения дружбы можно было ограничиваться только мостом или мостами, скольких жертв, ошибок можно было бы избежать и сколько мостов построить… Увы…
Франция, индустриально преуспевшая больше, нежели Россия, обладала на момент начала войны более современным оружием. У России, как всегда: безграничные человеческие ресурсы. Практичные потомки Наполеона это прекрасно знали. Результатом длительных и непростых переговоров французских властей с Николаем II станет отправка во Францию двух бригад – первой и третьей – в составе Русского экспедиционного корпуса. В общей сложности, защищать страну-союзника Францию отправятся двадцать тысяч русских солдат и офицеров. Отметим, кстати, что французы просили помощь в размере четырехсот тысяч человек!! Взамен обещали обеспечить оружием и доставку русских войск на кораблях французского флота. Еще две бригады – вторая и четвертая – уедут на салоникский фронт.
Жесткая арифметика. В историю эта договоренность – разумеется, не афишированная, спрятанная за пафосными речами, так и войдет: люди в обмен на оружие. Готовность участвовать в тяжелейшей и абсолютно непредсказуемой миссии проявили люди грамотные, с опытом воинской службы, уже отмеченные наградами. Это были лучшие из лучших: кадровые офицеры, солдаты, причем не только молодые призывники, но и из запасных батальонов. Крестьяне, рабочие в мирной жизни, они, по сути, приняли самостоятельное решение отправиться в страны, понятие о которых имели весьма смутное. Что ими двигало? Некоторая авантюрность, видимо, присутствовала, но все же в большей степени определяющим фактором и для солдат, и, тем более, для офицеров стала именно верность присяге. Помощь союзнику воспринималась как долг, и не важно, каким образом и на какой территории он должен был быть исполнен.
Отправка первой бригады в количестве восьми тысяч человек была намечена на начало февраля 1916-го, високосного года. Сначала – в поездах через всю Россию до Маньчжурии. Тридцать тысяч километров (!) в тесных душных вагонах, замаскированных на отдельных участках дороги, дабы не вызвать никаких подозрений для возможной передачи информации противнику. Спустя почти месяц пути по Транссибирской магистрали первая бригада прибывает в порт Дайрен[13 - Дайрен – город под названием Дальний был основан русскими в 1898 году на территории, полученной Российской империей во временную аренду от Китая по конвенции 1898 года. Порт, построенный русскими инженерами, отличался новациями и был одним из самых современных в регионе Охотского и Южно-Китайского морей. Во время русско-японской войны был захвачен Японией и переименован в Дайрен. В августе 1945 года был освобожден советскими войсками. В 1950 году безвозмездно передан правительством СССР Китаю. В наст. вр.: Далянь, северо-вост. часть Китая.]. Короткий отдых, и все на борт!
«Дайрен, порт в Маньчжурии, 29 февраля 1916 года. Несколько пароходов под французским флагом стоят на якоре у бесконечного причала с пакгаузами. Дует холодный ветер, природа угрюма, тихо плещется свинцовая вода. На горизонте вздымаются голые сопки Маньчжурии. Люди в серых шинелях, с обнаженными головами, застыли в шеренгах. Несколько японских офицеров со скрытым интересом разглядывают их. И вдруг над строем величественно и мощно раздаются слова, повторяемые тысячеголосым хором: „Отче наш, иже еси…“ Люди читают молитву истово, им предстоит далекое и необычное путешествие (…) их ожидают события, не похожие на все пережитое доныне»[14 - Gеrard Gorokhoff, Andrei Korliakov „Le corps Expeditionnaire Russe en France et Salonique 1916–1918“, Ymca-Press, Paris, 2003, стр.12.].
Да-а… Без длинных речей. Просто, по-крестьянски, и потому волнует. Наконец слышен прощальный гудок пароходов, печально и призывно извещающий: уходим… Солдаты и офицеры, стоящие на палубах, еще не знают, что для многих из них чужие земли станут последним пристанищем. Морское путешествие продлится почти два месяца – пятьдесят восемь дней! На смену минусовой температуре Дайрена придет палящее солнце. Родные просторы, березы, метели и свист в печной трубе останутся в воспоминаниях. Их ждут закаты чужеземных морей, сухой ураганный ветер, теснота в трюмах, болезни. Пройдя путь «…под раскаленным небом Юго-Восточной Азии, через Гонконг, Сингапур, Коломбо и Порт-Саид, (…) Суэцкий канал, 20 апреля первые корабли прибыли наконец в Марсель»[15 - Gеrard Gorokhoff, Andrei Korliakov „Le corps Expeditionnaire Russe en France et Salonique 1916–1918“, Ymca-Press, Paris, 2003, стр.12.].
Исторический французский город-порт станет точкой прибытия трех оставшихся бригад, которые отправятся из Архангельска до Бреста, и далее – в Марсель. Путь, несколько короче по продолжительности, чем совершенный первой бригадой, будет столь же опасным и тяжелым. Первая и третья бригады войдут в состав французских подразделений, вторая и четвертая – отправятся на салоникский фронт. Сорок пять тысяч молодых мужчин. Набирали рослых, сильных, выносливых, чтобы окончательно сразить союзников, доказав силу, мощь и героизм русской императорской армии. Отбирали красавцев. Больше половины из них никогда не вернутся домой. Ни-когда.
«Одиссея», столь героически, великодушно начатая, закончится плачевно и унизительно. Спустя три года, проведенных на чужбине, после скитаний и унижений, многочисленных согласований на дипломатических уровнях, отчаявшиеся и ожесточившиеся, они все же вернутся в Россию. Но не все. Многие в лучшем случае обретут вторую родину: Францию. В худшем – умрут во французских крепостях-тюрьмах от эпидемий и болезней, погибнут на каменоломнях в северной Африке. Канут в вечность. Таковой окажется цена «шкуры мужика, обменянная на винтовки»[16 - Слова из песенной баллады Michel Dinocеra и Hеl?ne Ohier „Au mutins de la Courtine“: „…Boucherie de 14/18 echangеs contre des fusils, combien vaut la peau d’un moujik“.].
У первых начнется новая жизнь, счастливая или не очень, но – жизнь. У вторых появятся могилы с надписью «погиб за Францию». Или и того проще – без всякой надписи, лишь с указанием даты смерти: умер тогда-то. Потомки первых будут носить странные фамилии, оканчивающиеся на «-фф»: Rogoff, Noskoff, Pavloff, Yakoucheff. Вторых ожидают скромные цветочки в День всех святых и полное забвение на родине. На военно-морском кладбище в Рошфоре лягут они ровной линейкой под могильными плитами рядом с бывшими противниками. Русские солдаты Филипп Новиков, Иван Беляков, Михаил Анисимов и немецкие гренадеры Отто Воллерт и Отто Шедеман уснут навеки. Их разделит расстояние пять-десять метров. Немногим меньше, чем в той траншейной войне. Только вместо ружейных стволов будут мирно смотреть друг на друга кладбищенские кресты – восьмиконечные православные и четырехконечные католические. Рано утром птицы огласят веселым звоном грустное место встречи, приветствуя новый день.
Все будет потом. Потом! Пока же – фанфары, цветы, возвышенные слова о братстве навеки, слезы гордости. И – любовь. Впрочем, фанфары ей только мешали.
Глава 3. Весна 1917 года. Майи – Реймс – Париж. Эвакуация
И любовь. Уф-ф! Дождались! В конце концов, цифры, факты, события необходимы и важны для понимания эпохи, но это всего лишь фон. Декорации. Обычная почтовая открытка, совершившая путешествие во времени, инициировала прежде всего желание узнать: что стало с ее автором? Кто он был? Вернулся в Россию? Остался во Франции? Нашел любовь, оставил потомков или так и умер безвестным?
В cartes postales нет цифр, над которыми корпят исследования, оспаривая их или доказывая. Есть только даты. Есть тексты, от которых замирает сердце. Даже от самых банальных. Черно-белые послания, как талисманы, берегут то самое хрупкое, нежное и одновременно сильное, что помогает удержаться в нашем цветном шумном пространстве.
2 октября 1916 года девушка по имени Жюльет писала своей подружке в Лион: «Можете ли вы представить, дорогая Анна, что мы с мамой уже несколько дней в Париже. Моя свадьба расстроилась, и я решила развеяться, подарив себе это путешествие. Мама меня сопровождает. Прогуливаемся, шлем наилучшие пожелания». Кому-то грустно, а кого-то переполняет счастье. В 1919 году, 29 мая в три часа дня для сержанта Луи Марти была отправлена открытка. На изображении – первые девять флагов, захваченных у немцев. Только вот текст не имеет ничего общего с фоном: «В этот момент я смотрю на твое дорогое и хорошее письмо, а также на букетик весенних цветов… Фиалки, маргаритки, которые мне все говорят о твоей любви. Спасибо, любимый. Обнимаю тебя крепко и вновь говорю, как сильно тебя люблю… Твоя Бланшетт».
Влюбленная Бланшетт не поблагодарила сержанта за захваченные трофеи. Не поздравила. Смотрела на маргаритки. Да и расстроенной Жюльет вряд ли интересно было бы считать флаги. Потому что в той же открытке она, переживая любовную драму, добавила: «p. s. Мы уже поднимались на Эйфелеву башню, я увидела Париж с высоты. Он прекрасный. А когда спускались, кое-что произошло…»
Возможно, спускаясь, Жюльет, встретила новую любовь? Или, выдохнув, окончательно зачеркнула старую? И добрый гуляка Париж ей в этом помог? Любовные раны затягиваются быстрее, особенно если на все старое посмотреть свысока.
* * *
Они познакомились весной 1917 года в Париже – городе, которому всегда удавалось снисходительно и терпеливо переносить невзгоды, войны, бунты, революции. Мир рухнет – Париж останется. Город-соблазнитель, умеющий бескорыстно дарить счастье. Местом знакомства стал русский госпиталь, что склонному к размышлениям Эсперу показалось фатальным стечением обстоятельств.
Тот майский день 1917 года он запомнил поминутно. Сначала его вызвал помощник главного дивизионного врача полковника Рейтборже адъютант-переводчик Николаефф. Напустив побольше серьезности, выпрямившись, будто перед вручением высокой награды, адъютант – красивый брюнет, одинаково пользующийся вниманием, как среди молоденьких медсестер, так и зрелых дам, – выдал письменный приказ, торжественно зачитав:
– Сержант Якушев! Вы обязаны явиться в указанный день к военному атташе России на улицу Христофора Колумба, дом четыре. Вы обязаны его выслушать, после чего доложить, что русские солдаты, как и французские, находятся в полной боевой готовности для взятия всех борделей Парижа. Ждем только высочайшего на то повеления, – Николаефф, перейдя на французский, сделал упор на слове «бордель». Вручая документ, он, впрочем, заметил, что в реальности их, кажется, ждут другие приказы. Эспер, смеясь, пообещал быть твердым и в точности выполнить поручение офицера, вышестоящего по званию.
– Non, non, – на всякий случай предупредил Николаефф. – Полковнику сейчас не до развлечений. Но ты в бордель все же зайди. Расскажешь, – он вздохнул. Медсестры, конечно, были милы, но все же слишком серьезны. Пьер Николаефф, потомок русских дворян, осевших во Франции, любил шумных и ярких подруг.
– Ладно, перейдем к делу, – продолжил адъютант, перейдя к делу. – Трех раненых захватишь, присмотри за ними. Одного, кажется, твоего знакомого, на Елисейские поля отвезешь – повезло парню! Отель «Карлтон»! Там теперь госпиталь наш. Ее величество императрица Мария Федоровна открыла. Да что я тебе говорю, ты же все это знаешь! Двух других Этьену передашь, он сегодня выезжает. Будет встречать вас в Нуази. Оттуда уже сам с ними отправится, тебе не обязательно ехать. Ты прямиком в Париж направляйся.
– А тех куда? Неужели в Мишле?[17 - Мишле – госпиталь, оборудованный на период войны в лицее парижского пригорода Ванв, примерно 10–15 км от Парижа.]
– Угадал! Точно! В Мишле. После газа, говорят, хорошо восстанавливают. Красота там сейчас… Зелено… В общем, давай. Сначала – госпитали. Так что…
– Так что maison close[18 - Maison close (фр.) – бордель, дом свиданий.] отменяется, – с нарочитой важностью закончил Эспер, подыгрывая Пьеру.
– Да уж… Но ты хоть мимо пройди. А то и зайди! Расскажешь! – не унимался тот.
Апрельское взятие Курси в наступлении Нивеля обернулось огромными жестокими потерями, ускорив приближение конца. Военный коллапс грозил парализовать тыловую медицину. Но, надо отдать должное французской скрупулезности: систему мер по оказанию помощи раненым французы продумали до мелочей, причем в кратчайшие сроки. Тыловые и реабилитационные госпитали на берегу моря, вокзалы разного назначения – все было строго расписано, начиная с момента эвакуации до транспортировки в медицинские палаты. Эспер, не раз слышавший критику со стороны русских в адрес французских военных, как генералов, так и солдат, не мог не признать, что в тылу союзники более успешны. Отвага – да, но отвага на грани самопожертвования и уж тем более безрассудства – все же не национальная черта французов. Зато в тылу они доказали, что патриотизм возможен не только на полях сражений.
Выйдя из кабинета, он поймал себя на мысли, что, в отличие от Пьера Николаефф у него не возникло никакого желания идти в бордель. Или почти не возникло. Это даже показалось немного тревожным и, тут же выругавшись, он посмеялся над собой: «Старею…»
В русском госпитале до того памятного дня ему бывать не приходилось. Открытый спустя несколько месяцев после начала войны по инициативе русского благотворительного общества и при содействии августейшей императрицы-матери Марии Федоровны, госпиталь стал еще одним свидетельством благих намерений России в отношении Франции. Как и сто лет назад, русская аристократия волновалась за тех, кто сражался на фронте. Разница заключалась лишь в том, что ранее переживания касались только своих, сейчас же les nobles russes[19 - Les nobles russes (фр.) – русские дворяне.], живущие в Париже, посчитали своим долгом помочь раненым французской армии. Сначала госпиталь размещался в Бланкфоре департамента Жиронды, а чуть позднее его перевели в самое сердце Франции – на Елисейские поля, в здание отеля «Карлтон», где они встретились: сержант Эспер Якушев и сестра милосердия Мартина Кастель.
Испанка по матери, француженка по отцу, Мартина не имела в своей богатой родословной ни малейшей примеси русской крови. Смуглая, темноволосая, кареглазая. Импульсивная, земная, воспринимающая радости жизни просто, без философских измышлений, почему и за что дарованы ей эти радости, без поиска и объяснения причин, без ожидания подвоха или беды. Без всего того, что составляло натуру Эспера. Ей и самой было неведомо, чем объяснялся повышенный интерес к России. Возможно, мифы, таинственность далекой холодной страны, а может, и сентиментальные, томные героини русских романов, в которых ей иногда хотелось представить себя. Год назад, на параде в честь Дня Бастилии, она впервые увидела русских солдат.
– Мартина! Скорее! Бежим женихов выбирать! – смеясь, позвала Сесиль, подруга, тоже медсестра.
Девушки переоделись и, захватив букетики цветов, спустились вниз, расталкивая толпу зрителей.
– Ах! Какие парни! Нам бы таких! Тебе какие больше нравятся? Эй! Ребята! Посмотрите на нас! – Сесиль, забыв о приличиях, приветствовала колонны солдат, шагающих в сторону Триумфальной арки.
– Смотри! Смотри! А эти – в сапогах! И фуражки, а не каски, как у наших! Ах! Красавцы! Это же русские!! Ты русский учишь, крикни им что-нибудь по-русски! – не унималась Сесиль.
Рослые, широкоплечие, в необычных для французов сапогах, солдаты русской императорской армии вызвали восхищение парижской публики. Мартина Кастель учила русский язык, тем более что говорить на нем приходилось все чаще и чаще. А вскоре появились и поводы, правда, не столь веселые, как тогда, на Елисейских полях – в госпиталь стали поступать раненые из русских бригад.
* * *
– Этьен, встретишь нас через два дня. – Эспер показал напарнику приказ о командировке. – Проверь все, приготовь, что надо, еще раз врачей, персонал предупреди. В общем, сам знаешь. Я тоже проверю. Ладно, давай, до встречи в Нуази.
Они попрощались, договорившись поужинать дома у Этьена.
– Жена рагу приготовит, попробуешь. Dеlicieux![20 - Dеlicieux! (фр). – вкусно.] – заверил тот.
Эспер обещал проголодаться. День действительно предстоял хлопотный. Встретиться они должны были на вокзале в Нуази ле Сек, что примерно в пятнадцати километрах от Парижа. Здесь, на самой крупной в период войны распределительной станции, пассажиров санитарных поездов готовили к дальнейшей эвакуации. Нетранспортабельных – в глубокий тыл, с ранениями средней тяжести оставляли здесь же, в Нуази ле Сек или Париже и парижских пригородах. В одном из них, Ванве, находился знаменитый госпиталь Мишле. Сюда и должен был доставить Этьен двух раненых с осложнениями после газовых атак.
Немцы, несмотря на все международные запреты[21 - Гаагская конвенция 1899 года запрещала применение химического оружия в военных целях.], без стеснения использовали химические оружие. Противогазы помогали, но многое зависело от момента боя, от «начинки» снарядов, дозы распыления газа, ситуации. Однажды, вынося раненых, они попали в зону облака хлора. Этьен, уже имеющий опыт, прошедший помимо прочего краткие медицинские курсы, закричал:
– Носилки ставь! Мочись! Штаны расстегивай! Мочись на платок! Есть? Нет? Портянку снимай или рубашку!
Не теряя времени, Этьен уже разорвал платок на две части, помочился на ткань, и, не выжимая, приложил один кусок на лицо раненому, а из другого смастерил нечто вроде маски для себя. Эспер, не мешкая, последовал его примеру, успев подумать, что и родная моча может спасти от смерти.
– Не спеши, не беги, бежать нельзя, береги легкие, дыши в тряпку, – командовал Этьен. – Ты понял? Понял теперь? Если противогаз забыл, запасись мочой, – смеялся он, добавляя: – моча поможет, не своя, так чужая.
Этьен Ардэн, водитель их взвода, жил в Париже. Был старше Эспера, женат, владел небольшой пекарней, но с началом войны так же, как его русский напарник, подписал engagement, вступив в санитарный отряд особой русской дивизии. Уже почти два года они служили в первом санитарном взводе, доставляя тяжелораненых в тыл. Невысокий, крепко сложенный, с твердыми чертами лица, похожий на пейзана[22 - Paysan (фр.) – крестьянин.], балагур и весельчак Этьен был полной противоположностью рафинированного, мечтательного Эспера. Но, может, такая несхожесть их и сдружила. Французский напарник по-братски, даже по-отечески опекал своего русского друга, тот, в свою очередь, не раз рисковал, прикрывая француза в опасных ситуациях. Командировка в Париж обоим давала возможность побыть в иной, более спокойной обстановке.
Выехали из Майи в направлении Реймса рано, часов в пять. Оттуда должен был отправиться санитарный поезд в сторону Парижа. Раненые находились в закрытом кузовном отсеке. Их было трое: Жиль Матте родом из Безансона, Василий Смирнов, мобилизованный в Москве, и Николай Калинников из Самарской губернии. Первых двух, получивших сильнейшее отравление хлором, и надо было переправить в Ванв, госпиталь Мишле. Они тяжело, с хрипом дышали, кашляли, особенно Жиль, которого приступы кашля доводили до рвоты.
У Николая – еще страшнее. Множество осколков разной величины изуродовали лицо двадцатидвухлетнего парня. Уникальное, одно-единственное лицо на миллиарды других. Невредимыми от прошлого облика остались рот, подбородок и глаз. Рот, молодой, наверняка не очень зацелованный, любил поболтать – Николай был разговорчив. Утомившись, рот умолкал, а глаз дремал, прикрыв себя веком с белесыми ресницами. Подбородок раненого украшала трогательная ямочка, должная, видимо, придавать решительность ее обладателю. Нос тоже пострадал, сопя под грузом твердой повязки. Несмотря на тяжесть ранения, Николай Калинников отличался веселым нравом и оптимизмом, веря, что «с лица воду не пить», и с таким проживет. Руки, ноги есть, могло, успокаивал себя, и хуже быть.
Да, когда-нибудь, через сто лет и больше, размышлял Эспер, в исторических справочниках наверняка появятся сухие цифры отчета наступления Нивеля: столько-то убитых, столько-то раненых. Трупы, валяющиеся, гниющие в грязи, издающие запах смрада, станут просто цифрами. Солдаты, вставшие в атаку и тут же упавшие, чтобы встали другие, будут называться потерями. У потерь будет цена. Историки начнут ее уточнять, переуточнять и, может, спорить, уличая друг друга в неточностях. Что ж, по крайней мере, на одну единицу в этих сводках будет меньше. Потому что тогда, в апрельский день, транспортируя раненого, Эспер оглянулся, услышав крик:
– Братцы, подождите! – к ним с Этьеном подбежал запыхавшийся солдат, зажимая рукой сильно кровоточащую рану на шее. – Нет, нет, я доберусь, это так, поцарапало, – добавил, предупреждая вопрос. – Но там брат мой, друг, понимаете, друг мой там. Мы вместе. Точно знаю, Колька, Калинников Николай, жив, точно жив. Упал, но чую – жив! Братцы, спасите, давайте назад, туда, – он неопределенно махнул рукой в сторону, откуда санитары тащили на носилках раненого. Тот, только что стонавший, дернулся и резко умолк.
– Смотрите! Помер он! – воскликнул парень, не скрывая радости. – Бросьте его, помер родимый, помер уже, все, царствие ему небесное, – быстро перекрестившись, схватился за носилки, подтаскивая их к себе, пытаясь сбросить лежащее на них тело. – Помер, помер! Стойте! Дайте носилки, а Кольку я найду, сам найду, если не пойдете! – в его голосе слышались одновременно отчаяние, мольба, угроза и злость.
– Arr?te! Qu’est-ce que tu fais?[23 - Стой! Ты что делаешь? (фр.)] – раздраженно крикнул Этьен.
– Чего трупы-то таскать, вона их сколько. Лежат… Живых искать надо.
В словах была грустная правда. Трупы валялись повсюду, выносили их обычно только тогда, когда действительно наступало некоторое затишье. Выходит, зря рисковали, спасая того, кто через несколько минут стал «телом». Эспер осторожно снял умершего с носилок, положил на землю, тоже перекрестился, и, обращаясь, к другу-брату неведомого Кольки сказал:
– Ладно, попробуем. Вроде, все прочесали, но мало ли. Ты давай беги, кровь-то хлещет, перевязать надо, добежишь? Там, недалеко от часовни, медпункт. Звать-то тебя как?
– Дмитрий Орлов я, первая бригада, второй полк. Самарские мы с Колькой. – Он прикрывал рану полностью промокшим от крови платком. – Добегу. Братцы, только найдите. Калинников Николай. У него волосики-то как у меня – светлые. Друг это мой, как братья мы. На меня смотрите, такого и ищите, – Дмитрий, слегка сдвинув назад каску, ткнув в себя пальцем, на секунду замер, как перед фотоаппаратом, развернулся и пошел в сторону только что отбитой у немцев деревни.
Они очень рисковали, снова отправившись на поиски, тем более что водитель их взвода категорически отказался ждать в опасном месте, мотивируя тем, что не было на то распоряжения. Этьен, выругавшись, послал его к черту, сказав, что сам сядет за руль, пусть только автомобиль оставит. Риск действительно был: найти Кольку со «светлыми волосиками» среди множества неподвижных тел казалось решением благородным, но невозможным. И все же Эспер первым заметил солдата, лежащего, как и большинство, на спине, но со скрещенными на лице руками. В позе не было внезапности смерти, это и обращало внимание. Человек, возможно, услышав речь санитаров, специально пошевелил пальцами, чтобы быть обнаруженным. На голове у него была каска, поэтому цвет волос не имел значения. Эспер нагнулся, раздвинув руки раненого. Лица не было. То есть оно было, но найти в нем схожесть с «братом» Дмитрием не представлялось никакой возможности, как и ни с кем другим. Даже Этьен, видавший многое, содрогнулся, увидев вывороченные куски мяса на верхних скулах.
– Tu n'es pas Nicolas par hasard?[24 - Tu n'es pas Nicolas par hasard? (фр.) – Ты случайно не Николай?] Николя? – повторил по-русски.
Парень пошевелился:
– Никак живой я… Больно-то как, батюшки…
И потерял сознание. Эспер достал из кармана гимнастерки документы: Калинников Николай, 1895 года рождения. Призван из Самарской губернии, деревни Удалово.
В тыловом лазарете Калинникову быстро зашили раны, залатав кожу буквально по кусочкам. На десятый день частично сняли швы. Он попросил зеркало. Сестра отговаривала, но пациент был неумолим: «Несите!»
Долго разглядывая свое обезображенное лицо, гладя швы, повязку все еще забинтованного глаза, Николай дотронулся до торчащего под бинтами кончика носа, а потом, собрав весь свой природный оптимизм, вздохнул и впервые произнес ту самую успокоительную фразу:
– С лица воду не пить.
Эспер навещал его, подбадривал. Калинников не унывал:
– Митька, друг, про горбуна рассказывал. Как его звали-то? Урод такой был, забыл, как звали…
– Квазимодо? – подсказал Эспер.
– Может, и так. Митька страсть как книжки любил. Мать, бывалыча, его ищет, а тот спрячется и сидит цельный день, пока братья в поле. Митька мне говорил про этого-то, горбатого урода. Дескать, в цыганку влюбился. И она им не побрезговала. Так, думаю, и на мою долю цыганочка найдется, – морщась от боли, смеялся, обнажая крепкие зубы.
Надо отметить, что Калинников, на удивление медсестрам, больше интересовался не своей внешностью, а тем, что творилось на фронте. Узнав, что французы после поражения Нивеля забунтовали, он впервые задался вопросом:
– Они за себя воюют, а мы за кого?
Отречение царя, случившееся месяцем раньше, солдаты встретили с некоторой растерянностью. Тем не менее, выслушав объяснения офицеров, приняли присягу Временному правительству. Но сомнения в компетентности генералов усилились. Сначала зароптали французы, а позже недовольство распространилось и на русские бригады.
И вот тогда пациент, приунывший было, оживился и стал чаще просить зеркало. Может, медсестра какая-то приглянулась, может, весна в нем заговорила, но только обрадовался «русский Квазимодо», узнав, что его транспортируют в Париж для последующих операций у специалистов. Дивизионный врач Рейтборже решил: парень молодой, надо его отправить в столицу, там врачи с именем, вылечат! Этого-то самарского паренька, вынесенного с линии огня, беспомощного, полуслепого, и должен был доставить Эспер Якушев в бывший отель «Карлтон».
* * *
– Прибыли! – весело сказал Эспер, открывая дверцы кузовного отсека. – Как вы? Держитесь?
Василий и Жиль молчали, переезд давался им тяжело. Лишь неугомонный Калинников выдавил из себя знакомое:
– Са ва, – и, подумав, добавил: – Са ва тре бьен[25 - Са ва тре бьен (?a va trеs bien, фр.) – все хорошо, все очень хорошо.].
В Реймсе их ждал санитарный поезд-микст, то есть с вагонами для лежачих и сидячих раненых. Погрузка прошла относительно быстро и слаженно. Врачи, медсестры, снабженные многочисленными инструкциями, успевали сортировать пассажиров. Тяжелые и легкие, направленные на реабилитацию, не должны были находиться вместе во избежание моральных страданий для тяжелораненых.
После коротких переговоров Эспер убедил врача-координатора поместить всех в один вагон, который можно было бы назвать «микст» по степени поражения человеческого тела. Глядя, почти бесстрастно, на это средоточие боли, он вдруг ужаснулся жестокости своих мыслей: «Все они – калеки. Страдают и будут страдать, впадая в гнев, ярость, мучаясь от бессилия, обвинять генералов, требовать для них наказаний. Будут разрушаться, гнить заживо. Истязать своих близких, делая их несчастными, будут спиваться. Зачем их спасать? Сострадать им, зная последствия?» То, о чем он думал, было настолько кощунственным, нехристианским, черствым, настолько бесчеловечным, что иначе, как помутнением рассудка, было невозможно объяснить. Внезапно нахлынувший приступ тоски, незнакомой и непонятной, окончательно сбил с толку.
– Эспер, а у тебя подруга есть? Француженка небось? Ты мужик хоть куда. Мне-то вот теперича что делать? Где искать? – Николай, утомившись веселить вагонную публику, загрустил.
Постоянной подруги Эспер Якушев не имел. У него были лишь смутные очертания той, которую он когда-нибудь хотел назвать своей подругой. Однажды ему по ошибке попалась открытка, предназначенная санитару их взвода Бернару Ренье. На изображении – молодая парочка, его руки на ее талии, ее – на его шее. Целомудренная картинка, обрамленная цветочным вензелем. Надпись слащавая, что-то типа «лодка счастья скоро придет в свой порт». Но то, что он прочитал на обороте, обдало жаром и кольнуло ревностью:
«Позволю ли я себе сказать, что в твоих глазах видела любовь? Что твой взгляд выдавал волнение, ты весь горел… Это связывает наши души, я становлюсь рабой твоего взгляда, нашей любви. Это поглощает так, что уже не думаешь о себе. Это такое счастье, что даже слово „любовь“ не может объяснить то, что я чувствую. Только твое сердце единственное может обо всем догадаться. Любить, чтобы любить. Моя верность искренняя, что означает одновременно счастье, вечность и благородство волшебной силы любви. Тысячи поцелуев шлю моему любимому, дорогому мужу. Твоя навеки».
Бернар обладал весьма заурядной внешностью: невысокий, тщедушный, с нездоровым цветом лица, а какую силу чувств был способен вызвать! Наверняка, вернувшись из увольнительной, вспоминал последнюю ночь с женой. Эту ночь, и это, что согревало, поддерживало его. Отдавая открытку, Эспер извинился, соврал, что не читал. Бернар, рассмеявшись в ответ и на мгновенье преобразившись в пылкого любовника, сказал, что не возразил бы, если бы кто-то и прочел.
Опустив вопрос о подруге, не стал расстраивать Николая, сведя разговор в чисто мужское русло и успокоив, что лицо для мужчины – не главное. Лежащие рядом раненые встрепенулись, начали делиться сокровенным, тема показалась болезненной. Даже Жиль попытался что-то сказать, да опять закашлялся. Разговор будил воображение, горячил кровь и, наверное, если бы не бинты и слабое освещение, то можно было бы видеть, как покраснел Николай, чья неискушенность в любовных делах была абсолютно очевидна. Он признался Эсперу, что так и не успел толком «с девками погулять», стеснялся.
– А ведь в деревне-то я красавцем слыл, девки-то заглядывались, – вспоминал Николай так, будто ему уже стукнуло девяносто, а не чуть больше двадцати годов от роду. – Только вот матушка у меня больно строгая. Ругалась, боялась, что обижу кого. Вернусь поздно – жди трепку.
– Так и не было никого, что ли? – спросил сидящий рядом раненый из категории легких.
– Ну как сказать… Была тут у меня одна… – Николай замолчал, и Эспер догадался, что Николай, обделенный опытом, но не воображением, готовится выдать очередную историю для поднятия морального духа. И Николай действительно начал рассказывать, да только не о своих похождениях, а друга Митьки. Того самого, у кого «волосики такие же». Рассказывал с гордостью, взахлеб, с явным уважением к таланту деревенского соблазнителя Дмитрия Орлова. У того, якобы, и барыни были, и учительницы, и девки.
– А все потому, что умный он больно. За то и любили. Невесты за него – чуть не в драку, а ему все чтой-то не по нраву. Особенную хотел, как в книжках своих…
Николай опять замолчал, прикрыв единственный глаз, задремал или делал вид. Притихли и остальные. Возбуждение улеглось, растревоженные темой пассажиры вернулись в мыслях к реальности. Тело – важный элемент любви, доказывающий ее силу, нежность, красоту, мудрость и вечность, – стало просто анатомическим материалом. Безжизненным, гангренозным, зловонным, одноруким, одноногим. Они уже привыкли показывать свою обнаженность врачам, не испытывая и малейшей стыдливости. То, что когда-то покрывали поцелуями, источало боль. У раненых тел не было будущего в любви. И тяжелые это поняли особенно отчетливо, вспомнив, теперь уж навсегда потерянные, ни с чем не сравнимые ощущения силы обладания женщиной.