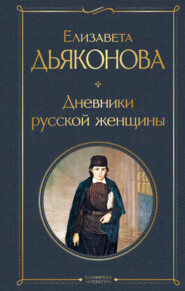скачать книгу бесплатно
– Образность.
– Что называется образностью?
В прошлом году я получила 5 за ответы, что называется образностью, метафорой и т. д., – а нынче только руками развела: пока мы учили это слово теоретически – знали, пришлось применить наши знания на практике, уже все забыть успели. Вот те на!
– Чему же вы учились? что вы делали в 5-м классе? – спросят нас большие, ученые люди, маменька, папенька, гувернантки и т. д.
– Да, мы учили, – без запинки ответим мы, – теорию словесности, это полагалось курсом 5-го класса, а так как в 6-м учат историю словесности, то… теорию-то словесности мы уже забыли…
А Г-ев из сил выбивается, старается хоть немного развить наши ослиные (в полном смысле слова) головы, советует читать, читать как можно больше. Ладно, говорим мы; будем читать. И действительно, берем и читаем Шекспира, Толстого, Пушкина, Диккенса, Тур
, Тургенева (я привела здесь те книги, которые действительно читают воспитанницы нашего класса); кажется, все имена известные, громкие; сочинения прекрасные… но ни сочинения, ни развитие нашего ума от этого не улучшается. Сам Г-ев нам это сказывал: «Читайте вот таких-то, таких-то и таких-то писателей; но наверное вы не поймете как следует сочинений «Ледяной дом», «Записки охотника», Шекспира: чтобы это понимать, нужно головы поразвитее ваших!» Сказал и ушел. Мы, понятно, оскорбились таким мнением о нас, закричали, зашумели, классные дамы в поведении сбавили, позлились; и тем дело кончилось. А между тем, действительно, понимают ли некоторые из нас, что читают – Бог весть.
Спать пора; я устала писать.
10 ноября. Это решительно невозможно! позволять себе такую дерзость пред всем классом! Учитель говорит одной из хороших, даже более – из лучших своих учениц:
– Самостоятельно ли написано сочинение? – и при всем классе! – Я увижу, как то вы напишете во вторник классное сочинение. Понимайте как следует: вы меня обманываете, сочинения пишете не сами, а вот во вторник я увижу, насколько вы способны мыслить.
Когда он спросил меня, я сначала готова была закричать на весь класс: это дерзко, низко с вашей стороны так ко мне относиться! Но ведь этого сказать нельзя; пришлось ответить: Господи, унижение какое! Есть ли после этого правда? Я пишу сочинение, думаю, хотя очень мало, но все же думаю, моя работа оказывается одной из самых лучших, – и так оскорбить, насмеяться над ученицей при всем классе… И это он говорит мне уже в третий раз!.. Мало того, что придется писать классное сочинение как будто на экзамене, – нужно еще оправдывать себя перед ним: вот, мол, я все сама делаю! Никогда, никогда я не была еще унижена так, до последней степени, насколько может быть унижен человек! Он отрицает у меня способность мыслить самой, и еще с насмешкой говорит: вот во вторник увижу! И ничего, ничего нельзя сказать в свою защиту, нельзя даже сказать ему, что такое подозрение в высшей степени низко и подло, что он может говорить это ученицам плохим, а не хорошим; одним словом – нужно подвергать себя насмешкам и замечаниям учителя, сколько ему угодно. И все это благодаря нашей нелепой системе школьного учения: полнейшее унижение, уничтожение личности и предание ее в руки машин в виде классных дам, и образование – в руки хитрых педантов.
О, Господи, Господи, какое мученье!
12 ноября. Ал. Ник. – лучший человек в мире – выходит замуж. И какая я дура: ведь когда мы были на именинах, то жених сидел почти напротив меня, но – видно, у меня такая способность – я не вижу никогда никого из мужчин, если бываю где-нибудь у знакомых; так я его и не видала. Надя говорит, что он очень красив. Когда я спросила Ал. Ник., каков у нее жених, она как-то странно ответила: «О, он молодой, очень красивый, сходится со мною во всем». Значит, и он тоже – замечательно хороший человек. Похожи они друг на друга очень, как брат с сестрой. Я ото всей души желаю счастья Ал. Ник. в ее будущей новой жизни; такого счастья, которое бы редким людям давалось; такого благополучия, какого на долю никакого человека не выпадало; такого согласия и мира, которое не у всех бывает. Кроме всего этого, Ал. Ник. сообщила нам новость, почти такую же радостную: она останется и будет у нас репетировать! О Боже мой, этого счастья, этого благополучия мне и во сне не снилось!.. Милая, милая моя Александра Николаевна! Сегодня вечером мы даже не читали, а сидели работали и разговаривали: точно прощались с нашей Ал. Ник.; она ведь после обручения будет почти что жена, а это так странно кажется.
13 ноября. Видела я сегодня Ал. Ник. Я шла в гимназию; смотрю – парочка, веселая, молодая, счастливая. Это она, подумала я. Но ведь может быть и не она, может быть и другая барышня идет под руку со студентом.
– Это так неловко, – вдруг долетело до меня со знакомым произношением буквы л; сомнения нет – она! Я шла по другому тротуару; шла, не смея взглянуть на эту счастливую парочку, стараясь идти так, чтобы они меня не заметили, и была так счастлива, так счастлива! До самой гимназии они шли за мной, и я слышала их веселый смех и разговор. Так вот она, любовь-то, счастье-то! Я никогда еще не видала любви, такой, как в романе, и теперь вижу. Все это так ново, так странно для меня. Читаем в романе; так просто, естественно кажется, а на деле не то. Когда я читала про любовь, я не понимала: как это любят, признаются в любви, делают предложения; но мне все казалось естественным: ведь роман. А как на самом деле увидела, то начала понимать, как все делается, хотя еще и не совсем. Когда Ал. Ник. сказала нам, что на душе у нее радостно и хорошо, что многое казалось приятным и веселым, то я подумала: а хорошая, должно быть, штука эта любовь. Ведь тогда все кажется хорошим, а это, должно быть, очень весело. Представлю себя на ее месте, только без жениха, конечно, и не невестой, а так просто: ну, и я люблю, не знаю кого, ну положим, горничную Сашу, или какую-нибудь из воспитанниц… и тогда мне все начинает казаться в розовом свете! Уж не полюбить ли мне в самом деле кого-нибудь из наших? Воспитанницы есть очень хорошенькие, поют хорошо, стройненькие, ведь полюбить можно. И вдруг тогда я буду счастлива… только способности-то и уменья у меня на это нет, а то бы я постаралась.
25 ноября. Что со мной делается? Вчера вечером прочла я роман «Старый дом» и все думала о Борисе. Мне было ужасно досадно, отчего я не родилась в начале нынешнего столетия и не в высшем обществе; тогда я, наверное, увидала бы и познакомилась с ним непременно. А тут – ходи себе в гимназию, учись, а Борис хоть и не учился, а знал гораздо больше меня. Мне ему было завидно, я представляла себе его дом, обстановку, книги, его брата, как его везли в крепость, что он там делал, и вдруг – спросили из истории. Я ждала этого, и выучила урок, но отвратительный, рыжебородый Венька спросил – о ужас! – Северо-Американскую войну, а учим мы Семилетнюю. Конечно, я сказала слова три и замолчала, а на уме, в мыслях все был Борис; представляю себе, как его допрашивает Великий Князь, а тут Венька говорит: «Что же вы дальше-то ничего не помните?» Ну, думаю, мучение! Но за историей был французский. Я знала, что меня, наверное, спросят – была литература – и была спокойна, все думая о нем. Но случилось то, чего я уж никак не ожидала от самой себя. Нам задано было рассказать содержание трагедии Корнеля «Сид». Я по-русски знала и не сомневалась, что отвечу по-французски. Не тут-то было: не успела сказать и половины – запнулась, по-русски знаю, по-французски выразить не умею. Покуда я размышляла, Наташка разоралась, поставила мне пару, велела писать урок. До такого срама я еще никогда не доходила; мало того, велела мне прийти в четвертый класс ответить урок, вместе с П-вской (и та тоже). Ну, и ответили: как бомбы вылетели из класса и промчались по залу. Стыд-то какой! Но – il faut faire bonne mine au mauvais jeu
– и я следую этому мудрому изречению.
2 декабря. Александра Николаевна отказала своему жениху! Отказать человеку, уже обрученному с ней, уже имевшему на нее право, – это я не знаю, что такое!.. Чувствую, что не могу уже смотреть на нее, как прежде, мне кажется, что впереди ее стоит отверженный ею жених. Я никому ничего никогда, конечно, не скажу, но… нехорошо все-таки поступила Ал. Ник. Человек должен быть прежде всего человечен, а она поступила с женихом безжалостно. Она теперь такая веселая, ласковая, все смеется, даже лицо ее как будто похорошело; но взглянуть прямо на нее – я не могу, не могу. А еще три недели тому назад я видела их вдвоем такими счастливыми…
14 декабря. Давно я не писала, не то лень, не то некогда было. Я ужасно люблю бывать у бабушки: там так тихо, тихо, хорошо. У нас в доме, если тихо, то сонно все так-то, а у бабушки и тишина имеет свою прелесть. Бабушка вчера мне свою жизнь рассказывала, о маме, о дяде Коле. Теперь передо мной открыта вся жизнь семьи нашей. И, Господи, сколько несчастья рассказывала мне бабушка, и все это так хорошо, естественно, что, право, заслушаешься… Кажется, будто две семьи – обе известные и уважаемые – сошлись для того, чтобы вместе соединить свое горе и страдание и удвоить его на маме. Обе бабушки испытали в своей жизни много горя, снося его твердо; и мама всегда справлялась с собою: всего два раза в жизни я видела в ней что-то похожее на отчаяние и слезы, но потом она становилась вновь молчаливой, терпящей…
19 декабря. Сегодня француженка побранила меня и назвала умницей, «способной девиц» за то, что я ей перевела m-me Sta?l. Удивительная женщина была m-me Sta?l, ведь недаром назвали ее гениальной. В наше время таких нет. Какая она была умная! Семнадцати лет, когда наши девушки начинают только о выездах думать, она уже издавала «Письма о Ж.-Ж.Руссо». Хорошо сочинять; мне иногда самой хочется что-нибудь написать, да все лень, все кажется, что не умею.
Скоро отпуск! Не будешь ходить в 4 часа домой по темным улицам, в грязь и ветер, в слякоть и мороз. – Домой, домой, радостно повторяют воспитанницы, бегая из класса в дортуар, из дортуара в класс. «Домой, домой!» раздается везде, по всем углам комнат нашего огромного учебного заведения. Вот, вся сияя улыбкой, растрепанная, с передником на боку, бежит воспитанница. В руках у ней целая груда книг и тетрадок, ей неловко бежать, но она летит стрелой, толкает подруг, вдруг наткнулась на кровать, и вся ноша рассыпалась. «Что это вы, – замечает недовольная классная дама, – бежите как полоумная какая! Смотрите, где ваши книги? Как вам не стыдно». Но у воспитанницы ни малейшего следа стыда, напротив: лицо ее делается еще больше радостным, и она на выговор отвечает: «Как же, ведь домой, Вера Александровна».
Вон там, у средней кровати, какая-то воспитанница. Около нее собралась целая группа: кто надевает ей платок, кто застегивает пуговицу, кто связывает узел. Все уже собрано, она одета, укутана платком, начинается прощание.
– Прощай, Маня, милая, напиши, коли будет время на Рождестве.
– Прощай, Манька, прощай, душка милая, – раздается вокруг. И все, хотя были бы самыми заклятыми врагами уезжающей, считают своею обязанностью проститься.
– Ведь ты с ней в ссоре, чего же целоваться-то лезешь? – замечают воспитанницы.
– Я и забыла, Бог с ней; ведь за мной сегодня, милочка, в пять часов придут, на железную дорогу – и домой! Понимаешь ли?
– Еще бы не понять, – отвечают воспитаннице другие, в подтверждение своих слов крепко целуя ее.
– Домой, домой, домой, – раздается во всех углах и закоулках, читается на лице всякой воспитанницы…
– Да, – размышляет классная дама, стоя у окна дортуара для наблюдения над сборами воспитанниц, – домой, это, конечно, приятно отсюда уехать недели на две; а что меня ожидает там, в родном уездном городке?
И в ее воображении мелькает неопрятная, грязная квартирка, в которой живет слепая старуха-мать, темные, холодные комнаты. Приедешь – счет от хозяйки квартиры за дрова, свечи, провизию, все это нужно оплатить, нужно к празднику что-нибудь купить, а жалованье невелико: всего 15 руб. в месяц.
– Вот станет ли денег-то на уплату, – тяжело вздыхая, размышляет она, – я ведь себе нынче шубу, калоши купила, – немного осталось. И тут еще, наверное, от бедной племянницы письмо придет: Христом Богом попросит к празднику хоть три рубля прислать. Как тут откажешь? А пошлешь – нельзя будет ничего лишнего к празднику купить… Что дома-то хорошего? Брань с квартирной хозяйкой за плохую топку печей, ворчанье матери, что долго не писала, что денег мало привезла… А они чего суетятся, – думает она, – посматривая на воспитанниц, и как бы в ответ на ее мысль слышится прощальный возглас одной из них… – Им все весело! – злобно улыбается она, – все молодые, счастливые; а мне – никогда не быть уж такой, – говорит что-то внутри нее. И вдруг у ней является желание огорчить этих веселых, смеющихся девочек, наказать их чем-нибудь, отравить им счастливые минуты.
– Чего вы расшумелись, сию же минуту, все из дортуара! – прикрикивает она на них. В ответ раздаются жалобные голоса, еще более раздражающие классную даму.
«За что ты наказала сейчас этих девочек?» – спрашивает ее какой-то внутренний голос. И она нервно стискивает руки, стараясь не слышать этого веселого смеха и шума. А кругом – так кипит и шумит молодая, веселая, беззаботная жизнь; всем весело, всем, лишь у ней одной на сердце тоска страшная, безысходная. – Домой, домой!
23 декабря. Приснился мне папа вчера. Странное чувство испытываю я тогда, когда вижу его во сне: мне так хорошо, весело делается, только как будто жаль кого-то. Говорят, что это он напоминает мне, чтобы я за него молилась. Это правда. Когда я плохо или долго не молюсь за папу, он мне всегда приснится, такой ласковый, добрый, так что жаль сна бывает.
О Господи, Господи! Помилуй меня грешную, прости все грехи мои. Ведь Ты прощаешь грехи всем людям, – прости же, Господи, зверю скверному, гадкому, хоть одну сотую долю его грехов и прегрешений. Хотелось бы мне умереть, если не сейчас, не теперь, то 15 августа будущего года, мне тогда будет ровно 15 лет; хотелось бы мне умереть ровно в 6 часов утра, т. е. в тот час, когда я родилась; хотелось бы, чтобы меня похоронили в ельнике, там, где мы часто гулять ходили, посадили бы елочку на могиле, но креста не надо ставить, можно из елки простенький вырубить; а если в ельнике нельзя, то пусть бы похоронили меня в дальнем углу нашего кладбища, там, где солнце почаще и подольше бывает. Гораздо лучше умереть, чем жить! Когда нынче летом я была на папиной могиле, то солнце так ярко светило, так хорошо было, что сейчас бы умерла, лишь бы надо мной солнце так же светило, и тихо так было бы на кладбище… Подписалась сама на журнал «Север». Он будет высылаться на мое имя, короче сказать, у меня будет собственный журнал. Рука так и дрожала, когда я писала адрес: Вс. С. Соловьеву
; мне казалось, что с моей стороны величайшая дерзость писать человеку, мало того – незнакомому, а еще – известности, литератору.
P.S. Вероятно, долго не буду писать, м.б., времени не будет, м.б., лень, так что заранее об этом сама себя предупреждаю.
26 декабря. Сегодня Ал. Ник. говорила, что пора мне заняться ученьем как следует, и не ученьем только, а вообще всем. Сказала (совестно писать даже, точно сама себя хвалю), что во мне есть все данные, для того чтобы быть (не знаю каким) человеком, что я существо самобытное, оригинальное, непохожее на других, и наконец сказала:
– Я как-то говорила с одним молодым человеком о вас, и мы решили, что вы не жалкая посредственность.
Как мне совестно все это писать, но ведь я пишу сама для себя, а следовательно, и прибавлять что-нибудь от себя к описанию разговора была бы ложь перед самой собой. Ал. Ник. решительно угадывает мои мысли: она советовала мне вести дневник, и так, чтобы можно было впоследствии его издать. Ну, уж это слишком! 1) я и в дневнике-то почти никогда и не высказываюсь, 2) моя жизнь не для всякого интересна.
– К чему вы себя готовите? – спросила меня А.Н. Ну, что я могу ответить на это? Я, право, еще ничего не предполагаю сделать, но чувствую, что домашняя жизнь меня затянет так, что в одно прекрасное утро я что-нибудь сотворю… Теперь хотелось бы мне и написать что-нибудь; ведь я знала: стоит хоть немного написать, еще захочется; написала я «Домой», ну и еще что-нибудь напишу. «Дура! Что за самонадеянность!» – твердит мне рассудок. «А если хочется?» – возражает сердце. Чтобы я была человеком самобытным, не похожим на других людей, чтобы из меня что-нибудь вышло – этого я, воля ваша, никак не могла даже и вообразить. Правда, когда вырасту большая, я буду вести совершенно иную жизнь, не похожую на жизнь других людей; мне, например, очень хочется уехать в Америку, сдать там экзамен на капитана, получить в команду какое-нибудь судно и отправиться путешествовать, ну, а человеком самобытным – совсем не воображаю. И все-таки, после этого разговора, предо мной точно что-то светлое, радостное, хорошее открылось; а слова – «надо послужить на пользу общества», – которые мне сказала Ал. Ник., я никогда, никогда не забуду. Ведь я читала, что римлянка 14 лет надевала тогу и делалась полноправной гражданкой; а у нас когда это право получается? – в 21 год, или когда замуж выйдешь. Странно!..
1889 год
1 января. С Новым годом! с новым счастьем! Странно говорить «с новым счастьем», как будто каждый новый год приносит его с собой; тогда как с каждым годом все чаще и чаще случаются «новые» несчастья…
Встретили мы новый год так, как, вероятно, ни одна семья в городе… Вечером я пришла в спальню мамы и сказала, что уже половина 12.
– Хорошо, зови детей в залу, – проговорила она, лениво приподымаясь с кушетки…
– В залу пожалуйте! – растворила я дверь детской. Там стоял шум, смех и крик, было, очевидно, весело; но при моих словах как-то все притихли, бросили играть в карты и, оправляясь и как-то зажмуриваясь на ходу, потянулись в залу. Там действующие лица находились вот в каком положении: мама сидела прямо на диване, облокотясь рукой на подушку: на лице ее, как и всегда, мне почти ничего не удалось заметить, кроме усталости и желания спать; Надя сидела у стены на кресле, закрыв платком половину лица; Валя помещалась наискось от нее на стуле; лицо у ней было опущено вниз, губы как-то насмешливо презрительно передергивались; Володя помещался подле мамы на диване, перебирал руками пуговицы; Шурка сидел около дивана на стуле; «посадила меня мама и сижу, а то меня накажут», – говорила его поза и лицо. Я была напротив дивана. Мы все сидели и молчали, лица у всех мало-помалу начали принимать выражение какой-то заспанности, отупелости. Мама почти уже спала, но взглядывала поминутно на часы и тихо ворчала за что-то на Валю; наконец она посмотрела в последний раз на часы, было без 11 минут 12.
– Вставайте, – сказала она; мы все машинально встали. Мама перекрестилась, и мы все начали молиться; не успела я сделать и трех крестов, как раздалась команда:
– Подождем, еще рано. – Все опять сели; время шло быстро, осталось полминуты, и снова все встали, начали молиться; молились долго. Встала с колен мама, подошла к столу, взяла рюмку, мы все тоже.
– Давайте чокаться, – сказала мама… На меня нашло какое-то отупение. Когда я чокалась с мамой, мне захотелось обнять ее, поцеловать и поздравить искренно; но, взглянув на холодные, тупые, ничего не выражавшие лица сестер, я отказалась от моего намерения: поцеловать маму при них мне показалось невозможным. Стали расходиться. В детской я увидела сестер, вошедших туда с оживившимися лицами, – они уже исполнили тяжкую обязанность…
Эту встречу Нового года я навсегда запомню: в ней ясно отразились отношения мамы к нам и наши к маме, в особенности последнее. Всякий раз, когда мы собираемся вместе, – молчим, не понимая, для какой цели пришли. С детства и до отрочества мы были отделены от матери целым рядом нянек и гувернанток; мы не знали матери, она не знала нас. Мы не привыкли передавать маме с малых лет свои впечатления, думы и чувства; мама нас об этом и не спрашивала; позднее же сойтись было труднее. Я очень люблю маму, но никогда между нами не было разговора, как говорится, «по душе»…
12 января. Сегодня два года, как умер папа. Упокой, Боже, его душу, и возьми меня поскорее. Жить здесь, на земле, мне незачем, только ссоры да раздоры поселяю в семье, а там, Господи, я хоть папу-то милого моего увижу. Боже Великий и Сильный, Боже Правый и Многомилостивый! Прости мне грехи мои, хоть не все, всех их простить нельзя, их очень много! Великая я грешница, недостойна я, видно, милости Божией: все живу и не умираю, но смилуйся, Господи, надо мною, возьми меня к себе поскорее!.. Вот в Евангелии и священных книгах читаю, что надо думать о спасении души; а я-то! Недавно читала в какой-то священной книге об адских муках: просто волос дыбом встанет. Царствию Божию не будет конца, и адским мукам тоже конца не будет! Я, наверно, попаду в ад за великие грехи свои и буду вечно там мучиться! Вечно! Господи, Боже! Прости ты меня за то, что я хотела не грешить, да ничего не исполняю! Ведь если меня рассердят серьезно, так я готова иногда не знаю что сделать и с этим человеком, и с собой! А это грех страшный, великий! Надо стараться не грешить, Господи, помоги мне в этом!
Вспоминаю смерть папы; все случившееся в этот день я помню очень ясно, и все-таки мне кажется, что как будто все это я видела во сне… – «Лиза, поди, посмотри папу-то», – шепотом зовет меня бабушка поздно вечером… Я вошла в комнату и увидела… Нельзя больше продолжать: надо Евангелие прочесть, – теперь тот час, когда умирал папа.
21 января. Боже мой! В пятницу из алгебры 3, сегодня – из физики 3. И это из тех-то предметов, по которым я в нынешнюю четверть по 5 получить хотела! Слов нет на языке человеческом, чтобы выразить мое мучение. Хуже этого я не знаю, что может быть! Что теперь делать? Все мои планы разрушены до основания: хотела все остальное полугодие заниматься на круглое пять, всегда все уроки приготовляла, и вот! Поправиться мне в эту четверть уже невозможно; и в следующую – тоже, потому что знаю, что мне с собой не совладать. Спросят тогда из физики же; посмотрю я на учителя, припомню вторую четверть, и… прости-прощай, твердо выученный урок: страшная злоба так и подымется во мне, я вся задрожу, забуду все и вся… пусть он говорит за меня, а я буду молчать… И из математики спросят: начну как следует, а потом – чем дальше в лес, тем больше дров, и дойду я наконец до того, что запутаюсь в ответе и не выпутаться! Вот тебе и надежды на этот год. Радуйся, Лиза, и веселись! Не для себя я хотела учиться на награду – мне кажется это смешным – а для мамы, чтобы ее утешить; теперь ни на какую награду совсем не имею надежды. Одно только меня смущает: ведь если я, вопреки своему желанию, перейду без награды, то обязана для мамы кончить с золотой медалью, – а как я буду учиться? Вдруг и тут у меня будет провал? Что тогда делать?
К Ал. Ник. сегодня пристал какой-то человек с требованием денег, грозя, в противном случае, убить, и показал ей нож. Она, конечно, страшно испугалась, проходивший мимо господин защитил ее от этого человека. Что, если бы он мне встретился! Пусть бы он убил меня, мне все равно, я только отдала бы ему свои серьги, больше у меня ничего нет. А хорошо, если бы я его встретила! Убил бы меня, и дело с концом! И за тройку из физики мама не стала бы сердиться. Боже, отчего не посылаешь Ты смерть тому, кто ее просит? Мне смерть – предмет первой необходимости: меня не станут бранить, не заставят французских правил из Игнатовича учить, не будут из физики и математики спрашивать и тройки ставить; не будет Шкалик выговаривать, не буду я больше бояться – «вот спросят»…
10 февраля. Читаю «Исторический Вестник» и даже жалею, что взяла его: зависть берет к иным людям. Вот, например, «Воспоминания г-жи Головачевой-Панаевой». Сколько интереса! Сколько видела она, с какими образованными людьми находилась с самого детства! Еще ребенком она вращалась в театральной среде, потом вышла замуж за известного литератора И.И. Панаева, очутилась между литераторами. Она теперь, наверное, старуха, старше моей бабушки, а сколько она знает! Если ей с малых лет приходилось вращаться в той среде, где главное – искусство, требующее более или менее умственного развития, то как же тут не позавидуешь! У г-жи Головачевой отец и мать Брянские – артисты императорского театра, у них постоянно бывало большое общество, актеры и театралы, – есть что вспомнить, даже и с раннего детства. А потом – какое у нее бывало блестящее литературное общество! Островский, Некрасов и другие!.. А что мне вспомнить в прошлом? – В глухой провинции, ни одного интересного знакомства…
18 февраля. Сегодня умерла мамина няня. Царство ей небесное! Уже давно она хворала, но все выздоравливала, хотя и стара была – 89 лет. Многое она видала на своем веку и все почти помнила. Умная, добрая, славная была няня!
– Все мы умрем, да только не в одно время, – сказала Александра, – сколько ни живи, а два века не проживешь.
Вот своего рода философия. Хотя я и очень редко разговариваю с прислугой, но почти после каждого из этих разговоров невольно раздумаешься, как они объясняют так ясно и просто то, над чем ломают себе многие головы. У нас прислуга вся своя, нерехтская, не тронутая нынешней «лакейской цивилизацией». Вот, например, Александра, она несчастлива с мужем, но никогда на это не жалуется, ей и в голову не приходит, что можно было бы жить лучше: «Ничего не поделаешь, уж на то Божья воля» – таков у нее ответ на вопрос, отчего это так, а не иначе. И с этим убеждением люди живут, родятся, растут и умирают; и нет у них никаких «почему», которые часто портят жизнь образованному человеку, и живут, тихо, смирно, ничего не зная, и про них никто ничего не знает. Один Бог ведает всех людей и дела их…
19 февраля. Нет, верно, я всегда буду одна; скучно, что нет никого кругом, но я никогда не даюсь этой думе; и если бы я дала себе волю – тоска бы заела меня, это уж я чувствую, только сдерживаю ее, – ну и цела. Теперь мне бы хотелось иногда, очень редко, впрочем, с кем-нибудь поговорить, рассказать о чем-нибудь, посмеяться, и если бы была здесь А.Н. – мне бы никакой подруги не нужно было бы, потому что она единственный человек, которому я могу сказать все. О, как мне тогда было бы хорошо! Но, кажется, я начинаю «faire des ch?teaux en Espagne»
; этому не бывать, ну и писать про это нечего.
26 февраля. Не хочется идти мне в гимназию, противны стены казенные; поневоле возненавидишь их, когда бродишь одна в классе или в дортуаре: все холодно, мертво так кругом… Теперь, как говорится, все наши учителя «запороли горячку»: программы, повторения, билеты – все пошло в ход. Настал черед учителей разевать рот и уши развесить, чтобы успеть все услышать и проглотить то, что им мы будем говорить со своих скамеек. Ох-хо-хо! Учимся, учимся, вот я, например, до 6-го класса дошла, и все-таки у меня голова пустая бочка. Ведь как, например, мы готовимся к экзамену. Положим, сдали русский, а дня через три алгебра и геометрия. И вот, по выходе из класса, мы стараемся выкинуть из головы всю программу русского языка, чтобы снова набить ее математикой; кончится математика – вытряхивай все математическое, чтобы набить ее историческим, и так до конца экзаменов. Когда же они кончатся, то у учениц в голове получается результат: у неспособной – осталась в голове программа последнего экзамена, потому что ее не для чего уже было вытряхивать, и те обрывочки от программ других предметов, которые как-то успели уцелеть в ее голове; у способной – вся программа последнего предмета и обрывки программы предпоследнего, а про первые экзамены и говорить нечего, – почти что все бывает позабыто (когда забываешь – даже лучше, – в голове просторней бывает); у зубри-зубрящей все от зубрения в голову иногда заседает довольно крепко и только, но своего они никогда почти ничего не могут прибавить к выученному. Ну, да Бог с ними, с экзаменами-то, ведь еще не настали!
Ал. Ник. сказала, что чахотка заразительна. Я была в восторге. Значит, стоит мне прийти к больной Лизе, поцеловаться с ней несколько раз, подольше посидеть и заражусь. Я чуть было на стуле не подпрыгнула, но Ал. Ник. сказала, что можно заразиться, находясь постоянно с больным, и притом долгое время, а я ведь самое долгое могу сидеть у Лизы – час!..
18 марта. Пятыми овладела бешеная стихомания: влюбляются и стихи сочиняют. «Обожают» – и признание в любви в стихах… Дурочка Дуня – и та тоже что-то про любовь сочинила, да рифмы подобрать не сумела и за ужином просит мою тетушку:
– Сочини мне рифму на «ешь».
– Горошку поешь – говорит, а сама так и хохочет (у них горох был).
– Да нет, – кричит Дуня, – у меня в стихе: ты всех в себя влюбляешь.
– В таком случае можно: и горошек поедаешь…
– А, а, а, – разревелась Дуня, – вы все надо мной насмехаетесь, я про вас классной даме скажу!
Так и не сочинила стиха Дунечка. И я, точно нарочно, вчера переложила элегию «Брожу ли я» на гимназические чувства и сегодня прочла ее в классе; всем понравилась, многие списали. После мне говорит С.:
– Лиза, милая, напиши стихи!
Думая, что она просит в альбом ей написать, соглашаюсь.
– Да мне не то! Ты мне про меня, сама сочини, да подлиннее!
Я так и вытаращила на нее глаза: я – и вдруг стихи пишу!
– Ты ведь меня знаешь и напиши про меня; ты так хорошо элегию переложила.
Эх, не может понять человек, что перекладывать и самой сочинять – две вещи разные. А в общем – к воспитанницам надо позвать, нимало не медля, врача-психиатра.
25 марта. Подруга Соня свободно владеет формой стиха, как легко читать ее стихотворения! Всего их 6, небольшие, в три, пять и шесть куплетов, и видно, что у Сони есть талант. Сестра Валька тоже сочиняет, попадаются иногда недурные строфы, но она еще не сочинила такого стихотворения, где бы не было ни одной неподходящей рифмы, ни одной глупости: слово «плач», напр., она рифмует «калач». А вот у меня таланта ни к чему нет, да я об этом и не думаю и не жалею…
26 марта. Я часто воображаю себя умершей: лежит тело, моя бывшая оболочка, от которой я только что освободилась, я в воздухе невидима, но вижу и слышу все. Мое тело кладут на стол, совершают над ним панихиды, плачут (впрочем, это едва ли), кладут в гроб и зарывают в землю. Когда же зароют мое тело в землю, тогда я пойду отдавать отчет Богу о том, что я сделала в течение своей жизни… В смерти нет ни для кого разницы: умирает Царь, умирает в тот же день и минуту и последний рабочий, – и души обоих одинаково летят к Богу, отдают Ему отчет о делах своих, и идут потом каждая в место, уготованное им Богом… Завидовать некому: все временное; а когда сравнишь нашу жизнь с вечностью, то сделается страшно, страшно до того, что я раз чуть было не вскрикнула от ужаса, когда стала представлять себе вечность. Но сколько ни думай человек, он себе не может ничего представить бесконечным, такова природа людская, хотя и говорят «его никогда не забудут, память его вечна», но если бы действительно вздумали себе представить это «вечно» и «никогда», то никогда не представили, бы. Человек не в состоянии представить себе, ужас объемлет его, когда он углубится в слово «вечно», и мы до того привыкли к временному, что неспособны стоять спокойно перед вечностью. Вот почему умирающие очень часто бывают тревожны: дух человека смущается при переходе в вечность. Только те и умирают спокойно, кто жизнь свою провел безупречно…
31 марта. Вот тебе и ученье: ведь с удовольствием бы стала рисовать, да если нет возможности. – Где это видано, чтобы ученицы говорили «не хотим рисовать», а учитель их слушался! Господи, дай мне нож, и я зарежу его! Ведь такое зло сегодня меня взяло, искусала себе все руки, все пальцы, чтобы только сдержаться, на пол бросилась, руки стала о стол ударять изо всей силы…
15 апреля. Скоро пойдет умственная сумятица. Помогай, Господи, вкладывать всю чужую ученость в наши головы от начала исторических времен…
В Париже выставка открывается 6 мая. Вот бы поехать! Мама только головой качает: куда, говорит, с вашим состоянием тратиться! И чем больше мама так говорит, тем больше она убеждает нас жить в будущем скромно; и чем дольше мы так уединенно живем теперь – тем сильнее мне хочется вырваться на волю, уехать куда-нибудь далеко-далеко от такой монотонной жизни. Во мне сидит какой-то бес, самый непокойный; иной раз я бегаю, как сумасшедшая, по всему дому, страшно хочется мне убежать куда-нибудь, не сидеть смирно за книгой… А тут мама со своими нотациями, сестры с зубреньем, горничные с книжками от лавок и Михайло со сдачей от говядины. – Эх, жизнь, жизнь…
30 апреля. Первый раз в жизни была в опере, давали «Жизнь за царя». Боже мой! Примадонна труппы, г-жа М., поет, как немазаное колесо скрипит. А хористки, хористки! ведь это ужас, так бы их всех без передников и наказала: с высокой прической и розетками на голове, напудрены, с подведенными глазами, с завитыми челками, у одной даже волосы распущены, и рожи, рожи! А сарафаны! На Марьице надет корсет и теперешний русский костюм, а у хористок, у всех без исключения – турнюры! Визгливые голоса хористок, скрипучее колесо Марьицы при подобных костюмах – эффект! Понравились мне мужчины, только, по-моему, Ване следовало бы не так румяниться и пудриться, а сделать бы себе лицо погрубее, загорелое, более подходящее к деревенскому мальчику. Но после сцен мужчин на сцену вновь являются хористки – и прости-прощай приятное впечатление. Хохотать и злиться хочется, глядя на этих несчастных певиц…
3 мая. Вчера был экзамен русский письменный; тема была простая: «Типы недоброжелателей науки по первой сатире Кантемира». Ее я плохо помнила, и сочинение вышло неважно. Плохи дела! И французский скверно, да и русский тоже! Ну, что же делать, не реветь же из-за неудачи! Не могу не записать: одна из нас, описывая тип Сильвана, написала: «Зачем учить геометрию? (так у автора. – Прим. ред.) Наймешь извозчика, заплатишь ему деньги, повезет куда угодно!» – И это пишет 17-летняя девица! Каково? Чего, кажется, труднее связать слова Простаковой со словами Сильвана, а у нас и это ухитрились сделать. Я думаю, кости Фонвизина и Кантемира перевернулись бы в могиле, когда бы они могли слышать, как перевираются их сатиры!
5 мая. Вот сегодня ровно год, с тех пор как я начала вести заметки. Я вчера прочитала их немного сначала: смешное все такое написано… И вот год. Ничего дома не переменилось, ни одной вещицы, порядок, день – все то же, что и вчера, и прошлый год были! Я читала дневник Полевого (1837–1838); он в конце восклицает: «Что за жизнь! Это жизнь?!» И действительно, ему можно воскликнуть так, у него жизнь была каторгой работы журнальной. А мне отчего не сказать: наше житье отчасти и не жизнь, а что-то среднее между спаньем и едой; впрочем, этому я уже давно перестала удивляться.
Валя просила разбудить ее сегодня в два часа ночи, она никак не может выучить билетов из географии. Я, ложась спать, должна прийти к ней в комнату и разбудить ее, и для этого она вечером сунула мне в щелку двери следующие стихи:
Тебя, о Лиза, умоляю!
Я географии совсем не знаю!
Когда моя дражайшая Надюшка
Прекрасным крепким сном заснет –
Сейчас же мягкая подушка
И одеяло на пол перейдет.
Лишь только все угомонятся
И дрыхнуть станут как сурки, –
Тогда ты можешь и подняться,
И в нашу комнату взойти.
И вот, вся в белом, или в черном,
Тихонько дверь ты отомкни,
Одним толчком, толчком лишь смелым
Меня ты, соню, разбуди.
Теперь сиди до двух часов, чтобы
Вальку разбудить, а мне спать хочется…
13 мая. Вчера днем, помолившись в часовне, иду в гимназию переулком, а мне навстречу трое нищих просят денег. Сперва я отказала, но потом нагнала их: – У меня нет денег, хотите взять мои сережки? – «Давай, давай, матушка» – был ответ. Сама не помню, как отстегнула и сняла серьги – бабушкин подарок – и положила в руку одной старухе. – Они золотые, – сказала я ей и поскорее ушла вперед. Какое-то странное чувство испытывала я, когда ушла от них; определить это чувство я не умею, но оно с такою силою всю меня охватило, что я даже разозлилась. Отчего это бывает?.. Отсутствие серег моих никто не заметил, пока никто ничего не знает.
15 мая. Вчера похоронили Лизу… умерла от чахотки. Упокой, Боже, ее душу! Последний раз я ее видела в марте, и тогда уже видно было, что недолго ей жить, что она уже «не от мира сего», так странно говорила и смотрела, – рука – как палочка, самая тоненькая. Лиза, Лиза! И умерла-то ты среди казенщины, и никого близких при тебе не было. Говорят, что ее хорошо похоронили наши, много плакали; это немудрено: хорошая, славная была она. Досадно, что я не была на похоронах и даже не знала, когда она умерла! Надо как-нибудь летом собраться на кладбище, узнать, где она похоронена. Вот, мы на земле остались и экзамены держим, а Лиза-то ведь где теперь? Теперь она знает все, все, что на земле делается; ведь она жива, но только не здесь.
Я себе смерть так объясняю: живет человек, думает, говорит, все его действия мы видим; умер человек, т. е. вылетела от него душа – и тело не движется, лежит. А душа-то ведь все та же. То, что мы называем «я», всегда будет живо и никогда не умрет; «я» – это не эгоистическое выражение; по-моему, «я» – это сама душа, одушевляющая тело. Когда мы повторяем «я» несколько раз кряду и смотрим в то же время на руки, ноги, плечи, мы чувствуем, что не это, не тело наше составляет «я», а что-то такое внутри нас, и что «я» только заключается в этой оболочке. Посредством «я» мы чувствуем, ходим, говорим, словом – проделываем все то, что проделывают и все люди; но нет «я» – и мы ничего не можем сделать! Посредством «я» совершается все лучшее и все худшее в мире: «я» властвует над другими, «я» разрушает царства, города, истребляет народы. И вот, смерть извлекает «я» из тела, и какие бы великие дела ни творило «я» – все-таки тело его беспомощно, и оно уже не может действовать без «я», а это «я» отдает отчет Богу о своих делах и поступках. «Я», живое, вечное из вечных, живущее частью на земле – в теле, а частью в небе – освобожденное от тела, часто приводит меня в ужас: «Я, я, я», до бесконечности живущее!
О, Господи Боже, как ничтожен человек, пред этим вечным живым «я». Великий ужас обнял бы человека, если бы он непрестанно помышлял о вечности этого «я» и сознавал бы вполне, что его «я» когда-нибудь освободится от тела. Это такой страх, такое чувство собственного ничтожества, что пред ним бледнеют самые жестокие муки, потому что «я» вечно, а земные мучения временны. Смерть – освобождение «я» от тела; я знаю, что «я» живо, никогда не умрет; что когда-нибудь мое «я» увидит в другом мире и это «я». И вот, странное чувство возбуждает во мне вид мертвого тела: другие плачут над ним, как будто человек и действительно умер, я же вижу только в теле ту оболочку, в которой «я» жило на земле; а так как «я» сохраняет все свои способности и познания, приобретенные на земле, то его-то и следует признавать, собственно, человеком, а тело только его оболочкой. Раз «я» живет вечно, то, следовательно, и человек не умер, а только «я» оставило тело. Поэтому-то мне и странно, при виде этой оболочки, лежащей в гробу, видеть слезы об этом человеке: плакать можно только об «я» и просить Бога простить ему его согрешения, вольные и невольные. Вот и Лиза, ведь она живет теперь, но только в другом месте; и я когда-нибудь увижу ее и узнаю, каково ей.
Вчера, когда я узнала, что она умерла, я пошла поскорее к себе, помолилась и открыла Евангелие наудачу, чтобы потом истолковать то, что откроется. И открылось мне: Евангелие от Иоанна, глава 11-я, стих 26: «И сверх того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят». После этого я еще два раза открывала Евангелие, но не попадала на более подходящее к смерти. Сейчас я открываю вновь Евангелие от Иоанна, глава 16-я, стих 25: «Но Авраам сказал: Чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое от жизни твоей, а Лазарь злое; ныне же он здесь утешается, а ты страждешь». Как истолковать эти слова?.. Лиза, Лиза! Вот и меня тоже зовут Елизаветой; и молясь – упокой, Боже, душу новопреставленной рабы Твоей Елизаветы – воображаю, как и надо мной будут читать молитву эту, петь заупокойные стихи. Господи, тогда-то мне хорошо будет!
Лиза, Лиза! И зачем только ты умерла?! Если бы я плакать умела, я бы не по-человечески заплакала, но плакать я не умею, как по-настоящему плачут. Вот злиться – умею, до того, что всех, кто разозлит, могу зарезать; руки себе до синяков кусаю и перочинным ножом режу, если разозлиться явно невозможно…
25 мая. Завтра экзамен «физичный», и последний. Да, дела!.. Сегодня от тети получено письмо из Берлина с 2 марками, по 10 пфеннигов каждая; и я не только не могла узнать содержание письма, но даже мне не позволяли взять хоть одну из заграничных марок. Дверь мамаши моей заперта сегодня… и подумаешь из-за чего? – Только сказала маме: не проходи, пожалуйста, через мою комнату, надо ведь заниматься! Мама дошла до двери своей комнаты, и через минуту же, точно маленькая, снова к двери. Тут уж я не вытерпела: так, мама, и учиться невозможно! И что же? Дверь в мамину комнату, прежде бывшая лишь притворенною, с шумом захлопывается на задвижку и уже весь день не отпирается. И чего-чего только к этому случаю не было пристегнуто: и что-то о манерах, и что-то о благодарности, и что-то о пирожном, и «я тебе покажу, кого ты должна слушаться», на что я, помню, тихонько ответила: «пожалуй». В результате, конечно, брань, и уже не «дрянь-девчонка», а нечто посильнее, похуже и вообще для человеческого достоинства пооскорбительнее… Действительно, я могу быть, ну, хоть дрянью, но тем, чем Бог сотворил не людей, а свиней, и даже вообще никого не сотворил, – я не могу быть не только по законам человеческим, но и по закону природы. Я не слыхала от мамы и таких слов и таких поступков уже давно, и странно, что ничего мне от этого не сделалось: все слушала спокойно, точно не мне говорят. А коли отвыкнешь от таких сцен – трудненько ведь к ним потом привыкать…