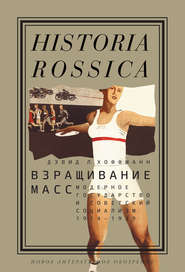скачать книгу бесплатно
Взращивание масс
Дэвид Л. Хоффманн
Historia Rossica
Американский историк Дэвид Хоффманн не согласен с историками, которые рассматривают СССР как аномалию исторического развития. Книга представляет историю советского государства в контексте идей и практик, свойственных многим государствам периода модерна. Исследование показывает, что нельзя относить все аспекты советского вмешательства в жизнь общества на счет идеологии социализма. Социалистическая идеология основывалась на идее трансформации общества, которая была общей для государств ХХ века. Преступления советского режима не становятся менее ужасными в результате такой «нормализации», однако особенности советского государства выделяются более четко. Дэвид Хоффманн – профессор Университета штата Огайо (Ohio State University) в США.
Дэвид Л. Хоффманн
Взращивание масс
Модерное государство и советский социализм. 1914–1939
Cultivating the Masses. Modern State Practices and Soviet Socialism, 1914–1939, by David L. Hoffmann
Первоначально опубликовано Cornell University Press
Редакционная коллегия серии HISTORIA ROSSICA
Е. Анисимов, О. Будницкий, А. Зорин, А. Каменский, Б. Колоницкий, А. Миллер, Е. Правилова, Ю. Сле?зкин, Р. Уортман Редактор серии И. Жданова
Cultivating the Masses. Modern State Practices and Soviet Socialism, 1914–1939, by David L. Hoffmann
Первоначально опубликовано Cornell University Press
© 2011 by Cornell University
Перевод авторизован оригинальным издателем.
В оформлении издания использованы иллюстрации из Poster Collection, Hoover Institution Archives
* * *
Моему сыну Джоне
Благодарности
Работая над предыдущей книгой, я затронул в числе прочего и такую тему, как семейная политика СССР, в первую очередь политика укрепления семьи, начатая сталинским руководством в 1936 году. В действиях по поддержке семьи, которые предпринимались лидерами коммунистической партии, мои предшественники видели одно из проявлений «Великого отступления» – отказа от революционных ценностей и возвращения к более традиционным учреждениям и традиционной культуре. Но когда я отвлекся от Советского Союза, то с удивлением обнаружил, что в этот же период практически все страны Европы ввели аналогичные меры по поддержанию института семьи и увеличению рождаемости. Сталинская семейная политика стала для меня одним из проявлений вполне международной тенденции к государственному контролю за воспроизводством населения. В середине 1990-х годов я укрепился в этих своих взглядах – после ряда разговоров с моим другом Питером Холквистом, который при изучении надзора за населением использовал сравнительный подход. Рассмотрев советскую слежку за гражданами в общеевропейском контексте, Питер смог доказать, что методы, использовавшиеся в ходе Гражданской войны в России как красными, так и белыми, были результатом развития тех мер надзора, которые применялись в ходе Первой мировой войны всеми крупными воюющими государствами.
После еще нескольких дискуссий мы с Питером решили совместно написать книгу, в которой проводился бы анализ советской политики в сферах социального обеспечения, здравоохранения, воспроизводства населения, надзора, пропаганды и государственного насилия, причем все было бы вписано в международный контекст. Мы решили, что подобный подход позволит увидеть советскую систему в новой перспективе и покажет, насколько важна история СССР для понимания общих тенденций мировой истории в ХХ веке. К сожалению, Питер в скором времени оказался слишком занят другими проектами, что помешало ему принять участие в осуществлении нашего плана. Тем не менее он внес свой вклад в черновой вариант первой главы этой книги и предоставил мне собранные им материалы по теме надзора и государственного насилия. Как видно из моих примечаний, я также в большой степени опирался на его опубликованные работы, особенно в разделах, посвященных надзору (где бесценную помощь мне оказало еще и первое в своем роде исследование Владлена Измозика). С тех пор как Питер покинул проект, прошло почти десять лет и мой образ мыслей заметно изменился, поэтому ответственность за высказанные в этой книге идеи несу только я один. Тем не менее хочу отметить важнейшую роль, сыгранную Питером на первом этапе работы, и поблагодарить его за замечания, которые он делал, просматривая черновики глав этой книги. Он выдающийся ученый и хороший друг, и его воодушевление, а также энциклопедические познания в истории, как и острый аналитический ум, очень помогли не только мне, но и многим другим ученым, занимающимся историей России.
Мое исследование читали и другие друзья и коллеги, которых я тоже хотел бы поблагодарить. Из трех рецензентов, прочитавших всю рукопись, двое уже не являются анонимными – Майкл Дэвид-Фокс и Линн Виола. Их доклады, как и доклад третьего рецензента, оказали мне большую помощь – не только горячей поддержкой моего труда, но и острыми критическими замечаниями, позволившими его улучшить. Дэниел Бир, Фрэнсис Бернштейн, Алекса Джилас, Лора Энгельштейн, Томас Эвинг, Изабель Халл, Янни Коцонис, Кеннет Пинноу, Эми Рэндолл и Сьюзен Гросс Соломон высказали в высшей степени полезные замечания по поводу различных глав рукописи. Я выступал с докладами на многочисленных конференциях и хочу поблагодарить тех, кто мои выступления комментировал, – Брайена Бонома, Нормана Неймарка, Дэвида Ширера и Рональда Григора Суни. Одну из глав я представил на рассмотрение в Калифорнийском университете в Беркли и благодарю за высказанные замечания Викторию Фреде, Генри Рейхмана, Николаса Рязановски, Юрия Слёзкина, а также покойного Реджинальда Зельника, активно поддержавшего мой сравнительный подход, позволяющий, как он отметил, подчеркнуть и типичное, и, напротив, исключительное в советских методах управления. Другую главу я представил на рассмотрение в Стэнфордском университете и хотел бы поблагодарить Холли Кейс, Стюарта Финкеля, Эндрю Дженкса, Нэнси Коллманн, Марси Шор и Амира Вейнера за их замечания. На симпозиуме по сталинизму в Университете штата Огайо Шейла Фицпатрик не только выступила с основным докладом, но и сделала ценнейшие замечания по моей работе, заставив меня провести более тонкое различие между сталинизмом и технократией в управлении. Еще одну главу я предложил на рассмотрение на Среднезападном семинаре по русской истории и хотел бы поблагодарить всех участников этого семинара, в особенности Джона Бушнелла, Бена Эклофа, Дайану Кункер, Дэвида Макдональда, Карен Петрон, Дэвида Рэнсела, Кристину Руан, Марка Штейнберга, Чарльза Штейнведеля, Льюиса Сигельбаума и Кристину Воробец.
Кроме вышеперечисленных ученых, я обсуждал свое исследование с другими друзьями и коллегами по научным интересам и ценю их советы и поддержку. В их числе Гольфо Алексопулос, Роберт Ардженбрайт, Франческо Бенвенути, Питер Блицстейн, Фредерик Корни, Сара Дэвис, Адриенн Эдгар, Дональд Фильцер, Делия Фонтана, Венди Голдман, Энн Горсач, Пол Хагенло, Игал Халфин, Джеймс Харрис, Дэн Хили, Йохен Хелльбек, Фрэнсин Хирш, Адиб Халид, Олег Хархордин, Олег Хлевнюк, Натаниэль Найт, Стивен Коткин, Ларс Ли, Лори Манчестер, Эми Нельсон, Елена Осокина, Дональд Рейли, Джеффри Россман, Андрей Константинович Соколов, Кеннет Страусс, Поль Вальер, Марк фон Хаген, Элизабет Вуд и Сергей Журавлев.
Я счастлив, что в Университете штата Огайо собралась выдающаяся команда специалистов по истории России, Восточной Европы и Евразии, команда, в которой были Николас Брейфогл, Молли Кавендер, Теодора Драгостинова, Скотт Леви и Дженнифер Зигель. Все они – образцовые коллеги, создавшие уютную и вдохновляющую рабочую атмосферу. Друзья, специализирующиеся в других областях, тоже многим помогли мне – в особенности хочу поблагодарить Анджелу Бринтлингер, Элис Конклин, Стивена Конна, Теда Хопфа, Дэвида Хорна, Робин Джадд, Стефани Смит, Бергит Соланд и Джуди Ву, а также Кристофера Оттера, своими обширными познаниями в истории Европы оказавшего мне неоценимую помощь. Аарон Ретиш, Уильям Риш и Трисия Старкс, мои бывшие аспиранты, с тех пор уже достигшие успеха в научной среде, комментировали главы моей книги, и я благодарю их за сделанные ими предложения. Нынешние аспиранты Университета штата Огайо тоже вдохновляли меня и оказывали помощь. В первую очередь это касается Йигита Акына, с которым я провел немало плодотворных дискуссий об исторических параллелях между Советским Союзом и республиканской Турцией и от которого получил полезные библиографические указания. Чтобы разобраться в бесчисленных этнических группах Северного Кавказа, мне потребовались глубокие познания Яна Ланцилотти. Сара Дуглас и Джон Джонсон предложили свою помощь в то время, когда я готовил рукопись книги к публикации.
В моих исследованиях мне помогли несколько грантов, выделенных на путешествия Центром имени Мершона, а также творческий отпуск, предоставленный мне Колледжем искусств и гуманитарных наук Университета штата Огайо. Я работал в многочисленных архивах и библиотеках и хочу выразить благодарность их сотрудникам за помощь. В России я работал в Центре хранения документов молодежных организаций, Центральном государственном архиве города Москвы, Центральном архиве социально-политической истории Москвы, Российском государственном архиве экономики, Российском государственном архиве социально-политической истории и Государственном архиве Российской Федерации. Кроме того, я работал в Государственном архиве Великобритании и Гуверовском архиве в США. Я пользовался услугами Библиотеки Конгресса, Библиотеки Национального института здоровья, Нью-Йоркской публичной библиотеки, библиотек Университета штата Огайо, Российской государственной библиотеки, библиотек Стэнфордского университета, Библиотеки Иллинойского университета и Библиотеки Гарвардского университета имени Уайденера. Александр Полунов оказал мне экспертную помощь в моих исследованиях в Москве, и я благодарю его за все, что он для меня сделал. Также я признателен моим друзьям Саше Мейснеру, Лизе Тихомировой и Юлии Трубихиной – за их многолетнее гостеприимство в Москве.
Хочу выразить свою благодарность сотрудникам Издательства Корнелльского университета. Директор издательства, Джон Аккерман, активно поддерживал мой проект с самого начала и, обладая глубочайшими познаниями в русской истории, одаривал меня важными замечаниями и предложениями. Кроме того, я признателен Карен Лор за редактуру рукописи, Джеку Раммелю за литературную обработку, а Джудит Кип за составление указателя – все они много сделали, готовя рукопись книги к публикации.
Самое большое спасибо – членам моей семьи за их неизменную любовь ко мне и поддержку. Мои родители, Джордж Хоффманн и Ирэн Л. Хоффманн, а также мои сестры, Джилл и Карен Хоффманн, поддерживали меня всеми возможными способами, и я им в высшей степени благодарен. Моя жена, Патрисия Вейцман, – спутница моей жизни и родная душа, человек, которому я всегда могу доверять и на которого могу положиться. Она прочла и прокомментировала бесчисленные черновики глав этой книги и обсуждала со мной мою работу, давая таким образом возможность лучше прояснить мои мысли. Кроме того, она помогала мне не падать духом, несмотря на трудные моменты, и всегда радовалась моим успехам. Я бесконечно признателен за ее неизмеримую любовь и за то счастье, что она мне подарила. Наконец, я должен упомянуть своих детей, Сару и Джону. Их присутствие заметно отсрочило завершение этой книги. Однако я ни на миг не сожалею о том времени, которое потратил, заботясь о них. Напротив, они придали моей жизни много смысла и радости, и я ценю время, проведенное с ними. Как они часто напоминают мне, будет нечестно, если я что-то сделаю для одного из них и не сделаю для другого. Поэтому, уже посвятив одну книгу Саре, эту книгу я посвящаю Джоне.
Введение
Наши дети цветут на живом стволе нашей жизни, это не букет, это прекрасный яблоневый сад. И этот – наш… Будьте добры, займитесь этим делом: вскапывайте, поливайте, снимайте гусеницу, обрезайте сухие веточки. Вспомните слова гениального садовника, товарища Сталина…
Антон Макаренко.
Книга для родителей. 1937 год
Людей надо заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращивает облюбованное плодовое дерево.
Иосиф Сталин.
Выступление на приеме металлургов. 1934 год
Сталинский режим был одним из самых репрессивных и жестоких в истории человечества. Под руководством Сталина советское правительство провело огромное число депортаций, арестов и казней. По официальным данным, только в 1937–1938 годах советские службы безопасности казнили 681 692 человека[1 - Верт Н. Государство против своего народа: Насилие, репрессии и террор в Советском Союзе // Черная книга коммунизма. Преступления. Террор. Репрессии / Пер. с фр. 2-е изд. М.: Три века истории, 2001. С. 193–194.]. Но парадоксальным образом в то самое время, когда советское руководство убивало сотни тысяч людей, оно вместе с тем стремилось увеличить население страны, для чего вело масштабную кампанию по поддержке рождаемости. В то время как число заключенных и казненных росло по экспоненте, лидеры коммунистической партии вводили широкомасштабное социальное обеспечение, а также меры по здравоохранению, имевшие целью улучшить жизнь людей. Повышенный государственный надзор за населением шел рука об руку с кампаниями по ликвидации безграмотности, политическим образованием и попытками научить народ ценить высокую культуру. Советская власть стремилась не подчинить общество и не уничтожить самосознание людей, а вырастить образованных, культурных граждан, которые смогут преодолеть эгоистичные мелкобуржуазные инстинкты и добровольно принять участие в создании гармоничного общественного порядка[2 - Примеры исследований, рассматривающих как продуктивные, так и репрессивные аспекты советской власти: Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley, 1995. P. 21–22; Hellbeck J. Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin. Cambridge (Mass.), 2006. P. 5–14.]. Изучение как «позитивной», так и «негативной» политики партийного руководства в отношении населения – единственный способ понять сущность сталинского режима, стремившегося переделать не только социально-экономический порядок, но и саму природу своих граждан и готового для осуществления данных целей к абсолютно беспрецедентному вмешательству в их жизнь.
В этой книге социальная политика СССР предстает как особое сочетание практик модерного государства, связанных со стремлением переделать общество и мобилизовать народ на промышленный труд и массовую войну. Советская социальная политика отражала новый дух, при помощи которого советские руководители и ученые старались переделать общество, приведя его в соответствие с научными и эстетическими нормами[3 - Ряд теоретиков выделили в качестве определяющей черты модерна рациональное общественное управление. См.: Giddens А. The Consequences of Modernity. Stanford, 1990. Р. 53, 83; Scott J. C. Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven, 1998. Р. 4; Bauman Z. Modernity and the Holocaust. Ithaca, 1991. Р. 12–18. Некоторые историки сталинизма противопоставляют «модерн» и «неотрадиционализм», но эти два подхода на самом деле дополняют друг друга. Неотрадиционализм – это выборочное использование традиций для мобилизации народа, практика, характерная для современной политики в отношении масс. См.: Hoffmann D. L. European Modernity and Soviet Socialism // Russian Modernity: Politics, Knowledge, Practices / Eds.. D. L. Hoffmann and Y. Kotsonis. New York, 2000. Р. 247. Понятие неотрадиционализма может также обозначать традиционные социальные связи, продолжающие действовать в современном индустриальном обществе. См.: Walder A. G. Communist Neo-Traditionalism: Work and Authority in Chinese Industry. Berkeley, 1986.]. Этот рационалистический дух социального вмешательства впервые зародился в Европе в XIX веке, проникнув в самые разные страны и вызвав к жизни программы социального обеспечения, инициативы по созданию общественного здравоохранения и репродуктивную политику. Начало массовых войн сделало социальное вмешательство более интенсивным. Особую роль сыграли громадные мобилизационные требования Первой мировой войны, заставившие руководство всех воюющих стран повысить степень экономического контроля, расширить меры здравоохранения, надзора, пропаганды и государственного насилия – все эти черты впоследствии станут неотъемлемыми элементами советской системы.
Хотя многие характеристики Советского Союза были типичны для модерного государства, он, конечно, не соответствовал западноевропейской модели модерна, соединявшей в себе национальное государство, промышленный капитализм и парламентскую демократию[4 - Как отмечали ученые, страны Западной Европы и сами часто не соответствовали этой идеализированной формуле модерна. См.: Wittrock В. Modernity: One, None, or Many? European Origins and Modernity as a Global Condition // Multiple Modernities / Ed. S. N. Eisenstadt. New Brunswick, 2002. Р. 34–35.]. Советские лидеры отвергали «буржуазную демократию», предпочитая авторитарную некапиталистическую систему, которая, по их заявлениям, правила в интересах рабочего класса. Будучи первым социалистическим государством, Советский Союз представлял собой огромный идеологический вызов для капиталистического мира. Как сторонники, так и противники советской системы считали ее аномалией в сравнении с Западом. Но при осуществлении исторического анализа было бы странным постулировать, что западный модерн является нормой, камертоном для измерения всех других политических систем. В последнее время появилась теория «множественных модернов». Этот подход, признающий, что в современную эпоху существуют различные траектории развития[5 - Eisenstadt S. N. Multiple Modernities // Multiple Modernities. Р. 1–3. Эта концепция применяется к истории России в кн.: Smith S. A. Revolution and the People in Russia and China: A Comparative History. Cambridge, 2008. Р. 5–6; David-Fox М. The Intelligentsia, the Masses, and the West: Particularities of Russian-Soviet Modernity // Crossing Borders: Modernity, Ideology, and Culture in Soviet Russia. Pittsburgh, 2015.], дарит исследователям два заметных преимущества. Во-первых, позволяет избежать этноцентризма, свойственного теории модернизации, и избавляет от уверенности, что в конечном счете все страны придут к западному идеалу либеральной демократии и рыночного капитализма. Во-вторых, дает возможность рассмотреть как сходства, так и различия политических систем эпохи модерна. Исследуя советскую систему в рамках этой сравнительной парадигмы, я стремлюсь выделить и те черты, которые она разделяет с другими системами, и те, что являются ее исключительной особенностью, а также объяснить, почему советское социальное вмешательство достигло такого размаха.
Методы государства эпохи модерна и новые технологии социального вмешательства, появившиеся во многих странах мира, приняли весьма разные формы в зависимости от социальных, политических и идеологических особенностей этих стран. Рассматривая случай СССР, я считаю возможным объяснить эти отличия, опираясь на анализ исторически сложившихся особенностей страны. Речь идет об идеологии марксизма-ленинизма, но не только о ней. Немалую роль играли и социально-политические условия, в которых находились ученые дореволюционной России, когда разрабатывали свои идеи и методы. Почерпнув многое в западноевропейской мысли, они в большой степени вдохновлялись и собственными устремлениями – борьба с самодержавием, улучшение положения масс и обновление российского общества. В русской научной традиции было сильно развито воспитательное начало, хорошо сочетавшееся с марксизмом, что помогает объяснить, почему столь многие русские интеллектуалы выбрали именно марксизм. Впрочем хотя я признаю важность идеологии в советской системе, однако не считаю нужным сводить все к застывшему в неизменности марксизму. Для меня марксизм – лишь одна из многочисленных идеологий, один из многих методов трансформации общества. Несмотря на то что марксизм-ленинизм обладал священным статусом официальной идеологии советской компартии, он отнюдь не являл собой готовый чертеж нового общественного порядка, который стремились построить партийные деятели. Как покажет мое исследование, многие проявления социальной политики СССР были спланированы и осуществлены учеными, которые, не будучи марксистами, вместе с тем разделяли их взгляд на необходимость рационального переустройства общества[6 - Кеннет Пинноу подчеркивает, что взгляд российских обществоведов хорошо сочетался со свойственным большевизму сциентизмом. Он пишет: «Действия и вмешательства государства и его ученых определялись не только идеологией, но и допущениями и концептуальными инструментами социальной сферы» (Pinnow K. M. Lost to the Collective: Suicide and the Promise of Soviet Socialism, 1921–1929. Ithaca, 2010. P. 11).].
Кроме того, я рассмотрю место исторической случайности в развитии советской системы, а также взаимодействие между идеологическими целями и политическими обстоятельствами. Советское государство было сформировано во время тотальной войны, и учреждения военного времени вкупе с мобилизационными практиками стали кирпичами в здании нового политического порядка. В ходе Первой мировой войны государственное вмешательство распространилось по всей Европе, но в конституционных демократиях по окончании войны сразу возобладал прежний порядок. В СССР же государственное вмешательство было принято на вооружение без каких-либо традиционных или юридических ограничений. Кроме того, поскольку cоветское государство возникло в результате революции, стремление его политических лидеров переделать общество подвергалось куда меньшим ограничениям. Сама форма советского правительства – диктатура, действовавшая во внесудебном порядке и не признававшая никаких моральных требований, кроме тех, которые исходили от нее самой, – означала, что государственная власть ничем не ограничена. Поэтому, хотя социальное вмешательство распространилось по всей Европе и по всему миру, в советском случае оно приняло наиболее жесткие формы.
Преобразование общества
Истоки активного государственного вмешательства, характерного для современной эпохи, можно найти в камералистской мысли раннего Нового времени. Мыслители-камералисты первыми начали систематически анализировать связь между военной мощью государства и экономическим потенциалом его населения. Они считали, что государство должно активно способствовать созданию продуктивного общества, чтобы обогатить своих граждан и увеличить налоговые поступления. И, хотя рекомендации камералистов и предлагаемые ими экономические стимулы были в первую очередь устремлены на обогащение монарха и его армии, некоторые камералисты формулировали свой идеал упорядоченного общества как «общее благо». Этот термин постепенно зажил в трудах камералистов отдельной жизнью. К концу XVII века правители Центральной Европы приняли ряд камералистских мер. К примеру, в Австрии и Пруссии были построены работные дома, цель которых заключалась в выгодном трудоустройстве людей из низших классов[7 - Steinmetz G. Regulating the Social: The Welfare State and Local Politics in Imperial Germany. Princeton, 1993. P. 63, 112.].
Стремление к переустройству общества распространилось в XVIII веке – благодаря мыслителям французского Просвещения, стремившимся применить науку и разум к организации человеческой жизни. Идея радикального переустройства общества и даже сама идея общества как отдельной сферы человеческого существования, обе они были немыслимы в рамках традиционных религиозных представлений, когда Бог виделся единственным арбитром того, что происходит на свете[8 - Как пишет Кейт Бейкер, «общество смогло предстать образом коллективного человеческого существования лишь после того, как была сломлена онтологическая связь между Создателем и его созданиями, другими словами, когда перестало казаться, что человеческое существование зависит… от поддержки предопределенного и установленного свыше порядка отношений между людьми» (Baker K. M. A Foucauldian French Revolution? // Foucault and the Writing of History / Ed. J. Goldstein. Cambridge (Mass.), 1994. P. 195–196).]. Но мыслители Просвещения подвергали сомнению как существование Бога, так и святость традиции. А если Бог не управляет обществом, то не стоит ли людям самим сконструировать рациональный общественный порядок? Если наверху нет рая, не должны ли люди стремиться к созданию рая на земле – к построению идеального общества, со свободой, равенством и процветанием для всех? Хотя утопическим идеям и социальным наукам предстояло расцвести только в XIX веке, Просвещение уже поставило под сомнение традиционный образ жизни, вместе с тем создав модель социального знания, которая могла бы формировать общественную сферу и влиять на нее. Другими словами, в общественном порядке стали видеть творение самого человечества, а не нечто предопределенное и неизменное, и социальные учения предлагали средства к улучшению этого творения.
В конце XVIII столетия Французская революция показала, что существующий общественный и политический порядок действительно можно переделать. Тем самым она принесла не только смену политического режима, но и радикальный разрыв с общепринятыми понятиями об общественном порядке и возможности его изменения. После Французской революции социальные науки стали пользоваться куда большим авторитетом. Свержение монархии уничтожило традиционную концепцию власти как единой политической воли. Но революция не только заменила монарха идеалом народовластия: сам факт «отрубания головы королю» освободил дорогу новой концепции власти – концепции, строящейся на «режимах правды». Созданные в XIX веке юристами, врачами и социологами, режимы правды приобрели огромный авторитет, не в последнюю очередь потому, что претендовали на рациональность и объективность. В то время как террор Французской революции стал символизировать эксцессы народовластия, социальные науки, авторитет которых зиждился на беспристрастности и разуме, предстали бастионом, защищающим от господства толпы[9 - Baker K. M. A Foucauldian French Revolution? Р. 194, 205.].
На протяжении XIX столетия появились новые дисциплины (демография, социальная гигиена, психология) и новые технологии вмешательства в общественную жизнь (переписи, жилищная инспекция, массовое психологическое тестирование), что способствовало все большим устремлениям реформаторов к ликвидации общественных проблем и переустройству общества. Чтобы не упускать из виду человеческий фактор, я подчеркиваю, что ученые, государственные чиновники и политики вне зависимости от их убеждений искали новые формы знания и новые способы государственного вмешательства – и сами оказывались под их воздействием. К примеру, сбор социальной статистики сделал более понятными общественные проблемы, что позволило осмелевшим ученым и чиновникам предлагать кардинальные решения[10 - Джеймс Скотт указывает, что понимание общества – необходимое предварительное условие государственного вмешательства, и отмечает, что к середине XIX века государства проводили масштабные мероприятия по подсчету и классификации своего населения (Scott J. C. Seeing Like a State. Р. 183).]. Эпидемиология заставила чиновников здравоохранения уверовать во всемогущество науки и способность современной медицины решать любые проблемы. Головокружительный темп модернизации в конце XIX – начале XX века сам по себе подогревал пыл реформаторов, которые одновременно испытывали оптимизм по поводу кажущегося бесконечным прогресса человечества и беспокоились о том, что мир меняется слишком глубоко и нужны еще более радикальные решения[11 - Peukert D. The Genesis of the «Final Solution» from the Spirit of Science // Reevaluating the Third Reich / Eds.. T. Childers and J. Caplan. New York, 1993. P. 238; Idem. The Weimar Republic: The Crisis of Classical Modernity. New York, 1993. P. 187.].
Импульс к преобразованию общества исходил и от широко распространившегося чувства, что европейские индустриализация и урбанизация разрушили органическое единство традиционных обществ. Чтобы возродить мифическую социальную гармонию прошлого и преодолеть атомизацию современного мира, социальные мыслители самого разного рода – социалисты, фашисты, ницшеанцы и даже либералы – представляли себе более коллективистское общество и новую человеческую психологию, которая будет соответствовать современной промышленной цивилизации. Марксизм отличался упором на насильственную пролетарскую революцию как на средство преодоления классовых различий, но отнюдь не был уникален в своем соединении рационализма Просвещения с «романтическим антикапитализмом» и в своих поисках нового, гармоничного социального порядка[12 - Clark K. Petersburg: Crucible of Cultural Revolution. Cambridge (Mass.), 1995. P. 16–17. Термин «романтический антикапитализм» впервые был использован Дьердем Лукачем, а затем разработан Мишелем Леви. Кларк предупреждает, что романтический антикапитализм был не столько движением, сколько формулой, объединяющей идеи ряда европейских интеллектуалов, критиковавших капиталистическое общество, в особенности его индивидуализм, отчужденность и превращение культуры в товар.].
Проблема обновления общества представлялась особенно неотложной русским интеллигентам конца XIX века. Промышленность России отставала от западноевропейской. Население страны состояло в первую очередь из крестьян, значительная часть которых была неграмотной. Кроме того, они страдали от инфекционных заболеваний, очень высок был уровень детской смертности. Страной правил репрессивный и неэффективный царский режим, в последний период существования империи сопротивлявшийся социальным и политическим реформам. Интеллигенция, в значительной степени отстраненная от власти, выступала против самодержавия и взяла на себя нравственное обязательство помогать населению страны. Эта самозваная миссия фактически легла в основу самоидентификации русской интеллигенции. В таком контексте русские ученые развивали свои идеи и методы, в том числе ламаркистский подход к биологическим вопросам. Считая, что причина безотрадной жизни крестьянских масс – социальное и политическое угнетение, они стремились развить и воспитать народ и верили в преображающую силу науки и культуры. Ориентация русской интеллигенции на воспитание и реформы была похожа на то, что происходило в других развивающихся странах. Подобно интеллектуалам из незападных стран, русские ученые, выступая за экономическую, социальную и культурную модернизацию, вместе с тем надеялись избежать подводных камней в развитии современного Запада.
Революция 1905 года одновременно побудила русских либеральных интеллигентов к действию и напугала их. Хотя создание представительских учреждений и облегчение цензуры обеспечили более удобную для их деятельности атмосферу, многие интеллектуалы были в ужасе от проявлений классовой ненависти и революционного насилия. Они по-прежнему были против самодержавия и стремились создать конституционный порядок, который позволил бы образованной элите вести страну к современному обществу, но их пугала нестабильность, грозившая наступить вместе с освобождением. Чтобы защититься от нового всплеска народных волнений и укрепить шатающийся общественный порядок, некоторые либеральные деятели сосредоточились на криминальных отклонениях и других общественных патологиях и стремились установить над населением свой дисциплинарный контроль[13 - Engelstein L. The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Si?cle Russia. Ithaca, 1992. P. 4–13. См. рус. пер.: Энгельштейн Л. Ключи счастья: Секс и поиски путей обновления России на рубеже 19–20 веков. М.: Терра, 1996.]. Подобно врачам и социологам Западной Европы, и даже в большей степени, чем они, русские интеллигенты испытывали два противоположных чувства одновременно – огромные надежды на социальную трансформацию и неотступный страх перед деградацией общества и хаосом. Специалисты в области наук о человеке выборочно применяли биомедицинские теории общественного упадка, что позволило им подкрепить эти страхи научным авторитетом и предписывать меры принуждения, позволяющие изгнать из общества людей с отклонениями[14 - Beer D. Renovating Russia: The Human Sciences and the Fate of Liberal Modernity, 1880–1930. Ithaca, 2008. P. 7–11.]. И в то время как большинство русских интеллигентов ненавидели царский режим, многие из них мечтали о сильном прогрессивном государстве, которое будет сохранять общественный порядок и проталкивать реформы даже при отсутствии широкой народной поддержки или высокоразвитых гражданских учреждений[15 - По поводу давних этатистских традиций России и их влияния на «интеллигентско-этатистский модерн» см.: David-Fox M. The Intelligentsia, the Masses, and the West.].
Более радикально настроенные из русских интеллигентов надеялись на революционную трансформацию российского общества. Они следовали за младогегельянской традицией немецкого идеализма, с ее верой в исторический прогресс, ведущий к освобождению человека, – прогресс, который можно облегчить, вдохновив массы на восстание против старого порядка. Однако было бы ошибкой оценивать радикальную интеллигенцию как нечто аномальное: нужно отдавать себе отчет в том, что члены образованного сословия самых разных политических взглядов были глубоко недовольны царизмом и считали общественные и политические перемены не только необходимыми, но и неотвратимыми. Не одни лишь радикалы вроде большевиков имели идеологически обоснованный план действий. Специалисты, участники волонтерских организаций и даже реформистски настроенные царские чиновники имели свое видение того общества, которое они хотели создать, и тех граждан, которые, как они надеялись, будут в нем жить[16 - См., например: Kotsonis Y. Making Peasants Backward: Agricultural Cooperatives and the Agrarian Question in Russia, 1861–1914. New York, 1999. P. 94–95. См. рус. пер.: Коцонис Я. Как крестьян делали отсталыми: Сельскохозяйственные кооперативы и аграрный вопрос в России, 1861–1914. М.: Новое литературное обозрение, 2006. Агрономы планировали «реформировать население, которое, как они считали, не может само додуматься реформировать себя».].
Многих русских радикалов привлекал марксизм с его вроде бы научной основой, с его критикой капитализма и с его упором на роль факторов среды в трансформации человеческого сознания. Марксизм пустил корни среди русской интеллигенции, боровшейся против деспотичной царской бюрократии и стремившейся приподнять угнетенные народные массы. Считать, что идеология марксизма была искусственно навязана России, – значит игнорировать причины, по которым он был принят, и отворачиваться от того факта, что немарксистские русские интеллектуалы во многом разделяли как мнение марксистов о проблемах России, так и их стремление создать новый политический и общественный порядок.
Массовая политика и массовая война
Главной причиной того, что стремление к преобразованию общества все больше бралось на вооружение государственными деятелями, я считаю распространение массовой политики и массовой войны. В эпоху народовластия политические лидеры должны были соответствовать нуждам и интересам народа и постепенно начали воспринимать население как источник легитимности, которому надо служить. А в эпоху массовой войны государственная власть и национальная безопасность более отчетливо, нежели когда-либо прежде, зависели от трудового и военного потенциала населения. В годы Первой мировой войны лидеры всех сражавшихся государств стремились регулировать здоровье, благосостояние и воспроизводство своих народов, чтобы защитить «человеческий капитал» и «военные людские ресурсы» своих стран. Кроме того, они создали обширные сети наблюдения, позволявшие контролировать настроения среди населения, а также организовали концентрационные лагеря, позволявшие удалить из общества «граждан враждебных государств» и «ненадежные» этнические группы.
Первая мировая война стала водоразделом как в российской, так и в европейской истории. Вплоть до того момента самодержавие в большой степени избегало современных практик общественного вмешательства. Но мобилизация военного времени, тревога о национальной безопасности, эпидемии и масштабные общественные сдвиги требовали от российского правительства увеличения государственного контроля. Политика правительства включала в себя как позитивные, так и негативные меры – от заботы о здоровье и благосостоянии населения до надзора и депортаций. К примеру, в 1916 году, когда местные врачи оказались неспособны помочь миллионам раненных на войне и остановить распространение эпидемических заболеваний, царь наконец согласился на создание главного управления государственного здравоохранения, подобного министерствам здравоохранения, созданным в европейских государствах в начале Первой мировой войны. Кроме того, в ходе войны царское правительство депортировало из прифронтовых регионов почти миллион представителей этнических меньшинств, опять же подобно правительствам других воюющих стран, также проводившим депортации и создававшим концлагеря.
Когда в феврале 1917 года царский режим был свергнут, Временное правительство продолжило расширять ответственность государства за благополучие населения, во многом предвосхищая политику советского правительства. В частности, создало министерства здравоохранения, государственного призрения (социального обеспечения) и продовольствия и поместило многих интеллигентов на командные позиции, занять которые они так давно желали. Но в политической сфере Временное правительство так и не смогло завоевать широкую базу поддержки среди низших классов. Солдаты, крестьяне и рабочие имели собственные революционные планы: окончание войны, немедленное перераспределение земель и рабочий контроль на заводах – а Временное правительство не выполнило ни одного из этих чаяний. По мере того как солдаты дезертировали с фронта, крестьяне захватывали землю, а рабочие клялись в верности Советам, чиновники Временного правительства начали разочаровываться в массах, не пожелавших соответствовать либеральным идеям патриотизма и гражданской сознательности. Правительство начало все в большей степени прибегать к принудительным мерам управления, например к использованию военных отрядов для реквизиции зерна – предвосхищая будущую советскую политику[17 - Holquist Р. Making War, Forging Revolution: Russia’s Continuum of Crisis, 1914–1921. Cambridge (Mass.), 2002. Р. 109–111.].
Когда в октябре большевики взяли власть, они приняли на вооружение множество военных мер. Последовавшее затем строительство советского государства продолжало тенденции, уже начавшиеся в годы мировой войны, – государственный контроль над экономикой, наблюдение за здоровьем и благополучием населения, надзор и использование государственного насилия против «чуждых элементов». Строительство советской системы началось не просто при отсутствии традиционных институционных ограничителей (парламентов, судов и прав собственности), но на фоне кровавой Гражданской войны, в ходе которой продолжалась тотальная мобилизация людей и ресурсов. Даже когда большевики (с 1918 года называвшиеся коммунистами) победили белые армии, их власть оставалась непрочной: они боролись с крестьянскими восстаниями, пытались установить контроль над окраинами страны и имели дело с «капиталистическим окружением» враждебных иностранных государств. Хотя в 1921 году Ленин продавил экономическую либерализацию, ни он, ни другие члены партии не шли ни на какие политические уступки. Напротив, они хранили бдительность и укрепляли господство коммунистической партии над чрезвычайно централизованным государственным аппаратом. Продолжали существовать такие государственные ведомства, как наркоматы здравоохранения, социального обеспечения и тайная полиция (госбезопасность), никуда не делись надзор военного времени и концентрационные лагеря, ставшие неотъемлемой частью советского государства. В то время как другие воевавшие державы по окончании боевых действий ушли от методов эпохи тотальной войны, советское правительство закрепило их организационно, положив в основу новой государственной системы.
Построение социализма
Оказавшись у власти, коммунисты закрепили марксизм-ленинизм в качестве официальной идеологии государства и начали строить социализм. Но в истории еще никогда не было социалистического государства, и никаких проектов такого рода марксизм-ленинизм не предлагал. Все члены ВКП(б) (Всесоюзной коммунистической партии большевиков) были согласны, что нужно ликвидировать капитализм и провести индустриализацию, однако спорили, как именно действовать и в каком темпе. Их задача была тем труднее, что подавляющее большинство населения России составляли крестьяне, а экономическая инфраструктура страны была недостаточно развитой. Различные партийные фракции выдвигали программы создания нового социалистического общества и управления им. Так называемая рабочая оппозиция выступала за рабочую демократию, при которой экономикой руководили бы выборные представители рабочих. Фракция Льва Троцкого отстаивала продвижение революции, основанное на иерархии, дисциплине и милитаризации труда. Ленин отказался от обеих моделей в пользу постепенного подхода – технократического правления в сочетании с ограниченным капитализмом новой экономической политики (нэпа)[18 - О попытках Ленина примирить популизм и техницизм и о том, как он все же принял техницистский подход, см.: Priestland D. Stalinism and the Politics of Mobilization: Ideas, Power, and Terror in Inter-war Russia. New York, 2007. P. 63, 88–89.].
Ряд лидеров партии и множество беспартийных специалистов, объединенные общей задачей модернизации и рационализации российского общества, выступали за технократию. Сильная государственная бюрократия, опирающаяся на знания инженеров и агрономов, могла бы направлять технократическое преобразование страны и создать производительный социально-экономический строй. Однако значительная часть коммунистов ненавидела идею постепенности и ограниченного капитализма нэпа, выступая за революционное продвижение к социализму. Кроме того, Сталин и другие испытывали глубочайшее недоверие к «буржуазным специалистам» и желали поставить во главу угла рабочий класс. В рамках ВКП(б) технократическому идеалу противостояло сильное прометеевское течение – вера в то, что освобождение творческой энергии рабочих подтолкнет страну вперед. Освобожденные от оков капиталистической эксплуатации, рабочие уже не были ограничены техническими соображениями и могли разорвать цепи даже самого времени[19 - Согласно советскому лозунгу 1930-х годов, рабочие могли «выполнить пятилетку в четыре года». О времени в представлении лидеров партии и о его революционной трансцендентности см.: Hanson S. Time and Revolution: Marxism and the Design of Soviet Institutions. Chapel Hill, 1997.].
В ходе «Великого перелома», произошедшего в конце 1920-х годов, Сталин отверг поступательное движение нэпа и технократию, предпочтя революционный скачок. Сталин и его соратники отменили свободу торговли, внедрили плановую экономику, нацеленную на быструю индустриализацию, и начали жестокую кампанию коллективизации, включавшую в себя выселение нескольких миллионов крестьян, к которым был приклеен ярлык кулаков. «Великий перелом» привел также к широкому распространению антиинтеллектуализма: радикальные марксисты начали преследование беспартийных специалистов, а представители социальных наук были вынуждены более строго придерживаться линии партии. Начавшиеся в это же время показательные процессы инженеров и экономистов покончили с притязаниями некоторых беспартийных ученых, надеявшихся сыграть важную роль в выработке курса. Эти меры показали, что главенство коммунистической партии останется непоколебимым и никакие технократические ограничения не помешают революционному прогрессу[20 - Bailes K. E. The Politics of Technology // American Historical Review. 1974. Vol. 79. No. 2 (April). P. 448–454.]. Советская система при Сталине не была технократией. Сталин и его соратники утверждали примат партийной истины над научной, и их приоритетом стало воспитание новой технической элиты пролетарского происхождения, которая пришла бы на смену «буржуазным специалистам»[21 - Fitzpatrick S. Stalin and the Making of a New Elite // The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia. Ithaca, 1992. Впрочем, напряженные отношения между учеными и партийными ортодоксами вернулись в 1940–1950-е годы, в особенности после смерти Сталина. См.: Slezkine Y. The Jewish Century. Princeton, 2004. P. 306, 331. См. также: Pollock Е. Stalin and the Soviet Science Wars. Princeton, 2006.].
В то же самое время сталинская индустриализация по-прежнему очень сильно зависела от беспартийных экономистов и инженеров[22 - В 1931 году хаос первой пятилетки вынудил Сталина восстановить власть инженеров и принять более технократический подход. См.: Сталин И. В. Сочинения. М.: Государственное издательство политической литературы, 1951. Т. 13. С. 56–61.]. Либеральные ученые в целом поддерживали партию: они были рады применить свои знания в работе над крупномасштабными проектами, что было возможно благодаря централизованной государственной системе. Коммунисты и беспартийные ученые разделяли веру в рациональное управление населением, доверяли статистике как отражению общества и, описывая проблемы общества и варианты вмешательства в его жизнь, употребляли медицинские термины. Представители социальных наук были обязаны привести свои дисциплины в соответствие с марксизмом-ленинизмом, а их концепции, знания и собранная ими информация подлежали использованию партийными лидерами, стремившимися к преобразованию общества[23 - О Советском Союзе как о «новом типе научного государства» см.: Hirsch F. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet System. Ithaca, 2005. P. 312–313. Фрэнсин Хирш приходит к выводу, что ВКП(б) обращалась к этнографам, антропологам и социологам в поисках научных принципов, которые могли бы направить развитие общества, но в то же время вынуждала этих экспертов «переделать их собственные научные дисциплины с целью соответствия марксистско-ленинскому пониманию мира».]. В его рациональной перестройке охотно приняли участие многие статистики, снабдив партийных деятелей социально-экономическими данными, которые легли в основу политики партии[24 - Несмотря на арест в 1929 году нескольких специалистов Госплана, ведущие статистики, такие как Станислав Густавович Струмилин, продолжали играть важнейшую роль в экономическом планировании, и последующие директора Центрального статистического управления присоединились к их мнению, что социальная статистика является чем-то объективным. См.: Blum А., Mespoulet М. L’anarchie bureaucratique: Pouvoir et statistique sous Staline. Paris, 2003. Р. 111–116. См. рус. пер.: Блюм А., Меспуле М. Бюрократическая анархия. Статистика и власть при Сталине. М.: РОССПЭН, 2006.]. Социологи и криминологи представляли исследования, указывавшие на угрозу общественного заражения и предписывавшие насильственное удаление и исправление любых отклонений[25 - Beer D. Renovating Russia. P. 202–203.]. С началом «Великого перелома» партийные деятели подчинили труд сексологов и специалистов по борьбе с алкоголизмом цели построения социализма, поскольку задачи достижения трезвости и контроля над сексуальностью были лишь частью этого большого проекта[26 - Bernstein F. L. The Dictatorship of Sex: Lifestyle Advice for the Soviet Masses. DeKalb, 2007. P. 190–192; Transchel K. Under the Influence: Working-Class Drinking, Temperance, and Cultural Revolution in Russia, 1895–1932. Pittsburgh, 2006. Ch. 6. О продолжении в сфере культуры см.: David-Fox М. What Is Cultural Revolution? // Russian Review. 1999. Vol. 58. No. 2 (April). Р. 181–201.]. Построение социализма в большой степени опиралось на интеллектуалов. Более того, оно во многом реализовало их мечты о преобразовании общественного порядка, пусть и в крайне жестокой форме.
Чтобы провести в жизнь свою программу социальных преобразований, партийные деятели использовали методы военного времени, уже закрепленные организационно в советской системе. Государственный контроль над экономикой, меры по здравоохранению, надзор за населением и насилие над целыми группами населения – все это ставило своей целью воплотить на деле образ производительного и здорового общества, каким его видели партийные деятели, с отсечением «вредных элементов» старого порядка. В самом деле, идеи переустройства общества и практика активного вмешательства государства подкрепляли друг друга. Планы социальной трансформации основывались на том, что общество вполне поддается переделке при помощи государственного вмешательства, а само это вмешательство оправдывалось именно попыткой создания нового общества.
Когда в конце 1920-х годов лидеры партии начали свое «социалистическое наступление», они не только опирались на методы военного времени, но и воспринимали индустриализацию и коллективизацию как военную кампанию, битву за уничтожение капитализма и крестьянской отсталости. Эта битва включала в себя создание полностью государственной экономики, подобной экономике военного времени: советское руководство контролировало все ресурсы и направляло их в тяжелую промышленность. «Бригады» по коллективизации депортировали «классовых врагов», а остальных крестьян вынуждали вступать в колхозы. На «фронте» индустриализации советские деятели призывали рабочих в рекордные сроки строить сталелитейные, автомобильные и оружейные заводы. В ответ на тяжелейший голод 1932–1933 годов партийные лидеры еще больше усилили контроль над обществом, введя систему внутренних паспортов, и слегка умерили темп индустриализации[27 - Дальнейшее обсуждение см. в кн.: Davies R. W. Crisis and Progress in the Soviet Economy, 1931–1933. London, 1996.].
К 1934 году партийное руководство считало, что выиграло битву, – и на XVII съезде партии, «съезде победителей», Сталин заявил, что социализм построен[28 - Сталин И. В. Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б). 26 января 1934 г. // Сталин И. В. Сочинения. Т. 13. С. 308–309.]. Для Сталина и других руководителей ВКП(б) уничтожение капитализма означало новую эпоху мировой истории. Победа колхозов и государственной экономики вселяла в этих людей уверенность, что они перешли Рубикон и вступили на территорию социализма. Они выдержали кризис 1932–1933 годов – факт, который также убеждал их, что они миновали период интенсивной борьбы и вышли из нее победителями. Как я уже писал в другой своей работе, предполагаемое достижение социализма имело огромные последствия для советской идеологии и культуры[29 - Hoffmann D. L. Stalinist Values: The Cultural Norms of Soviet Modernity, 1917–1941. Ithaca, 2003.]. Оно повлияло и на социальную политику членов партии, приведя к дальнейшей эскалации насилия по отношению к отдельным группам населения, когда ставилась цель «раз и навсегда» уничтожить все «антисоветские элементы», продолжавшие противостоять Советскому государству.
В конце 1930-х годов, на фоне растущей международной напряженности, когда все больше казалось, что решающая схватка между фашизмом и социализмом не за горами, поиск врагов в СССР стал еще более интенсивным[30 - Weiner A. Nature, Nurture, and Memory in a Socialist Utopia: Delineating the Soviet Socio-Ethnic Body in the Age of Socialism // American Historical Review. 1999. Vol. 104. No. 4 (October). P. 1114–1155.]. Не только преступники и бывшие кулаки, но и члены национальных диаспор попали под прицел госбезопасности: сталинское руководство стремилось нейтрализовать потенциальную пятую колонну на случай войны. Кроме того, 1930-е годы характеризовались растущей милитаризацией советского общества, что не могло не повлиять на социальные программы. В частности, в сфере физической культуры все больший упор делался на военно-спортивные состязания. «Построение социализма» произошло в момент особой исторической конъюнктуры, в эпоху промышленной мобилизации и массовой войны, и характер этого «социализма» отражал не только привычное использование методов военного времени, но и растущую иностранную угрозу, а также подготовку СССР к войне.
Обзор глав
В этой книге пять глав. В первой из них я очерчиваю появление социальной политики, сначала в Западной Европе, затем в России. Особое внимание я уделяю новым формам социальных наук, которые привели реформаторов к убеждению, что население – социальная общность, которая должна управляться рационально. Также я рассматриваю связь между социальным обеспечением и войной и показываю, что феномен массовой войны вынудил государственных чиновников более активно вмешиваться в только что оформившуюся социальную сферу. В частности, огромные мобилизационные требования Первой мировой войны оказались сильнее любых попыток ограничить роль государства, а потребность в здоровых людях для продолжения войны увеличила заботу властей о благополучии населения. Советское правительство было создано в то время, когда роль государства оставалась повышенной, а советские лидеры заявляли, что правят от лица низших классов. Соответственно, размах социальной политики все возрастал, следуя тенденции, возникшей в ходе Первой мировой войны, и к 1930-м годам государство взяло на себя практически все экономические и социальные функции.
Во второй главе я изучаю программы общественного здравоохранения. Развитие эпидемиологии привело к тому, что в конце XIX столетия врачи по всему миру пересмотрели свой взгляд на здоровье. Если раньше оно было индивидуальной проблемой, то теперь превратилось в общественное дело. Соответственно, здравоохранение должно было стать централизованным, а поведение и гигиенические привычки людей – регламентированными. В ходе Первой мировой войны и сразу после нее самые разные европейские страны создали министерства здравоохранения, кардинальным образом расширив роль государства в вопросах здоровья и гигиены. С этой точки зрения советская система общественного здравоохранения, высокоцентрализованная, воспринимавшая болезнь как социальный, а не индивидуальный феномен, была не столько продуктом социалистической идеологии, сколько кульминацией идей и технологий социальной медицины, необходимость внедрения которых все яснее ощущалась в ходе Первой мировой и Гражданской войн. В самые ранние годы существования советского государства здоровье граждан находилось в тяжелейшем состоянии: страну опустошали эпидемии. Имея на своей стороне неограниченную государственную власть, Наркомат здравоохранения взял на вооружение самые интервенционистские меры по отслеживанию и улучшению здоровья населения.
В третьей главе я анализирую попытки государства контролировать воспроизводство населения. В 1930-е годы в СССР запретили аборты и предложили финансовую помощь женщинам, рожавшим по семь детей и больше. Эта политика, часто представляемая коммунистической, в период между двумя мировыми войнами была широко распространена во многих странах. Таким образом, в советской политике поощрения рождаемости, возможно, следует видеть новое проявление той политики в отношении граждан, которая основывалась на демографических исследованиях и желании политических лидеров управлять своим населением. В то же время я подчеркиваю отличительные черты советской репродуктивной политики. В других странах упор на материнскую роль женщин означал исключение их из состава рабочей силы. Советское гендерное строительство было совершенно иным: оно подчеркивало роль женщины и как матери, и как работницы.
В четвертой главе я рассматриваю еще одно измерение государственного вмешательства – надзор и пропаганду. Советское государство обладало огромным аппаратом, задачей которого было изучение «политических настроений» населения и воздействие на них. Конкретные методы надзора, такие как перлюстрация писем, были распространены по всей Европе в годы Первой мировой войны. Кроме того, главы всех воюющих стран вели масштабные пропагандистские кампании, чтобы добиться от своих граждан верности и привести их в боевое настроение. Советское руководство продолжило и усилило надзор и пропаганду, сделав их постоянными элементами управления. Эти инструменты применялись не только для наблюдения за политической оппозицией, но и с целью изменить сознание людей и создать нового советского человека.
В пятой главе я анализирую насилие по отношению к отдельным группам населения – попытки советского государства избавиться от тех частей населения, которые считались вредными для общества в целом. Впервые системы разделения людей на категории были пущены в ход европейскими чиновниками в колониях – вместе с насилием, вплоть до концентрационных лагерей. В самой Европе физическое удаление групп населения начало практиковаться в условиях Первой мировой войны. К примеру, Англия интернировала граждан неприятельских государств, а Австро-Венгрия – некоторые национальные меньшинства. Царское правительство интернировало около 600 тысяч граждан стран-противников, а в 1915 году депортировало до миллиона своих собственных граждан (этнических поляков, немцев, евреев и мусульман) из приграничных регионов. В Гражданскую войну обе противоборствующие стороны использовали концентрационные лагеря для удаления из населения «враждебных» групп, и советское руководство продолжало прибегать к этому методу в 1920–1930-е годы, особенно в ходе коллективизации и Большого террора. Мы видим, что насилие по отношению к отдельным группам населения и концентрационные лагеря не были изобретением советских лидеров. Но те иначе использовали государственное насилие. В других странах заключение людей в лагерь оставалось мерой безопасности, употребляемой только в военное время. Советское же руководство использовало подобные методы и в мирное время – в целях преобразования общества. Несмотря на сходство технологий государственного насилия, в СССР его размах был гораздо больше, чем в Западной Европе, а цели – куда масштабнее.
Государственное насилие в СССР было бы невозможно без советской науки, стремления преобразовать общество и военных технологий социального вмешательства. Государственное устройство этой страны и решения партийных лидеров актуализировали насилие по отношению к отдельным группам населения. Советский Союз был диктатурой с высокоцентрализованным бюрократическим аппаратом, постоянно использовавшим различные методы военного времени. Партийные лидеры, с их утопическими целями и стремлением творить историю, не видели пределов своей власти и были свободны от конституционных и каких-либо юридических ограничений. Когда для осуществления своих замыслов они использовали бесконтрольную власть государства, следствием было беспрецедентное по масштабам вмешательство в жизнь граждан.
Глава 1
Социальное обеспечение
Наука о руководстве, таким образом, состоит в том, чтобы регулировать все, что связано с нынешним положением общества, укреплять это и улучшать, следить, чтобы все способствовало благополучию людей, составляющих это общество.
Иоганн Готлиб фон Юсти.
Основы науки о руководстве. 1768 год
Социальное обеспечение всех рабочих, страдающих от потери работоспособности или [от] безработицы, должно быть делом государства.
Александр Винокуров.
Социальное обеспечение (от капитализма к коммунизму). 1921 год
Социальное обеспечение в самом базовом смысле означает заботу о благополучии членов общества, в особенности тех, кто в этом нуждается, – больных, пожилых и безработных. В числе программ, обычно ассоциирующихся с социальным обеспечением, – пособие по бедности, пособие по безработице или потере трудоспособности, а также пенсии для пожилых людей. Но социальное обеспечение может означать и более обширное вмешательство, направленное на улучшение жилищных условий, на изменение общественных порядков и внушение продуктивных норм поведения. Целью такого вмешательства является рациональное устройство повседневной жизни и осмысленное использование людских ресурсов. В этом широком смысле слова социальное обеспечение включает в себя не только финансовую помощь, но и общественную работу, приведение в порядок трущоб, планировку городов, общественное здравоохранение, фабричную инспекцию, а кроме того, обучение низших классов качественному труду и гигиене.
Традиционно возникновение государства социального обеспечения считалось побочным продуктом индустриализации и урбанизации, и в первую очередь результатом требований профсоюзов и радикалов, вынудивших правительства заботиться о нуждающихся. Но изучение государственных программ социального обеспечения показало слабость этой точки зрения. Индустриализация в Соединенных Штатах не привела к каким-либо государственным программам социального обеспечения – здесь первая такая широкомасштабная программа была создана значительно позже, в 1935 году, когда был принят Акт о социальной защите[31 - Skocpol Т. Protecting Soldiers and Mothers: The Political Origins of Social Policy in the United States. Cambridge (Mass.), 1992. Р. 5–13. Скокпол указывает, что до принятия Акта единственными социальными выплатами в США были пенсии ветеранам Гражданской войны.]. Более того, множество европейских программ социальной защиты были предложены и внедрены не радикалами, а либеральными или консервативными политиками и чиновниками. Рабочие организации не добивались социального обеспечения и в некоторых случаях даже выступали против него, предпочитая бороться за более высокую заработную плату[32 - Ibid. P. 23–24; Cronin J. E. The Politics of State Expansion: War, State, and Society in Twentieth-Century Britain. New York, 1991. P. 37, 42–43. См. также: Baldwin Р. The Politics of Social Solidarity: Class Bases of the European Welfare State, 1875–1975. New York, 1990.]. Желание предотвратить беспорядки или получить голоса рабочих действительно мотивировало некоторых политиков во второй половине XIX столетия. Но в целом представление о государственной ответственности за социальное обеспечение было обусловлено выводом, к которому пришли чиновники и интеллектуалы: сохранение общества зависит в общей сложности от благополучия его членов. Другой важной причиной была забота правительств о сохранении экономического и военного потенциала своего населения. Термин социальное государство (welfare state) впервые использовал в 1940-е годы сэр Уильям Беверидж, противопоставив его «военному государству» германских нацистов. Но роль государства в благополучии жителей кардинально выросла уже в XIX веке. А в период между мировыми войнами социальное обеспечение и война были тесно связаны: различные правительства внедряли программы социальной защиты, чтобы их население оставалось готовым к войне[33 - Mazower M. Dark Continent: Europe’s Twentieth Century. New York, 1999. P. 103, 298–299.].
Россия – яркий пример того, какое сильное воздействие оказала Первая мировая война на развитие государственных программ социальной защиты. В этом вопросе Россия отставала от большинства стран Западной Европы. Но, когда разразилась война, все изменилось. Стремительно выросла роль государства в заботе о благополучии населения. Сначала этим занимались частные фирмы с государственным участием, а потом само государство. Советские деятели, пришедшие к власти в результате Октябрьской революции, унаследовали множество программ, созданных в военное время царским режимом, а также Временным правительством. Вскоре они расширили эти программы, введя всестороннюю систему пенсий, пособий по инвалидности и безработице. Первоначально советские социальные пособия существовали в основном на бумаге. Однако, когда в 1930-е годы была создана плановая сталинская экономика, советское государство не только стало распоряжаться всеми имеющимися ресурсами, но и взяло на себя ответственность практически за все нужды рабочих, включая снабжение продовольствием, жильем и полную занятость. Таким образом, советская социальная защита возникла не как попытка компенсировать негативные следствия капитализма, а как один из результатов деятельности ВКП(б) по созданию современной индустриальной некапиталистической экономики. Она должна была стать не столько «страховочной сетью», сколько частью рационального и продуктивного экономического порядка, находящегося под управлением государства и действующего в интересах трудящихся. Советская система, требовавшая, чтобы каждый занимался «общественно полезным трудом», – частный пример общеевропейской тенденции. В Европе в период между мировыми войнами социальная защита рассматривалась не как средство защитить достоинство индивидуума, а как ряд взаимных обязательств между государством и его гражданами.
Прежде чем мы вернемся к социальной защите в России и СССР, я прослежу истоки социального обеспечения и социальной политики в целом, начав с некоторых проявлений камералистской мысли в Европе раннего Нового времени и рассмотрев развитие социальных наук в XIX веке. Социальные науки помогли очертить социальную сферу, отделив ее от политической и экономической сфер. Они предложили способ изучения целого ряда проблем, которые раньше казались не связанными друг с другом, – проблем бедности, вырождения, преступности и волнений среди рабочих – и способ их решения. Без выделения в Западной Европе XIX века социальной сферы и возникновения «социального вопроса» не могли появиться ни программы социальной защиты, ни другие формы социального вмешательства, которые будут обсуждаться в этой книге.
Камерализм, социальные науки и происхождение социального обеспечения
Политические лидеры всегда правили людьми, но не всегда воспринимали себя в качестве правителей над народом. Лишь в определенный момент истории они стали относиться к населению как к ресурсу, который необходимо культивировать. Идея социальной защиты уходит корнями в раннее Новое время, когда правительства начали тщательно изучать население и его производственный потенциал. В частности, мыслители-камералисты XVI–XVII веков изучали соотношение между экономической и военной мощью государства и численностью и продуктивностью его населения. В отличие от своих предшественников, исходивших из того, что главный предмет управления – территория, камералисты обращали внимание прежде всего на население и материальные ценности. Эта переориентация означала изменение целей: теперь задача была не только контролировать территорию, но и максимально увеличивать богатство и гарантировать, что население сможет производить товары и приумножаться в численности. Кроме того, теперь было необходимо знать, какие люди живут в государстве и какими ресурсами они располагают, а также иметь в распоряжении административный аппарат, способный собрать эти сведения и повысить уровень производства. На протяжении всего XVII века мыслители-камералисты распространяли эти идеи, а также анализировали, каким именно образом государство может повысить производительность своего населения[34 - Foucault M. Governmentality // The Foucault Effect: Studies in Governmentality / Eds. G. Burchell, C. Gordon, and P. Miller. Chicago, 1991. P. 93–96.].
Забота государства о предотвращении детской смертности показывает, что правители начали воспринимать население как ресурс. К середине XVIII столетия социальные мыслители создали обширную литературу о детской смертности и убытке, который она приносит государству. Один комментатор, рассказывая о высокой детской смертности в сиротских приютах, сетовал, что такая огромная доля людских «сил» умерла, не успев «принести пользу государству»[35 - Цит. по: Donzelot J. L’invention du social: Essai sur le dеclin des passions politiques. Paris, 1984. P. 9.]. Российские правители XVIII века тоже беспокоились о «людском капитале» и стремились увеличить численность населения, заботясь о младенцах. В 1712 году Петр I издал указ, осуждавший детоубийство и предусматривавший создание сиротских приютов для незаконнорожденных детей в каждой губернии. При Екатерине II российские сиротские приюты попытались выращивать из брошенных детей полезных подданных[36 - Ransel D. L. Village Mothers: Three Generations of Change in Russia and Tataria. Bloomington, 2000. P. 8–17, 31.].
Камералисты сумели убедить многих европейских правителей, что политическая и военная мощь главы государства зависит не только от его возможностей по сбору налогов, но и от экономического процветания населения, которым он правит. Это привело к попыткам управлять обществом так, чтобы сделать его продуктивнее, и упорядочивать администрацию таким образом, чтобы поощрять экономическое развитие[37 - О пособиях по камерализму и юридических кодексах немецких государств в XVII веке и России в XVIII веке см.: Raeff М. The Well-Ordered Police State: Social and Institutional Change through Law in the Germanies and Russia, 1600–1800. New Haven, 1983.]. Желание максимально увеличить производительность подтолкнуло политических мыслителей внимательно отнестись к человеческому телу и использованию его продуктивных и репродуктивных возможностей. В XVII веке началось то, что впоследствии получит название «анатомо-политики человеческого тела». На первых порах речь шла о необходимости дисциплинировать рабочих и увеличить их продуктивность путем «включения [их] в эффективные и экономичные системы контроля»[38 - Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Касталь, 1996. С. 243.]. Мыслители-физиократы XVIII века разработали эти взгляды глубже: для них государство не только выгодоприобретатель, но и средство наращивания богатства, поскольку может управлять общественными отношениями так, чтобы производство становилось более интенсивным. К примеру, немецкий экономист Иоганн фон Юсти писал: «Цель руководства – сделать так, чтобы все, что составляет государство, служило укреплению и усилению его власти, а кроме того, заботиться об общественном благосостоянии»[39 - Donzelot J. L’invention du social. P. 7. См. также: Backhaus U. Johann Heinrich Gottlob von Justi (1717–1771): Health as Part of a State’s Capital Endowment // The Beginnings of Political Economy: Johann Heinrich Gottlob von Justi / Ed. J. G. Backhaus. Heidelberg, 2009. P. 171–195.].
В конечном счете на смену узкому взгляду камералистов, заботившихся о налоговых поступлениях, пришли взгляды более широкие: общество следует улучшать ради самого общества. В политическом плане это стремление к совершенствованию общества проистекало из новых принципов народного суверенитета, появившихся в результате Американской и Французской революций. Французская революция сместила короля, лишила его старинного права на суверенитет и связала это право с волей народа. Во имя народовластия общественные ресурсы были мобилизованы в беспрецедентных масштабах[40 - Baker К. М. A Foucauldian French Revolution? Р. 204–205.]. Эта демократизация суверенитета многократно увеличила власть государства, но отныне само оно, перестав быть орудием монарха, обязано было служить народу и улучшать его положение. Хотя на протяжении всего XIX века монархические режимы не признавали новый политический порядок, принцип народовластия представлял собой вызов, на который традиционным монархиям приходилось искать ответ. Разные страны лихорадочно двигались к новой вехе, и население уже никем не воспринималось просто как ресурс, который государство может использовать для своих целей. Политические мыслители чем дальше, тем больше склонялись к мысли, что государство и его граждане обязаны служить друг другу. Полицейское государство камерализма (общество на службе у государства) постепенно сменилось государством социальным (государство на службе у общества).
Другим фактором, повлиявшим на расширение социального поля, стали экономические и социальные перемены. Индустриализация и урбанизация принесли с собой множество новых социальных проблем, которые концентрировались в растущих городах и потому были очевидны. Широкий круг действующих лиц, не имеющих отношения к правительству, – от религиозных проповедников и борцов с алкоголизмом до градостроителей и профсоюзных вожаков, придерживавшихся самых разных взглядов, – стал интересоваться такими повседневными вопросами, как жилье, гигиена, несчастные случаи на производстве, алкоголизм, безработица и бедность. Поскольку физический труд играет в индустриальной экономике огромную роль, телесное здоровье рабочих тоже представляло интерес для купцов и промышленников. Вопреки попыткам либералов, особенно английских, ограничить государственное регулирование, чиновники видели необходимость улучшения социально-бытовых условий и защиты населения. Поскольку городская беднота считалась источником преступности, болезней и испорченности нравов, существовало опасение, что она может заразить все общество – и социальное обеспечение представало государственной необходимостью[41 - Я очерчиваю концептуальный сдвиг в программах государственной социальной защиты в целом. Анализ как теоретических вопросов социальной защиты, так и подробностей различных ее инициатив вплоть до уровня муниципалитетов в Германии содержится в кн.: Steinmetz G. Regulating the Social.].
Этот новый подход, профилактический, применялся и к политическим выступлениям. Народовластие, сделав всех граждан предметом заботы, вместе с тем увеличило и количество потенциальных опасностей. После 1848 года правителей государств беспокоили не только бунтовщики, но и рабочий класс – в нем видели источник оппозиции, а то и революции. Как абстрактное понятие труд считался плодотворным и благородным, но трудящиеся все в большей степени казались угрозой. Более того, идеология социализма представляла собой вызов существующему порядку и превращала труд в новое основание политической легитимности. С течением времени этот вызов привел к появлению в Англии «социализма газа и воды» (законы о жилье, пенсии по возрасту и другие реформы), а в Германии – к тому страхованию (на случай пожилого возраста, болезни и безработицы), сторонником которого был Бисмарк, стремившийся переманить рабочих из растущей социал-демократической партии[42 - Sullivan М. The Development of the British Welfare State. New York, 1996. P. 4–8; Steinmetz G. Regulating the Social. Ch. 5.]. Но даже до появления указанных инициатив угроза рабочих волнений вынесла «социальный вопрос» на повестку дня[43 - Donzelot J. L’invention du social. P. 14.].
Теперь, чтобы найти ответ на этот вопрос, правители стремились изучить и разделить на категории всех своих подданных, надеясь, что знакомство с «населением» позволит улучшить его положение, успокоить само «население» и исправить его характер. Результатом этих усилий стало вычленение, наряду с политикой и экономикой, отдельной социальной сферы. К середине XIX века социальные мыслители не только считали население отдельным множеством, но и пришли к мысли, что социальная сфера является полем для вмешательства. Как пишет Мэри Пуви, «эти два достижения – соединение разных групп населения и концептуальное выделение социальной сферы – были тесно связаны, поскольку выявление проблем, поразивших страну, подразумевало изоляцию вредной части населения, выяснение на основе индивидуальных примеров общей проблемы и поиск решений»[44 - Poovey М. Making a Social Body: British Cultural Formation, 1830–1864. Chicago, 1995. Р. 4, 8.].
Социальные науки позволяли узнать население, поэтому их развитие играло центральную роль в разработке социальной защиты. Сама идея науки об обществе родилась из веры мыслителей Просвещения в то, что наука начнет использоваться для переустройства человеческого мира и будет руководить построением рационального общественного порядка[45 - С точки зрения Кондорсе, способность ньютоновской науки объяснить естественный мир означала, что у социального знания есть возможность понять человеческий мир и преобразовать его. См.: Baker К. М. Condorcet: From Natural Philosophy to Social Mathematics. Chicago, 1975.]. Но социальная сфера как область знания материализовалась лишь в XIX веке, когда власти озаботились проблемами общества, а появление новых научных дисциплин позволило лучше понять его. Целый ряд проблем был сгруппирован вместе, и над ними начали работать как правительственные чиновники, так и специалисты по медицине, социальной работе, демографии, городскому планированию и социальной гигиене[46 - Horn D. G. Social Bodies: Science, Reproduction, and Italian Modernity. Princeton, 1994. Р. 3–11.]. Обществознание включало в себя два важных компонента: научную модель, которую, как считалось, можно использовать на практике, и то определение социального поля, с особым взглядом на общество и на природу социальных процессов, которое позволяло бы эту модель применить[47 - Baker К. М. Condorcet.]. Чем дальше, тем больше казалось, что любое общество поддается описанию при помощи статистики, что его можно переустроить, улучшить, им можно управлять при помощи научных методов, если за дело возьмутся ученые-эксперты, стоящие выше прав частных лиц или интересов социальных групп.
Воздействие обществознания на социальное обеспечение легче всего проиллюстрировать, указав на огромное влияние социологической статистики, отражавшей и усиливавшей желания реформаторов. Уже в XVII веке камералисты рассуждали о необходимости количественного понимания населения[48 - В 1680-е годы Готфрид Лейбниц в Пруссии и Уильям Петти в Англии предложили создать центральное правительственное статистическое ведомство в целях сбора данных о населении. См.: Hacking I. The Taming of Chance. Cambridge, 1990. P. 18–19.]. К первой половине XIX столетия статистические изыскания стали профессиональными, а правительства начали систематизировать данные по населению[49 - Ibid. P. 2–3. В наполеоновскую эпоху государственные администраторы разработали департаментскую статистику – с недвусмысленной целью создать однородную картину территории государства и его обитателей. См.: Bourguet М.-N. Dеchriffer la France: La statistique dеpartementale ? l’еpoque napolеonienne. Paris, 1988.]. Когда люди и общественные феномены были подсчитаны и систематизированы, чиновники и ученые изменили свое отношение к социальным вопросам. Раньше бедность считалась результатом неудач отдельных индивидов, а статистика представила бедность социальной проблемой, требующей государственного вмешательства, которое превратит нуждающихся в продуктивных граждан. Несчастные случаи на производстве, прежде воспринимавшиеся изолированно друг от друга и считавшиеся результатом ошибок, после составления статистики предстали регулярными и предсказуемыми. Власти занялись регулированием работы на фабриках и начали требовать от работодателей страхования, покрывающего несчастные случаи[50 - Horn D. G. Social Bodies. Р. 35–37.].
Социологические данные были еще новой формой знания и потому не всегда сразу поддавались пониманию. Статистика, безусловно, много что могла рассказать об обществе, но ее значение открылось только после изобретения и начала применения статистических методов. Именно эти методы определили то, как будут истолкованы собранные данные и как это повлияет на понимание социальных феноменов. Метод корреляции заключался в том, чтобы найти статистические данные, совпадающие с каким-либо феноменом и, возможно, являющиеся его причиной. Переломным моментом с точки зрения как статистического анализа, так и социального взгляда на болезни стала эпидемия холеры во Франции в 1832 году. Статистика по смертям от холеры показала очевидную корреляцию между плохими жилищными условиями и повышенной смертностью. Еще до того, как развитие эпидемиологии позволило четче понять причины заболевания, статистическая корреляция убедила власти, что причиной холеры являются грязные жилища, и заставила принять меры по их оздоровлению[51 - Rabinow Р. French Modern: Norms and Forms of the Social Environment. Cambridge (Mass.), 1989. Р. 31–39. См. также: Delaporte F. Disease and Civilization: The Cholera in Paris, 1832 / Transl. A. Goldhammer. Cambridge (Mass.), 1986.].
Другой метод, позволивший работать с новой массой чисел, – определение среднего. В 1830–1840-е годы Адольф Кетле разработал концепцию среднего человека, основав ее на собственном открытии, что статистика населения равномерно распределяется вокруг средней величины. Таким образом, он взял абстракцию – в реальном мире не существовало «среднего человека» – и придал ей видимость чего-то настоящего. Этот гипотетический средний человек стал мерилом других людей[52 - Hacking I. The Taming of Chance. P. 107–109. О восприятии Кетле в России (русские переводы его работ вышли в 1865–1866 годах) см.: Paperno I. Suicide as a Cultural Institution in Dostoevsky’s Russia. Ithaca, 1997. P. 66–67. См. рус. пер.: Паперно И. Самоубийство как культурный институт. М., 1999.]. На тех, кто не дотягивал до этой нормы, был навешен ярлык людей, «не соответствующих стандарту», а то и «с отклонениями» от нормы. Установление норм физического развития человека задало цель, к которой следовало стремиться. Основатель евгеники Фрэнсис Гальтон распределил людей по квартилям вокруг статистической медианы и рекомендовал вмешиваться в воспроизводство, чтобы добиться статистического улучшения качества расы или населения[53 - Hacking I. The Taming of Chance. P. 167–169; Rabinow Р. French Modern. Р. 327. В конце XIX столетия Эмиль Дюркгейм взял модель физиологического среднего и приложил ее к этике и поведению. См.: Hacking I. The Taming of Chance. P. 172.]. Предложенная Кетле концепция среднего человека заменила огромное разнообразие индивидов набором социальных правил и установлений. В свою очередь, это вытеснение либерального политического субъекта перенесло фокус внимания на коллектив и его общее благополучие[54 - Ewald F. L’Еtat providence. Paris, 1986. P. 146; Curtis B. Surveying the Social: Techniques, Practices, Power // Histoire sociale / Social History. 2002. Vol. 35. P. 95–97. См. также: Porter T. M. The Rise of Statistical Thinking, 1820–1900. Princeton, 1988.].
Статистическое мышление заметно повлияло как на понимание социальной защиты, так и на планы социологов и политиков по ее улучшению. Причины статистических исследований и социального вмешательства были, разумеется, утилитарными, в некоторых случаях – филантропическими. Такие люди, как Кетле, желали улучшить положение рабочих масс и потому стремились открыть статистические законы, управлявшие болезнями, преступностью и нищетой[55 - Hacking I. The Taming of Chance. P. 118.]. Как следствие, уровень социальной защиты повысился благодаря приведению в порядок трущоб и помощи бедным. Другим следствием были усиление государственного вмешательства в жизнь людей и более активное навязывание норм поведения.
Социальная статистика и в целом социология сыграли роль в появлении идеала технократии – научного управления обществом. Притягательность технократии отчасти была вызвана ее объективностью, позволявшей предлагать, как казалось, бесспорные решения. На деле социология могла быть очень субъективной, поскольку статистика собиралась лишь по тем категориям, которые считались существенными (например, этническое происхождение или уровень доходов), а соотносили их друг с другом только исходя из предвзятых мнений (связывавших, к примеру, алкоголизм с преступностью). Более того, из социальных наук часто выводили стандарты поведения, использовавшиеся как точка отсчета при оценке других людей. Однако большинство социологов не только не видели ограниченности и предвзятости своих выводов, но и верили, что располагают орудиями, которые позволят лучше, чем когда-либо прежде, понять общественные проблемы и найти их решение.
Для многих политических деятелей технократия стала еще и привлекательной альтернативой сложностям коалиционной политики и демократических реформ[56 - См.: Maier C. Between Taylorism and Technocracy: European Ideologies and the Vision of Industrial Productivity in the 1920s // Journal of Contemporary History. 1970. Vol. 5. No. 2. P. 27–61.]. В условиях острого классового противостояния, характерного для XIX века, технократический подход к общественным проблемам предлагал желанную альтернативу узкопартийному подходу, а также средство помочь всеобщему благу. На протяжении большей части XIX столетия либералы могли спокойно критиковать власть извне. Но и тогда, когда либерализм и буржуазные общества пустили корни, многие тяжелые проблемы, которые, как ожидалось, найдут решение, упрямо не хотели уходить. Как писал один из специалистов по Германии, «смесь враждебности и тревоги по отношению к профсоюзам и преступности (которые часто смешивали) была результатом разочарования буржуа в собственном успехе. Масштаб и скорость этого успеха лишь увеличили степень этого разочарования, поскольку они начали острее ощущать, что они могут потерять»[57 - Blackbourne D. The Discreet Charm of the Bourgeoisie // The Peculiarities of German History / Eds.. D. Blackbourne and G. Eley. New York, 1984. P. 216.]. Традиционные либеральные подходы и благотворительная помощь, предоставляемая отдельным людям, уже не казались адекватным средством решения общественных проблем. Наука и технократия предлагали альтернативную модель. Такие достижения, как развитие статистики и современной медицины, впервые в истории, казалось, сделали возможными научное исследование общества и научное руководство его жизнью. Некоторые социальные мыслители верили, что всю человеческую деятельность можно реорганизовать на рациональной научной основе[58 - Domansky Е. Militarization and Reproduction in World War I Germany // Society, Culture, and the State in Germany, 1870–1930 / Ed. G. Eley. Ann Arbor, 1996. Р. 430.].
Во Франции, к примеру, власти и социальные мыслители склонялись к технократии и уделяли все большее внимание обществу в целом, а не отдельным людям. Реформисты от социал-католиков до эволюционных социалистов стремились регулировать пространство и ликвидировать общественные проблемы при помощи научно обоснованных норм. Их активисты утверждали, что в центре внимания должно быть общество, а не индивид, и регулировать общественные отношения должно государство, а не церковь или индустрия. К 1900 году из этого интеллектуального брожения родилась доктрина солидаризма – идея, что общество в целом важнее, чем его составляющие. Солидаристы утверждали, что все люди взаимозависимы, а значит, должны сотрудничать, исходя из научных норм разделения труда и обмена услугами. Французский социолог Фредерик Ле Плей (Ле Пле) считал, что «задача социального знания… состоит не только в том, чтобы узнать, как возникло общество со всеми своими конфликтами и противостояниями, но и – что более важно – в том, чтобы создать социальные механизмы, которые позволят вернуть общество к его естественному состоянию классовой гармонии»[59 - Elwitt S. The Third Republic Defended: Bourgeois Reform in France, 1880–1914. Baton Rouge, 1986. P. 23. Более подробное обсуждение см. в кн.: Rabinow Р. French Modern. Р. 169–170, 185–186.]. Новые формы солидарности и технократического наблюдения были призваны смягчить классовое противостояние и дать возможность избежать революции. Таким образом, солидаризм представлял собой средний курс между либерализмом и марксизмом.
Фабианское общество, основанное в 1884 году в Великобритании, тоже делало упор на коллективизм и научное управление. Сидней Уэбб, лидер фабианцев, опираясь на позитивистскую философию, отстаивал идею, что технократическая элита, представляющая интересы всего общества, может восстановить социальную гармонию. В противовес марксистам фабианцы полагали, что государство надо не уничтожить, а использовать как орудие общественных перемен, положившись на опыт бюрократов[60 - Sullivan М. The Development of the British Welfare State. P. 13–15.]. Фабианцев особенно интересовали социальные программы по борьбе с бедностью, поскольку они считали, что бедные – впустую потраченный ресурс общества. В целом британские социальные мыслители ушли от представления об индивидуальных неудачах (как в эпоху работных домов) к программам экономических реформ и социального обеспечения, нацеленным на защиту общества во всей его совокупности[61 - Gilbert В. The Evolution of National Insurance in Great Britain. London, 1966. Р. 13–14, 26, 98.]. Пестрая коалиция общественных и государственных деятелей выступила поборниками так называемой национальной эффективности. Эта группа утверждала, что «мужчины и женщины составляют основное сырье, из которого сооружается величие нации», а следовательно, заявляли они, долг государственного деятеля – «позаботиться о том, чтобы эти бесценные ресурсы не оказались растрачены из-за безразличия и вялости». В отличие от социальных реформаторов-гуманистов, движимых жалостью, или профсоюзных активистов, требовавших справедливости для их собственного класса, поборники эффективности гордились своим отстраненным, научным подходом к общественным проблемам. Отринув беспорядочную политику партий и интересов, они выступили за принцип научного управления, осуществляемого под руководством знающих экспертов[62 - Searle G. R. The Quest for National Efficiency: A Study in British Politics and Political Thought, 1899–1914. Berkeley, 1971. Р. 60, 62, 82, 85.].
В Германии в 1890-е годы социологические исследования стали основываться на расширительном, «трансиндивидуальном» подходе к различным проблемам. Научно-социальные работники опирались на критерии естественных наук, чтобы «пересмотреть целые сектора социального вопроса и перенести их в поле „природы“». Эта биологизация позволяла им заявлять, что искать решение социальных проблем – прерогатива специалистов. В отличие от традиционной помощи бедным, научно-социальная работа была бюрократизированной и профессиональной, она опиралась на установленные категории населения и регламентированные методы действия и использовала опыт врачей и обученных социальных работников. Кроме того, научно-социальные работники наблюдали за всем населением, делая упор не на решение уже существующих общественных проблем, а на профилактику потенциальных[63 - Steinmetz G. Regulating the Social. P. 44, 198–202.]. Социальные реформаторы настаивали, что, если Германии суждено стать мировой державой, немецкое правительство должно пойти дальше существующего законодательства о бедных. Помимо научной социальной работы, власти начали создавать центры здоровья матери и ребенка, учреждения общественного здравоохранения и жилищную инспекцию. Эти новые учреждения ставили своей задачей ознакомление и бедных, и зажиточных семей с тем, как растить ребенка и обустраивать дом согласно научным методам[64 - Crew D. The Ambiguities of Modernity: Welfare and the German State from Wilhelm to Hitler // Society, Culture, and the State in Germany. P. 323.].
Как показано выше, социология сделала не поддающиеся решению социальные проблемы более понятными и, возможно, решаемыми. Успехи медицины привели к лучшему пониманию того, что такое заражение, и породили надежду, что все основные болезни в скором времени будут искоренены. В образовании и психологии появились такие новшества, которые, казалось, обещали, что исчезнут невежество и психические отклонения. Как считает Детлев Пойкерт, новые социологические теории и методы вкупе с новыми учреждениями и практиками социальной помощи подтолкнули ученых к утверждению, что «они могут найти всесторонние решения всех социальных вопросов»[65 - Peukert D. The Genesis of the «Final Solution». P. 238.]. Пойкерт также отмечает, что решительный прорыв в развитии производства, транспорта и коммуникаций, произошедший в конце XIX – начале XX века, питал технократический утопизм реформаторов и подрывал традиционные источники смыслов (такие, как религия), которые могли бы оспорить авторитет науки[66 - Ibid.; Idem. The Weimar Republic: The Crisis of Classical Modernity. London, 1991. Р. 187. Дэвид Крю, критикуя Пойкерта, отмечает, что он преувеличивает утопизм реформаторов и недооценивает разрушения Первой мировой войны, приведшие к крайней необходимости восстановления общества, что и лежало в основе радикализма веймарских программ и предельной степени государственного вмешательства, имевшей место в эпоху нацистов. См.: Crew D. The Ambiguities of Modernity. P. 325–326.].
Уверенность государственных деятелей и реформаторов начала XX века, что они способны разрешить общественные проблемы, приводила ко все более масштабному вмешательству государства в жизнь общества. Социальные программы уже не ограничивались пенсиями по возрасту и помощью бедным. Архитекторы и городские планировщики продвигали государственные жилищные проекты и программы реконструкции городских кварталов в целях улучшения условий жизни. Специалисты по народному просвещению стремились вырастить продуктивных граждан, а криминологи брались за перевоспитание преступников. Психологи и социальные работники пытались исправить асоциальное поведение, а специалисты по евгенике желали искоренить генетические причины тех или иных отклонений от нормы. Чтобы в полной мере осуществить реформу общества, власти развивали новые дисциплинарные механизмы: школьные расписания, санитарное просвещение, жилищную инспекцию, армейские тренировочные лагеря. Во всех этих случаях иерархическая система сочеталась с индивидуальным подходом, что позволяло насаждать новые нормы поведения. В социальной защите начали видеть масштабный проект по исправлению и образованию низших классов, с тем чтобы приобщить их к рациональной повседневной жизни. Цель заключалась не только в преодолении социальных проблем, но и в достижении наивысшей возможной эффективности и гармонии в обществе[67 - Crew D. The Ambiguities of Modernity. P. 323.].
Процесс этатизации социальной помощи, в ходе которого государственные ведомства взяли на себя роль, принадлежавшую религиозным благотворительным учреждениям и филантропическим организациям, не был ни единообразным, ни необратимым. Выбор момента для внедрения государственных программ социальной помощи сильно отличался в разных странах и даже – насколько это касалось социальной помощи, исходившей от муниципалитетов, – в разных городах. Во многих случаях выявлением социальных проблем и поиском решений занимались в первую очередь не чиновники, а независимые ученые и социальные реформаторы[68 - К примеру, в Аргентине социальные программы на государственном уровне появились только в 1940-е годы – как продолжение более ранних благотворительных инициатив, исходивших от филантропов, феминистов, иммигрантских общин и врачей. См.: Guy D. J. Women Build the Welfare State: Performing Charity and Creating Rights in Argentina, 1880–1955. Durham, 2009. P. 4–5.]. Вместе с тем в конце XIX и в XX веке, параллельно с развитием государственных программ социальной помощи, частные благотворительные организации тоже расширяли поле своего действия. Более того, Юрген Хабермас утверждал, что с возникновением социального государства «происходит взаимопроникновение государства и общества, в результате чего возникает промежуточная сфера полугосударственных-получастных отношений, предусмотренных социальным законодательством»[69 - Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society / Transl. T. Burger. Cambridge (Mass.), 1989. P. 231. См. рус. пер.: Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы: Исследования относительно категории буржуазного общества. М., 2016.]. Хотя общая тенденция была повсюду одинаковой – выявление социальных проблем и действия властей по улучшению жилищных условий, – актуализация программ социальной помощи в каждой стране происходила в рамках конкретной социально-политической системы и в свой исторический момент. Поэтому необходимо описать те условия, в которых формировались российские и советские программы социальной помощи.