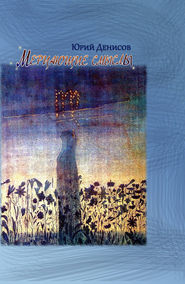скачать книгу бесплатно
Мерцающие смыслы
Юрий Михайлович Денисов
Юрий Михайлович Денисов – поэт, эссеист и прозаик, автор многожанровой книги «Утерянные ключи» (1998?г). Член союза писателей Москвы с 1994 г.
В его переводах уже не одно издание выдержали ранее неизвестный роман Дюма-отца «Ашборнский пастор» и философское исследование А. Камю «Бунтующий человек» (в соавторстве с Юрием Стефановым). Переводы Юрия Денисова из французской классической поэзии (в том числе стихи Шарля Бодлера, Артюра Рембо и Эмиля Верхарна) опубликованы более чем в пяти десятках книг. Недавно вышла в свет своего рода малая антология французской лирики под названием «Капли французских вин».
В 2011 году Юрий Денисов стал первым лауреатом премии «Живая литература» в номинации «Перевод поэзии».
Книга его малоформатной прозы «Мерцающие смыслы» находится явно за пределами повествовательно-романного русла литературы. Если в этой книге и встречаются приключения, то это многосложные перипетии человеческой души на трудной дороге жизни. Такая необычная проза рассчитана на чтение небольшими дозами, неспешное и вдумчивое, которое, возможно, помогло бы читателю найти в ней пищу для сердца и ума.
Ю. М. Денисов
Мерцающие смыслы
Предисловие
О. Шведова
В «Нобелевской лекции» Иосифа Бродского есть такая фраза: «Роман или стихотворение – не монолог, но разговор писателя с читателем – разговор, повторяю, крайне частный, исключающий всех остальных…». Но, мне думается, далеко не каждое литературное произведение даёт повод сделать подобный вывод.
Книга Ю. Денисова состоит из трёх частей: «Чистая экзистенция», «Лабиринты Эроса» и «Мерцающие смыслы» (название последней части послужило заглавием для всего издания). Этот сборник рассказов и литературных миниатюр – диалог автора с читателем, но такой искренний, доверительно-исповедальный и настолько затрагивающий самые потаённые и интимные переживания автора, что может быть сравним и с внутренним монологом. И все же рассказчик, несомненно, обращается к своему неведомому слушателю-читателю, который «услышит» его голос, возможно, узнает самого себя в том или ином персонаже, «отзовётся» сердцем на боль и радость, так незаметно сменяющие одна другую, и в итоге – задумается о превратностях пути человеческой души в этом мире.
Не только глубоко личные привязанности, но иногда и встречи с вовсе чужими людьми навсегда оседают на дне памяти, оставаясь там дорогим и бесценным или, напротив, тяжёлым и неприятным грузом. Книгу Юрия Денисова можно по праву назвать автобиографической: и в рассказах и в художественных миниатюрах читатель сразу почувствует, что с ним делятся выстраданными мыслями, воспоминаниями и откровениями. Даже когда речь идет о малознакомых, невзначай встреченных на улице, как, например, в рассказе «Отец и сын», трудно не уловить личностный подтекст. Именно тема родственной привязанности и любви между разными поколениями в семье – одна из самых ярких и убедительных в этой книге.
Называя первую часть «Чистая экзистенция», Ю. Денисов словно «ориентирует» своего читателя, невольно убеждая в каждом рассказе, что, на первый взгляд, малозначащие, бытийственные эпизоды и коллизии неизбежно ложатся в основу всего нашего земного существования. Напротив, в «Лабиринтах Эроса» сюжетная канва приобретает важное значение. В этой части книги читатель столкнётся с иным постижением реальности, обусловленным яркими, эмоциональными «взлётами». Иногда они длятся мгновения (как в «Прощальном звонке»), а порой вырываются из повседневности на месяцы и годы («В промёрзлой будке» и «… Не знаю что»). Та же беспредельная обнажённость души, та же доверительная интонация окрашивает эти небольшие рассказы, вызывая сопереживание тем персонажам, за которыми угадывается автор. И ещё один удивительный вывод я сделала, прочитав этот цикл: как не предсказуемы наши эмоции и чувства, как многое в нашем восприятии может изменить время (пусть даже на считанные часы или минуты), превращая события жизни из чего-то несущественного для нас в драгоценное и незабываемое («Снимок из пятидесятых»). В рассказах Ю. Денисова время, словно через сито, просеивает всё наносное, оставляя памятное. Уже в этой части книги, посвящённой любовным и эротическим темам, «прорастает» через реалистическое восприятие инобытие. Но не как нечто, противостоящее жизни, а как что-то абсолютно необъяснимое, фантасмагоричное и в то же время зримо явленное. Подобные «вторжения» в реальность ставят в тупик и самого автора. Так в новелле «Упущенный взгляд» происходит художественное чудо: происходящее наяву «сращивается» с явлением, неподдающимся рациональному взгляду на вещи. И это бесшовное соединение несоединимого обращает нас, читателей, к названию всего сборника «Мерцающие смыслы». Понимание, с точки зрения логики, того или иного события представляется туманно-призрачным, и мы вместе с писателем можем лишь «угадывать» его предназначение.
А подлинное «мерцание» смыслов-значений проявится в сновидческих литературных миниатюрах третьей части книги. Стилистика и эстетика этих коротких зарисовок, снов-призраков весьма отличимы от ясно выраженных «смыслов» «Чистой экзистенции». Неудивительно! Мы вторгаемся в совсем иную область нашего сознания: в мир снов, где контроль разума, образования и опыта ничего не значат. И автор смело и решительно стремится уловить сюжеты и фантомы собственного подсознания. А оно беспощадно – незаметные в обычном бодрствовании страхи, страдания, загнанные куда-то вглубь души и дорогие, покинувшие посюсторонний мир родные – завладевает и властвует человеком во сне. Проснувшись, он всё ещё находится под острым впечатлением пережитого и поверяет нам свои раздумья, пытаясь осознать то вспыхивающие, то вновь затухающие «смыслы» того, что таится в глубинах человеческого «я» Юрия Денисова.
От автора
Собранная под этим переплетом проза была написана в разные годы, начиная с 1970-х по 2012 г. включительно. Иногда я возвращался к уже сочиненному через десять, а то и тридцать лет с тем, чтобы основательно его переделать. Все свои собственные работы, да и многие переводы я писал и пишу только по внутреннему побуждению и в очень небольших объёмах. Однако, что значит, небольшой объём? В моем случае это и короткий рассказ в 5 или 10 страниц, и миниатюры, порой в несколько строк. В основу моей прозы легли житейские наблюдения, мой личный опыт и мои сновидения. Писал я как от первого, так и от третьего лица. Наверное, по причине такого разнообразия сначала мне представлялось затруднительным упорядочить мое литературное «хозяйство».
Но когда я перечитал мою малоформатную прозу, меня осенило: как школьников собирают в кружки по интересам, так и мои сочинения можно распределить по трём волнующим меня и, надеюсь, не только меня, темам – это бытие и его утрата, это дисгармонии эротической любви и, наконец, странные преломления дневной жизни в ночных сновидениях.
Теперь немного подробнее о трёх разделах книги.
В первом под названием «Чистая экзистенция» нет внешней интриги и сюжеты предельно просты. Ведь «бытие бессобытийно», как гениально заметила Марина Цветаева. В этом разделе речь идет об ощущении и душевном состоянии, которые, по моим наблюдениям, дано испытать не очень-то многим людям, да и то в редкие минуты, в особых ситуациях, все реже встречающихся в современной действительности. Речь идет об ощущении бытия, способном пробудить в человеке в одном случае эмоцию, близкую к райскому покою, а в другом случае – ужас абсолютной пустоты. В этом разделе значительное место занимает тема смерти. В наше время, как правило, размышляют о смерти только те, кого насильственно приближает к ней какая-нибудь жуткая болезнь. Хочу подчеркнуть: для меня принципиально важно назвать смерть – смертью, а не широко распространенным среди интеллигенции успокоительно бесцветным эвфемизмом «уход». Для меня тема смерти неотделима от темы родственной любви к дорогим людям, с которыми Костлявая разлучает нас навсегда. Такая любовь бывает не менее глубокой и сильной, чем любовь половая.
Название второго раздела «Лабиринты Эроса» говорит само за себя. Это лабиринты мучительных противоречий в любовных отношениях мужчин и женщин.
Последний раздел книги составляют миниатюры в прозе. Для меня – это эссенция содержания, его кристалл, а в кристалле содержимое существует только в нераздельной слиянности с его формой. В своей краткости миниатюра подобна вспышке, и было бы ошибочным ожидать от неё развёрнутой фабулы и сложной интриги. Для этого раздела я отобрал и преобразил в миниатюры лишь те из моих сновидений, в которых брезжил некий смысл или смыслы. Здесь уместно вспомнить название одной из пьес испанского драматурга Кальдерона «Жизнь есть сон». Однако справедливо и обратное утверждение: «Сон есть жизнь». И мои сновидческие миниатюры представляют собой как бы двойное преломление многоликой реальности. Хочу надеяться, что всё – биографическое и личное, которое можно встретить в этой книге, претворено в нечто художественное, которое может оказаться близким и значимым не только для автора.
I. Чистая экзистенция
Ворскла
Для меня и лето – не лето, если я не поплаваю в скромной реке Ворскле, над которой веками дремлет моя старосветская Полтава.
Впервые я с разбегу влетел в прохладную воду этой речки – стоп! – голова идёт кругом от невообразимого числа лет, которое я сейчас назову! – так вот, впервые я с разбегу влетел в её воду шестьдесят пять лет тому назад. Подумать только – шесть с половиной десятков лет!
Это был июнь 1944 года, когда ещё испепеляла и коверкала миллионы жизней чудовищная война, хоть и неуклонно отодвигаясь от нас всё дальше на Запад.
Весь городской центр являл собою сплошные руины – «развалки», как называли их тогда. Боже мой, двухэтажной уютной красоты центра как ни бывало! Куда ни глянь – обломанные стены среди груд битого кирпича, да несколько выгоревших изнутри больших зданий. На их пустые оконные проёмы смотреть было больно, как на бельма слепцов.
А вот мирный облик Ворсклы война не исказила. Весело поблёскивала под солнцем её зеленоватая, неспешно уплывающая к Днепру вода.
И к её спокойной беззаботности торопились мы каждый день наших летних каникул.
Мы – это я, мой дворовый дружок, простодушный Серёжа Шаронов, да ещё один соседский пацанчик Витя Турбило, ещё моложе нас, восьмилетних.
Только по принуждению обыденного разума я лишь условно верю – да и верю ли вообще? – что седой толстяк, постоянно угнетённый всякими хворями, и лёгкий худенький мальчик – это один и тот же я.
В простецких застиранных трусах, в заношенных майках, а если очень жарко, то и без маек, проходили мы втроём через разрушенный центр, где были сожжены все деревья, к уцелевшей окраинной улице под названием Панянка с её белыми мещанскими домишками. Густо укрытая ветвями клёнов и лип, её булыжная мостовая настолько круто спускается под гору к реке, что мы невольно ускоряли шаг, уже предвкушая, как взбодрит нас речная вода.
Протекает Ворскла между городом и его Южным вокзалом.
На правом, городском берегу реки мы облюбовали песчаный пятачок, привлекавший нашу компанийку своим необжитым безлюдьем. Здесь, вокруг серого песка, землю застилала густокудрявая травка и торчали несколько малорослых осинок. Здесь мы принадлежали только самим себе на нашем собственном пляжике. Вот где раздолье! Плавай, сколько хочешь, бултыхайся, кувыркайся, дёргай приятеля за ноги под водой, выбегай на песок, грейся – и снова бросайся в воду!
Отсюда мы с любопытством наблюдали за противоположным берегом, где находится городской пляж, несравнимо более просторный и многолюдный, пляж, где воздух переполнен детскими визгами, окриками мамаш и влажным плеском.
Ниже по течению в какой-нибудь сотне метров от моста, тогда грубо сколоченного из брёвен и толстых досок, есть второй «дикий» пляж, отгороженный от вокзала огромными раскидистыми тополями.
В мои школьные и студенческие годы родители вместе со мной приезжали сюда предаваться воскресному отдыху.
Папа, в широких тёмных брюках и лёгкой светлой сорочке, прикрыв голову соломенной шляпой, никогда не ленился нести целую кошёлку помидоров, яблок и варёных яиц. Плавал он редко и не очень-то охотно.
Мама в чёрном купальнике, поддерживаемая снизу сильной папиной рукой, беспорядочно шлёпала по воде руками и ногами, воображая, что движется вперёд и тем самым хорошенько потешая и папу, и меня.
Жара в те годы была мне нипочём. Я делал короткие, но частые заплывы. Освежённому, взбодрённому, как же хорошо было мне тогда!
И через годы, уже будучи женатым, я всё равно возвращался и возвращался к Ворскле.
Хотя мне это помнится как-то блёкло и неуверенно, старые снимки подтверждают, что я и вправду валялся на городском пляже с первой моей женой, а рядом с нами возился в песке и что-то лепетал наш сынулька.
Разные сцены из далёкого прошлого предстают воображению как бледное марево.
Ещё в начале таких уже давних семидесятых не стало папы. Больше четверти века тому назад нестерпимо юным погиб мой сын. Давно нет на свете моей мамочки, только ради меня сопротивлявшейся смертному отдыху.
О собственном детском прошлом думаю теперь с вопросительным недоумением: а был ли мальчик?
Каждый август я до сих пор еду почти тысячу километров из Москвы в Полтаву, чтобы с этим же неотвязным беззвучным вопросом вновь и вновь появляться на пляже, ближайшем к мосту, теперь железобетонному. Кто ещё, кроме меня, помнит его послевоенным, деревянным?! Кто ещё, кроме меня, помнит Южный вокзал в предпобедном году, когда взгляд, поднятый вверх, встречал не потолок, а ночное звёздное небо?!
Густые камыши, примыкающие к мосту, за десятилетия так выросли, что стали похожи на бамбуковую рощицу.
И глазам первоклассника Юры Денисова, и глазам пенсионера Юрия Михайловича Денисова неизменно представал и предстаёт высящийся на своём отдельном холме Крестовоздвиженский монастырь, чьи купола с недавних пор жарко блещут на солнце новодельной позолотой.
Неужели во мне, отяжелевшем и поседевшем, по-прежнему живёт душа послевоенного, удивлённого нашим миром, мальчишки?! Уж не пытаюсь ли я убедить себя в этом, созерцая то же самое, что видел в детстве он? Или же я и он – это два разных краткосрочных сознания, которые роднит дорогая им обоим долговечная Ворскла? Или произошло перетекание юной души в душу старую?
Не знаю, не знаю…
Но как бы там ни было, каждый новый август я вижу и узнаю то утешительно неизменное, что в свои школьные годы видел и он, тот мальчишка – Ворсклу, пляж, раскидистые тополя, стену камышей, а на востоке – прекрасный мираж Крестовоздвиженского монастыря.
На песке так же, как во все протекшие годы, лежат крупнотелые тётки, проходят узкобёдрые полудевочки-полудевушки, брызгаются в воде мальчишки, гулко отбивают волейбольный мяч мускулистые мужчины.
Лет восемь назад я ещё встречал хотя бы одного знакомца – моего одноклассника, всегда и навсегда одинокого Колю Малышева. А теперь уже не вижу и его. Вообще не вижу ни единого знакомого лица. И меня никто просто не замечает, словно я – ничейный невидимка.
Как всё это чудно и странно!
По мосту катят троллейбусы, грузовички, легковые автомобили. Катят, словно большие игрушки, какие-то невсамделишные, по каким-то несерьёзным делам.
А всерьёз и взаправду нечто иное – предающиеся безделью люди, вечерняя река и бьющее прямо в глаза предзакатное солнце.
Я только недавно осознал, что мои ежегодные посещения Ворсклы – это некая потребность, сродни религиозной, а мои медленные погружения в Ворсклу – это мой обряд причащения к её родной стихии, мой обряд причащения к безвозвратно утекшему детству.
С силой выбрасывая руки вперед, я плыву наперерез волнам, а потом переворачиваюсь на спину и, едва пошевеливая ладонями, безвольно отдаюсь плавному струению реки. Умиротворённый, я вижу над собой только безоблачное вечернее небо и чувствую, как «душа моя плывёт с её печалью мимо».
Вопрошатель
Когда я, обременённый двумя тяжёлыми сумками, входил в деревянную церковную лавочку, этого человека поблизости ещё не было. А когда я вышел, раздражённый мелкими неудачами и надоевшим грузом, шаровой фонарь неожиданно высветил весьма экзотическую фигуру то ли начинающего бомжа, то ли божьего странника. Среди декабрьской вечерней мути желтело электричество множества торговых павильонов, повсюду сновали озабоченные людишки, а он высился у порога одиноко и неприкаянно, словно одичавший пророк. У ног его стояла необычно большая сумка-тележка с огромной поклажей, а на спине примостился здоровенный, туго набитый рюкзак. Сразу видно: «всё моё ношу с собой».
Лицо этого странного типа заросло жидковатыми чёрными волосами, а такую же шевелюру прикрывала бесформенная шапчонка.
И вот что выглядело непривычно: ни в руках, ни в амуниции незнакомца я не заметил ни пивной бутылки, ни помятой алюминиевой кружки, ни грязного картуза для подаяния. Но куда сильнее впечатлило меня другое: стоя под фонарём, весь отягощённый своим имуществом, странник вызывающе громко и грозно выкрикивал в торговое пространство вопрошания, звучавшие, как страстные проклятия.
«Ну почему люди не могут жить в мире? Почему везде такая несправедливость?! И такая жестокость! Такая жестокость! Откуда столько ненависти, откуда?!»
Он замолкал и вновь с той же страстью повторял свои выкрики, между тем как покупатели со своим товаром шли себе мимо и даже ухом не вели, словно и не слыша его воплей.
А что же я? Я тут же остановился, поражённый столь диковинным феноменом, и вся моя душа сразу очнулась, услышав собственные, но уже полузабытые вопрошания.
Очень уже усталый и крайне раздражённый, я минуты две молча стоял, глядя на обнищавшего одиночку, расхриставшего перед всеми свою уязвлённую душу.
Тут вышла из лавочки моя жена, и мы по осенней сырости потащились домой.
Но с каждым десятком метров мне становилось как-то не по себе, и чем дальше, тем больше. И всё из-за того, что я, уподобившись всем остальным безликим и безразличным покупателям, даже словом не дал понять возмущённому чудаку – не его одного мучит втайне то же самое.
Метров через двести совесть совсем меня доконала. Я остановил жену, положил все наши покупки на какой-то бетонный блок, оставил её постеречь добро, а сам почти побежал обратно к церковной лавчонке.
И что же? Черноволосого проклинателя там уже не было. Я заметался в разные стороны и наконец с облегчением увидел снова этого странного человека. Он стоял в темноте уже молча, словно раздумывая, куда ему податься. Я поздоровался с ним и сказал: «Вы видите, сколько людей проходят мимо вас? Так вот, вряд ли хоть один из них способен объяснить, откуда в мире взялась такая несправедливость и такая жестокость. И я тоже не знаю, откуда!»
Тут я протянул ему немного денег, и он спокойно взял их. Я пожелал ему продержаться в жизни подольше и ушёл, хоть и с несколько притихшей совестью, но ещё более опечаленный.
Очевидец атомного взрыва
Юрка Ванжула, десятник вентиляции на шахте № 38, выбрался из низкой полости лавы и зашагал по штреку вслед за световым конусом своей «надзорки». Ещё с минуту слышался равномерный грохот угольного комбайна, а затем всё стихло, и за спиной Ванжулы осталась только тьма и тишина.
Десятника утомила долгая крикливая свара с бригадой, и теперь ему хотелось прикорнуть в каком-нибудь укромном местечке: слава богу, в ночную смену начальство не часто спускается под землю.
У поворота лежало несколько мокрых колод, и Юрка присел на одну из них. Сегодня здесь перед началом смены Холодов, однорукий газомерщик, здорово рассказывал мрачноватые анекдоты об атомной войне.
«Небось, дрыхнет сейчас в лаве на досках», – подумал о Холодове Юрка. Да и его самого клонило в сон. Парень встал с колоды и двинулся дальше, навстречу струе влажного отработанного воздуха. У трансформаторной камеры огляделся: нет ли кого поблизости? Как будто никого.
Юрка вошёл в камеру и закрыл за собой металлические створки. Они громко и неприятно скрипнули. Луч «надзорки» ощупал помещение, не просторнее, чем кухонька в малогабаритной квартире. Почти всю площадь занимали два трансформатора – неуклюжие ящики с чёрными, словно обгорелыми, рёбрами. Юрка забрался в узкий про ход между трансформатором и задней стеной камеры, при способил вместо подушки коробку шахтного противогаза, улёгся и выключил «надзорку». Здесь было тепло и сухо. Усыпляюще зудели трансформаторы; одиноко, сонливо краснел глазок электрического реле. Ванжула посвободней вытянулся и с облегчением закрыл глаза. В сознании про ступали и таяли приятно неясные мысли о полученной вчера зарплате, о новом транзисторе. Его можно прихватить с собой на свидание с Ларисой в степи за поселком. Они лежат, утомлённые, закрыв глаза, а приёмник негром ко играет. И хочется, чтобы так было долго-долго.
Юрка и не заметил, как остался лежать один в летний день на пологом холме, среди матово серых кустов полыни. Он замедленно вдыхал её вязкий запах. Небо заволокло сплошными тучами, стало душно. «Пойти бы на речку искупаться», – подумал Юрка, но, словно одурманенный полынью, даже не шелохнулся. Что-то тяготило всю его плоть. Не было сил приподнять веки, набухшие непонятными слезами. Что произошло? Откуда этот низкий тягучий гул? А, самолёты, вот оно что! Он видел сквозь со мкнутыевеки, что их сотни, тысячи, и они не летят дальше, а висят прямо над его головой. Гул переполнял своей нестерпимой чернотой всё пространство. Юрка попытался вскочить, но не смог даже шевельнуться, словно был мертвецки пьян. И вот под ним с огромным громом раскололась земля, а в небе, как в гигантском вогнутом зеркале, расплылось чудовищное солнце. Сердце в Юркиной груди мягко оборвалось, и он замертво ухнул в бесконечную про пасть…
По его ногам чем-то колотили. Юрка вскочил, весь дрожа. В его полоумные глаза бил свет «надзорки».
– Что, работяга, никак не проснёшься? – произнес чей-то издевательский голос. – Здорово же ты следишь за безопасностью!
– Уже безопасно? – пробормотал Ванжула.
– Очнись, рыжий чёрт! Завтра я с тобой иначе поговорю.
Главный инженер, будь он неладен! Юрка молча поднял коробку противогаза, плотнее обтянулся брезентовой курткой, чтобы унять бивший его озноб, и вышел из ка меры.
Об этом случае узнала чуть ли не вся шахта. Ванжулу часто просили рассказать о нём. И молодой десятник, поотнекивавшись, вспоминал, как принял во сне гудение трансформаторов за ровный гул самолетной армады, рез кий лязг металлических створок – за атомный взрыв, а яр кий свет инженерской надзорки – за атомную вспышку.
Шахтёры, большие и чёрные, шумно веселились, а на Юркином лице проступала едва заметная улыбка знания.
Эпизодец
Ну, слушай, расскажу тебе этот эпизодец. Мягкая зима. Пятница. Вечер. Я возвращаюсь с работы, иду через дворы, ступая по снегу не спеша, даже с наслаждением: никто от меня ничего не требует и мне ни от кого ничего не нужно.
И тут на меня налетает собачонка – маленькое существо какой-то там японской породы: шёрстка такая низенькая и гладенькая, что собачка кажется голой, тем более, что вся она дрожит. Мордочка – игрушечная, а в глазках чёрно мерцает непримиримая злоба.
«Ну-ну, глупышка, бросай», – прошу я благодушно и продолжаю путь. Но нет, не успокаивается, стерва: лает, лает, лает. Останавливаюсь, поворачиваюсь к ней: «Слушай, а, может, хватит? Я же тебе ничего плохого не делаю». Но эта карлица и не думает угомониться: прыгает и лает, не сводя с меня ненавидящих глаз. Я стою уже молча и не без любопытства гляжу на неё. Иронически вспоминаю стихи: «Тут подошла ко мне собака с душой, исполненной добра». У меня-то в эти минуты душа и вправду была исполнена добра.
Краем глаза замечаю тёмную фигуру с поводком в руке – хозяйка не вмешивается. А я всё ещё позой и взглядом пытаюсь образумить собачонку: я, мол, тебе не враг, да и судьба у нас в самом главном общая: рождение, существование, смерть. Да ты, чертовка, ещё счастлива, если не ведаешь о своем неизбежном исчезновении!
Но крошечный уродец аж захлебывается остервенелым лаем. Не потому ли, что поблизости стоит всесильная, по собачьему разумению, хозяйка?
– Ах ты, лакейская натура! Пшла вон!
Круто поворачиваюсь, иду дальше. Внезапная тишина заставляет меня оглянуться. И что ты думаешь? Эта дрянь подкралась и чуть не тяпнула меня за ногу.
Ну, гадина! Ну, гадина! За что она меня так ненавидит? За что?
И тут у меня у самого помрачается в глазах от накатившей духоты ненависти, сердце изнывает от приступа тёмного вожделения, и, кажется, не будет большего сладострастия, чем садануть ботинком эту злобную тварь, да так, чтобы она с жалким взвизгом подлетела в воздух и шмякнулась на землю мокрой тряпкой! Не знаю, как я с собой совладал. Через минуту приступ ослабел, но в горле тёплой жижей долго стояло отвращение к самому себе, к этой собачонке, к её хозяйке, к издевательски устроенной жизни.
Вам плохо?
У дорожки, ведущей к моему дому, привалившись спиной к стволу майского дерева, полулежит пожилой человечек. Ладони его покоятся на тёплой земле, поношенный пиджачок расстёгнут, глаза закрыты.
Останавливаюсь и остро всматриваюсь, дышит ли его грудь. Нет, она не дышит, она совершенно недвижна – так же, как и всё небольшое тело.
Господи, уж не труп ли передо мной?!
Громко спрашиваю: