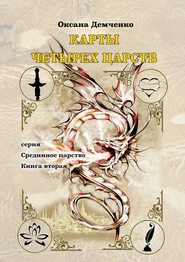скачать книгу бесплатно
Ула оборвала плач, и над двором, над улицей, нависла тяжёлая тишина… По спине Улы пробежал холодок: плотно пригнанные, тщательно обтёсанные и заполированные до блеска дубовые бревна… шевелились, вздрагивали. На темной поверхности проступал узор древесины, снова пропадал. Ворота дышали, будто норовили ожить!
Травница позволила себе глубокий вздох, не без гордости оценивая как успех эту натянутую, звенящую тишину. Можно не сомневаться: сейчас вымолвить хоть один звук не смеет никто. Даже, наверное, сам бес… У слез есть сила. Жутковатая и печальная – ведь они никого не вернут, даже разорвав душу в клочья.
– Многое вершится именем беса, – нараспев выговорила Ула, вскрывая нарыв тишины. – А только смерть вошла в наш двор непрошенная, неурочная… Седок бесова коня лежит без памяти и выживет ли, не ведаю. Ученик хэша попал под копыта, голова у него разбита, он не дышит. Ваш, говорите, конь? Тогда и вина в смерти ваша.
На улице охнули. По дубовой древесине ещё раз прошла волна искажения – и пропала, снова делая ворота обычными.
– Смерти не было, – бархат голоса не смог спрятать натянутость сомнений, дрожь напряжения. – Не было… я бы заметил кровь на траве.
Новоявленный бес осёкся: определённо, он знал, что на траву натекло предостаточно крови с порезанной щеки Шельмы. И тело на траве неподвижное – это за воротами тоже знали… Отчего есть такая уверенность, Ула не могла объяснить, но сейчас она именно знала – и верила в своё неожиданное знание.
– Всякому бесу надобно поставить имя виновного в смертный список, надо заручиться поддержкой золотого ноба, чтобы законно дать ход приговору, – Ула выждала и заголосила опять, напоминая городу о случившемся: – Убили-и… да безвременно, да безвинно, да…
– Нет! – рявкнул голос, теперь совсем не бархатный, дрожащий.
– Именем беса пустили на двор яростного коня, – с привизгом, высоко и тонко, обвинила Ула, не смущаясь того, что выкрикивает прямую ложь. – Двоих он смял, двоих! Все мы видели, все мы скорби полны.
За спиной Улы бесновался и хрипел алый конь, будто подтверждая обвинение. Он снова метался, не подпуская ни конюхов, ни слуг… И казалось – вот-вот он впрямь кому-то разобьёт голову.
– Н-нет, – голос по ту сторону ворот сошёл в настороженный шёпот.
Каждому ведомо: Рэкст способен одолеть любого. Но приговор на момент казни даже он всегда имел при себе – заполненный. А сейчас по ту сторону ворот вовсе не знаменитый багряный бес, и сила самозванца непонятна. К тому же он, в свою очередь, не ведает имени Шельмы, которого Ула объявила убитым!
– Убили, – тихо, отчаянно выдохнула Ула.
– Не чую, – усомнились по ту сторону ворот.
Травница закрыла глаза, возвращаясь всей израненной душой в худший день жизни, когда хоронила родного сына. Маленького, ему не было и семи… И умер он по весне, и все в Заводи сказали: от болезни. А она – мать и травница – знала дважды надёжно, что сыночек не просто так перестал дышать, что бывшая подруга, забрав любимого, нанесла и худший удар. И, что ещё больнее, для мести душа Улы оказалась не годна, с рождения она такая… Даже лопаясь от боли, не способна вложить силу в проклятие. Ничтожна она в чёрном слове – душа лекаря. Кровоточащая и израненная. Поникшая, как подрезанный колос. Опустевшая, как разрушенное гнездо…
Слезинки сбегали по щеке, и казалось – жадная трава их ловит, тянется, впитывает – и ощущает горечь, способную прожечь камень.
– Невозможно, – прошептали за воротами, но по голосу было понятно, что в худшее уже всерьёз верят.
– Откройте ворота, пусть видят наше горе, – строго велела Ула. – Но войти во двор я не позволю. По воротам идёт черта, для беса неодолимая. Я не приглашу в дом убийцу.
Все в мире знают: бесу никакая черта не помеха, перешагнёт и не поморщится… и всё же по неведомым причинам бессмерть не войдёт в чужой дом, если хозяин заступит дорогу и будет стоять до конца. Правда, надо быть нобом, и сильной крови… лучше всего золотым или белым. И стоять надо за правду!
Ула стояла у ворот, и ей было совершенно безразлично сейчас, кем надо быть, как надлежит стоять и за какую такую правду.
За спиной – дом Лофра. И деточки… его ученики. Начинающие людоеды, дубины, воры… как он звал их? А как бы ни звал, всегда с болью и теплотой. У Лофра душа большая, и вся она кровоточит. Много в той душе боли, иначе не получится отдать себя ученикам, которые порой и оценить дар не в состоянии. Но разве высшие дары подлежат оценке?
Запорный брус скользнул в сторону. Обе воротины стали расходиться. Обозначилась щель. И первым Ула увидела обладателя бархатного голоса. Травница не сомневалась: только он и может так выглядеть. Златовласый, нечеловечески совершенный в каждой чёрточке своей. Рослый, молодой. И поза гордая, и стать…
Огромные изумрудные глаза беса смотрели холодно, хищно. Страх прятался на самом их дне. Страх колыхал траву у ног златовласого, гнал волну внимания вперёд, за незримую черту у ворот, во двор… до самых башмаков Улы.
Волна докатилась, ногам стало холодно, будто стопы пронзили иглы травинок, прорастающих сквозь тело. Пытка длилась и длилась, но Ула терпела, сжав слабые кулаки и не позволяя спине горбиться. Холод поднимался, леденил колени… вгонял когти боли – выше, глубже… уже в позвоночник, в поясницу…
– Я отныне хозяин мира, имя моё Альвир. Я желаю войти и разоблачить твой жалкий обман, – прошелестел бес, и Ула более не сомневалась, что к ней обращается именно бес. – Твоё обвинение, старуха, лишь глупая ложь. Ты никчемная побирушка. Ты никто в этом дворе, ты здесь не хозяйка, сгинь!
– Я сказала: никто не войдёт, – почти без звука выдавили губы.
Ула смотрела в зелёные, как весенний лес, глаза беса. И ощущала, как ещё одна тяжёлая слеза катится по щеке – памятью о сыне, которого не вернуть… обещанием жизни тем детям, которые сейчас за спиной и не должны пострадать.
– Хрипи что угодно, но я войду, глупая старуха, – улыбнулся бес.
Ула смотрела в зелёные глаза, где мёрз в бесконечной ненависти загубленный лес… Она совсем заледенела от холода и боли, но не желала уступать. Она солгала? Да разве хоть в одном мире, самом жутком и несправедливом, назовут ложью слова матери, желающей защитить ни в чем не повинного ребёнка?
Златовласый бес поморщился – и нехотя отвёл взгляд. Ула смогла вздохнуть. Проследила, как бес цепко ощупывает издали всеми доступными себе способами неподвижное тело Шельмы. И – сомневается. И сам, такой могучий, холодеет от страха.
– Я могу войти! – голос казался убедительным, он не мог лгать. – Я бессмертен. Я воистину и несомненно…
Над городом скользнуло нечто мимолётное, и Ула вроде бы ощутила, как ветерок шевельнул её волосы… Бес дрогнул, отступил на шаг, вскинул руку, заслоняясь от промелька тени. Ула ощутила, как понемногу возвращается в пальцы тепло – колючее, болезненное, но живое. Она вздохнула, повела плечами. Холод отпустил позвоночник. Даже ноги снова чувствовались!
Златовласый отступил ещё на шаг, продолжая рассматривать нечто над головой Улы, на арке ворот.
– Да кто ты такая? Да откуда бы здесь… – в голосе отчётливо зазвучал страх. – Это… это невозможно. Невозможно!
Бес отвернулся, не позволяя себе даже покоситься на ворота. Он жестом велел скорее закрыть створки тем, кого Ула лишь теперь и заметила – свите, многим вооружённым людям вне двора, на улице.
– Я не верю в заявленную смерть, но я выше базарных склок с выжившими из ума старухами. Так и быть, пользуйтесь украденным, подлые людишки. Воистину ничто не связывает меня ни с бедами сего дома, ни с людьми его, живыми и мёртвыми, – скороговоркой вещал бес, шагая прочь всё быстрее.
Створки ворот с грохотом сошлись.
Ула ощутила, как из неё вынимают стержень решимости – и сползла на колени. Мягкие, прямо-таки бескостные руки ткнулись о плитки двора, подломились в локтях… В голове шевельнулась мысль: «Отчего привиделась трава? Ведь мнилось она под ногами, и у меня – и у беса… а нет травы! Только каменные плитки. Нет травы, нет и не было!»…
Со спины кто-то бережно подхватил, помог не упасть, не удариться помертвевшим лицом о холодные камни…
Травница упрямо заставила себя задрать голову на дрожащей, ноющей шее. Что за тень? Что напугало беса, могучего и непобедимого?
На арке ворот не было совершенно никого и ничего. Ула оттолкнула учеников, жестом запретила поддерживать себя и тем более уводить, уносить прочь. Она упрямо озиралась и выискивала хоть малую подсказку.
Нашла! Охнула, зажмурилась… снова посмотрела. Очень длинная тень ворот лежала в сумерках окружённого стенами двора, едва намеченная утренним светом. «Мёртвый» Шельма с бледным, залитым кровью лицом, скорчился как раз в тени арки – а дальше, у него за спиной, тень продолжалась очень и очень странно. Выходило так, будто на воротах сидит огромная птица.
Ула обернулась: нет птицы! Тем более огромной. Да никакой нет! Травница снова осмотрела тень ворот… И ошарашено проследила, как тень птицы расправляет крылья. Волосы тронул ветерок полёта – неспешного, мощного. Загадочный ветерок избрал лишь волосы травницы, не потревожив более ничьи.
Птица взмывала выше, тень её делалась меньше, слабее… А с души падал, уносился во тьму, пропадал навсегда камень давней боли. Ула знала: никогда впредь не выдавить ей и слезинки по погибшему сыну. Никогда… он оплакан и принадлежит прошлому. Он ушёл в невозвратный путь, и его пора отпустить.
Тень птицы сделалась ничтожна, пропала… Ула глубоко, спокойно вздохнула. Осмотрела отвоёванный у беса двор. Вот и Шельма шевельнулся, приоткрыл здоровый глаз, разобрал кивок Улы – можно, ты опять жив, ты вправе двигаться.
Шельма сел, потянулся, тыльной стороной ладони размазал по лицу кровь, не замечая боли. Он рассмеялся, подмигнул травнице – сразу же скорчил отвратнейшую рожу в сторону ворот… Снова тревожно обернулся к Уле. Прыжком вскинулся, вмиг оказался рядом, оттёр всех, подхватил Улу на руки. Нахмурился, всматриваясь в лицо и стараясь понять то, что травнице не удавалось внятно выговорить. Язык отнялся… усталость давила, сминала…
– Ворон, – пробовала пояснить Ула. – От детей весточка… один ушёл и не вернётся, а второй-то, мой Ул, жив. Жив!
Травница слабо улыбнулась – и стала сползать во мрак запоздалого страха, накрывающего сознание плотным, долгим обмороком.
Когда Ула очнулась снова, бас Лофра рокотал, разливался во весь двор. Это было замечательно: расслабленно лежать в беседке, под ворохом одеял. Глядеть в потолок с весёлыми жёлтыми глазами сосновых сучков. Слушать, как дребезжат в переплётах стекла, до дрожи испуганные хозяйским криком.
– Где воры? – ревел Лофр, обнимая конскую шею и счастливо похрюкивая, когда Алый Пэм норовил прикусить ворот его куртки. – Мой конь! Законно мой, вот вам, удавитесь! Мой Пэм, сокровище и гордость… Кто ж мог удумать, что бес получше многих людей дела наладит, когда на край ступит? Мой конь!
Лофр тряс какими-то бумагами, хлопал алого скакуна по шее и приплясывал, а рядом с ним приплясывал Шельма – тот, кто мечтал уворовать Пэма и заполучил его законно, чтобы кланяться копытам и шептать жутчайшие ругательства в точёное, безупречное конское ухо…
– Вам лучше, тётушка? – пропищал рядом Голос. – Вы долго отдыхали. Жаль, много упустили, смешной был переполох. Мне разрешено тут жить, а кто Шельму назовёт вором, того сказано удавить. А вы теперь хозяйка, и все дела. А ещё от князя был гонец, и от канцлера тоже. Никто не понимает, что за новый бес и куда делся Рэкст. Никто нового беса не уважает, если травница из деревни заступила ему дорогу и в глаза врала, а он утёрся и утёк.
Голос зачирикал слабым, неловким смехом. Ула улыбнулась в ответ. И махнула рукой, приветствуя нежданную радость: от ворот через двор, вежливо поклонившись Лофру и не задерживаясь, шагал его прежний любимый ученик – Дорн хэш Боув. Он спешил к Уле, издали звал матушкой, растроганно улыбался – и некоторые икали от удивления, видя у красноглазого ублюдка такое выражение лица.
– Дорн, и ты добрался, деточка, – порадовалась Ула. – Шель, а приготовь короб с травами и заложи повозку. Надо глянуть больного. Сэн жив, я по лицу Дорна это вижу, а ещё вижу – нездоров… лечить надобно, и спешно. Поедешь со мной, научу растирать травы в ступке. Надо ведь с чего-то начать привычку к лекарству.
– Дык же ж, – порадовался Шельма, издали разобрав приказы.
Он даже отвернулся от скакуна, последний раз огладив великолепную шею – неужели травы ему важнее бесценного Пэма?
Ула осмотрела двор хэша Лофра… весь он казался иным, чем вчера. Совсем иным. Потому что сегодня он был – дом, родной отныне и надолго… навсегда?
Солгать можно бесу, но никак не детям, однажды вставшим к тебе за спину в поисках защиты и помощи.
Глава 2
В которой рассказывается о событиях зимы 3211 года
Путь беса. Никакого великодушия
На соломенной крыше лежал вервр, уже привыкший называть себя дарёным именем Ан. Вервр вдыхал запахи хлева, дыма, городской гнили, снежной свежести – и блаженно щурился.
Город Эйне, столица княжества Мийро… Люди бы сказали, возвращаясь после отлучки: сколько лет, сколько зим. Людям удобно мерить время малыми отрезками сезонов. А он помнит Эйнэ от самого рождения – не своего, а этого вот города. Он выбрал место под личный особняк, и тогда никто из свиты не мог понять, почему бес селится в стороне от прочих, в глуши… Люди не смотрят далеко вперёд. Людям не просчитать заранее и без ошибки, где спустя несколько веков вырастет самое богатое предместье и как оно станет сплошным парком с редкими шпилями дворцов.
Вервр усмехнулся воспоминаниям – без горечи… Да, тогда он основательно устраивался в мире, покинутом атлами, которые невесть с чего избрали смерть и влились в здешний род людской, хотя обладали бессмертием. Рэкст привыкал жить в неуютном для себя четвёртом царстве, где убивать разумных и одушевлённых можно лишь с разрешения других таких же разумных и одушевлённых… Хотя ограничение оказалось столь же фальшивым, как понятия разумности и одушевлённости. Люди охотно отдавали бесу все, что он желал взять.
И вот – он вернулся в город без громкого имени, без золота и славы. Слепой, и люди вокруг тоже будто ослепли, не узнают и не замечают бывшего своего хозяина. Он постепенно привык, лишь изредка поминает ядовитым шёпотом врага Клога. Он не стремился в Эйнэ, но душа… душа ныла, помня незавершённое.
Более года бес не наведывался в город, где прежде каждая собака испуганно скулила, если шёпотом упоминали Рэкста. Теперь и не шепчутся, вроде. Людишки стали похожи на давно непуганую дичь, гордую своей лихостью, покуда не хрустнет случайная ветка – вмиг напомнив поступь мягкой тяжёлой лапы… И тогда липкий страх проявится, он ведь у дичи внутри, вроде костяка. Он и делает дичь – добычей.
– Людишки, – промурлыкал вервр, ощупал мешок и добыл крольчонка.
Он бы предпочёл поймать дикого, но – город… Приходится брать из клетки.
– Людишки, – снова шепнул вервр, уже с отчётливым презрением. Приладился и перекусил добыче позвоночник.
Ан пил кровь, ощущал последние судороги тельца – и хмурился. Люди так жалки и нелепы… До отвращения. Они дарят кроликов детям, украшают чашки слащавыми рисунками с ушастыми мордашками и заходятся праведной истерикой, стоит у них на глазах вот так вот – поужинать свежатиной. А сами-то? Чуть не заживо сдирают шкуру с подросших кролей. Забивают зверьков небрежно, не с первого удара, и жрут пережаренную мертвечину. Вдохновенно рассуждают о вкусе и мастерстве повара, в то же время коркой хлеба подчищая подливу с миски – на дне которой намалёван всё тот же пушистый милаха-крольчонок…
Облизнувшись, вервр сел и вслушался в звуки ночи. Напрягся, прыжком взвился – и, разворачиваясь в движении, сразу метнулся к тому сараю, где оставил в тепле и безопасности свою обузу.
В два с половиной года (хотя пойди учти возраст в случае Аны!) детям подобает спать всю ночь. Уж всяко им не открыть надёжно подпёртую снаружи дверь, им не выбраться в ничтожное по размеру слуховое оконце, им…
– Зар-раза, – прорычал вервр, не пытаясь разобрать, о ком он, о себе или о младенце.
Девочка не спала и не сидела тихо, где ей велено. Девочка топала маленькими ножками по обледенелой загаженной мостовой, падала на попку, хихикала, поднималась и шагала дальше, иногда повторяя своё любимое: «Тя-тя-тя!».
Крошечная девочка, за жизнь которой он отвечал, оказалась одна посреди тёмного воровского пригорода. Того самого, где и столичная стража после полуночи старается лишний раз не шуметь.
Вервр домчался до нужной улицы, резко остановился, зевнул, собирая сведения о месте – и заскользил по низким крышам, крытым где камышом, а где и черепицей. Тень вервра не касалась мостовой, ползла по краю крыш. А внизу, совсем рядом с тенью, вышагивала, сопя и смачно сморкаясь, чудовищная бабища. В своей косматой шубе нараспашку она казалась похожей на медведицу. Рослая, с тяжёлыми мужскими плечами и поступью ломовой лошади – вон, окна вздрагивают… Вервр принюхался и усмехнулся: он прежде не раз прибегал к помощи этой особы в ночных делах специфического свойства. Знал её в лицо и по запаху, а не только по прозвищу, которым и в лачугах, и в богатейших дворцах пугали капризных детишек: «Не плачь, а то Белоручка услышит, умыкнёт! И не увидишь маму и папу больше никогда!».
Белоручка, первая на всю тёмную сторону столицы в добыче живого товара для любых нужд, икнула и, запинаясь, помянула старого беса. Затем она… остановилась. Редкостное зрелище! Ну, сами посудите: пёрло по родной улице чудище, пёрло так, что крепостную стену бы прошибло, не заметив… и вдруг затопталось в тупом недоумении. А дальше – хуже: Белоручка улыбнулась щербатой пастью, всплеснула крупными руками, всегда красными, припухшими и упрятанными в кружевные перчатки.
– Да где-ж-ты-ж её-ж мать в корень? – басом проревела Белоручка.
Лёгкие, едва слышные шажки топотали по ледяной корке мостовой. От таракана было бы больше шума, пожалуй. И он бы наверняка догадался улизнуть в щель, спасаясь от ужасной встречи.
– Уёй-ё-оо, – оживлённо, деловито умилилась Белоручка.
Она была для чутья вервра пятном тьмы посреди полуночного спящего города – вся в мыслях и делах, лишённых намёка на свет… Да ещё косматая шуба, распахнутая на груди, да здоровенный платок, накрученный на то место, где у слабаков сужение – шея.
Детские шаги все так же топотали, не сбиваясь в бег.
Чудовищная бабища – а её и стражники боялись издали – упёрла ручищи в бока, шире расставила ноги, перегородила своей тушей улицу и смачно сплюнула. Кажется, именно от плевка, а не по воле проворных рук подельника, задрожал и сдох последний на всю округу масляный фонарь. Заботами градоправителя столица освещалась весьма ярко, но тёмная сторона – она и есть тёмная. Фонарщики тоже люди, тоже хотят жить…
На улицу медленно, как пуховый снег в безветрие, опустилась тишина. Детские шаги более не шуршали: девочка плюхнулась на солому у стены сарая-развалюхи и принялась скрести снег с обледенелого сугроба. Снега оказалось мало, шарик снежка не слепился, и девочка бросила бестолковую игру. Села удобнее и осмотрелась.
– Гу! – широко улыбнулось Белоручке самое наивное во всём мире дитя.
Белоручка прищурилась, заинтересованно хмыкнула. Теперь вервр, считывая настроение, знал: его обуза, по мнению воровки, настолько хорошенькая – хоть теперь с неё картинку рисуй да в постоялом дворе вешай, к чаю, на сладкое… То есть малышка Ана – готовый товар в упаковке, такой можно сбыть в древнейший нобский дом, если он бездетный! Да на таких детей заказы вперёд расписаны невесть на сколько…
– Эгм-эх, – прочистила горло Белоручка.
– Гу! – охотно отозвалась девочка, она ведь вышла погулять, чтобы не было скучно. – Тя-тя-тя-а…
Белоручка недоуменно хмыкнула и снова осмотрела тёмную улицу: ни намёка на нянь и родителей, ни шума поисков дитяти, ни проблесков света вдали…
Девочка улыбнулась шире, сунула ручонку за пазуху и добыла липкий комок. Облизала пальцы, хихикнула – и протянула комок самой страшной для любого ребёнка тёте, как будто такую можно угощать. По-дружески.
– Шельма-ж, – взревела Белоручка, с подозрением оглядывая крыши и заборы, поворачиваясь неожиданно проворно для её веса. – Сучонок, а ну подь! Добью-ж… твои затеи, бесов сыночка?
Ночь проглотила эхо – и не отозвалась, не выдала и намёка на присутствие того, кто, даже выгнанный с обещанием убить при встрече, часто мешал родной матушке пополнять запертый накрепко сарай неродными детьми, без их на то согласия.
– Тя-тя-а! – внятно выговорила девочка, рассмеялась, встала и затопала к Белоручке, держа комок на вытянутой руке.
Белоручка крякнула и плюхнулась на колени. Нагнулась, приняла комок, наконец опознав в нем несколько слипшихся сушёных абрикосов.
– Кусно! – доверительно пообещала девочка.
Она смотрела на косматое чудище, запрокинув голову, и улыбалась. Затем и вовсе, вцепилась в красную руку, обтянутую нелепым, неуместным кружевом. Воздух звенел и шуршал, ночь кружилась и опадала кристалликами снежинок… На кружевную перчатку, на слипшиеся абрикосы, на вспотевшую невесть с чего щеку Белоручки.
– Ты чья-ж, дурёха? – сморгнув, вдруг спросила воровка серьёзно. Сунула за щеку абрикосы, прожевала, проглотила и ещё посидела, морщась и гулко, длинно выдыхая.
Девочка снова порылась в своей шубке, добыла ленту и принялась её вязать бантиком на толстом указательном пальце Белоручки.
– Касиво, – важно сообщала «дурёха», хотя бантик не получился.
– Вот же-ж вилы, – задумалась Белоручка, глядя в глаза девочки и смаргивая в каком-то вялом, коровьем недоумении. Наконец, она вздрогнула и взвыла, очнувшись: – Зуб!