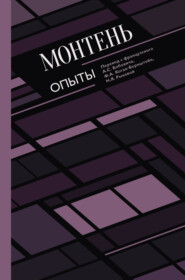скачать книгу бесплатно
Не всем таланты все дарованы бывают.
Это относится, как мы можем убедиться, и к красноречию; одним свойственна легкость и живость в речах, и они, как говорится, за словом в карман не полезут, во всеоружии всегда и везде, тогда как другие, более тяжелые на подъем, напротив, не вымолвят ни единого слова, не обдумав предварительно своей речи и основательно не поработав над нею. И подобно тому как дамам советуют иногда, в каких играх и телесных упражнениях им лучше участвовать, чтобы выставить напоказ все, что в них есть самого привлекательного, так и я на вопрос, какой из этих двух видов красноречия, которым в наше время пользуются преимущественно проповедники и адвокаты, под стать первым и какой – вторым, я посоветовал бы человеку, говорящему медлительно, стать проповедником, а человеку, говорящему живо, адвокатом. Ведь обязанности первого предоставляют ему сколько угодно досуга для подготовки, а кроме того, его деятельность постоянно протекает в одном направлении, спокойно и ровно, в то время как обстоятельства, в которых живет и действует адвокат, в любое мгновение могут принудить его к поединку, причем неожиданные наскоки противника выбивают его подчас из седла, и ему тут же на месте приходится изыскивать новые приемы защиты.
Между тем при свидании папы Климента с королем Франциском, происходившем в Марселе, вышло как раз наоборот. Господин Пуайе, человек, всю жизнь выступавший в судах, можно сказать, там воспитавшийся и высоко там ценимый, получив поручение произнести приветственную речь папе, имел достаточно времени, чтобы хорошенько поразмыслить над нею и, как говорят, привез ее из Парижа в совершенно готовом виде. Но в тот самый день, когда эта речь должна была быть произнесена, папа, опасаясь, как бы в приветственном слове ему не сказали чего-нибудь такого, что могло бы задеть находившихся при нем послов других государей, уведомил короля о желательном и, по его мнению, соответствующем месту и времени содержании речи. К несчастью, однако, это было совсем не то, над чем трудился господин Пуайе, так что подготовленная им речь оказалась ненужною, и ему надлежало в кратчайший срок сочинить новую. Но так как он почувствовал себя неспособным к выполнению этой задачи, ее пришлось взять на себя господину кардиналу Дю Белле.
Труд адвоката сложнее труда проповедника, и все же мы встречаем, по-моему, больше сносных адвокатов, чем проповедников. Так по крайней мере обстоит дело во Франции.
Нашему остроумию, как кажется, более свойственны быстрота и внезапность, тогда как уму – основательность и медлительность. Но как тот, кто, не располагая досугом для подготовки, остается немым, так и тот, кто говорит одинаково хорошо, независимо от того, располагал ли он перед этим досугом, представляют собою крайности. О Севере Кассии рассказывают, что он говорил значительно лучше без предварительного обдумывания своей речи и что своими успехами он скорее обязан удаче, чем прилежанию. Рассказывают также, что ему шло на пользу, если его раздражали во время произнесения речи, и что противники остерегались задевать его за живое, опасаясь, как бы гнев не удвоил его красноречия. Я знаю, по личному опыту, людей с таким складом характера, с которым несовместима кропотливая и напряженная подготовка. Если у таких людей мысль в том или ином случае не течет легко и свободно, она становится не способною к чему-либо путному. Мы говорим об иных сочинениях, что от них несет маслом и лампой, так как огромный труд, который в них вложен авторами, сообщает им отпечаток шероховатости и неуклюжести. К тому же стремление сделать как можно лучше и напряженность души, чрезмерно скованной и поглощенной делом, искажают ее творение, калечат, душат его, вроде того, как это происходит иногда с водой, которая будучи сжата и стеснена своим собственным напором и изобилием, не находит для себя выхода из открытого, но слишком узкого для нее отверстия.
У людей с таким характером, о котором я здесь говорю, бывает иногда так: им вовсе не требуется толчков извне, пробуждающих бурные страсти, как, например, ярость Кассия, – такое волнение было бы для них слишком грубым; их натура нуждается не в возбуждении, а во вдохновении – в каких-либо особых впечатлениях, неожиданных и внезапных. Человек подобного душевного склада, предоставленный себе, бывает вял и бесплоден. Легкое волнение придает ему жизнь и пробуждает талант.
Я плохо умею управлять и распоряжаться собой. Случай имеет надо мной большую власть, чем я сам. Обстоятельства, общество, в котором я нахожусь, наконец, звучание моего голоса извлекают из моего ума больше, чем я мог бы обнаружить в себе, занимаясь самоисследованием или употребляя его на потребу себе самому.
Мои речи, вследствие этого, стоят больше, чем мои писания, если вообще допустимо выбирать между вещами, которые не имеют никакой ценности.
Со мной бывает и так, что я не нахожу себя там, где ищу, и вообще я чаще нахожу себя благодаря счастливой случайности, чем при помощи самоисследования. Допустим, что мне удалось выразить на бумаге нечто тонкое и остроумное (я очень хорошо понимаю, что для другого может быть плохо то, что для меня очень хорошо; оставим ложную скромность: каждый старается в меру своих способностей). И вдруг моя мысль настолько от меня ускользает, что я уже больше не знаю, что я хотел сказать; и случается, что сторонний человек понимает меня лучше, чем я сам. Если бы я пускал в ход бритву всякий раз, когда в этом является надобность, от меня бы ровно ничего не осталось. Но может настать такой час, когда забытое мною озарится светом более ясным, чем белый день, и тогда я буду только удивляться моей теперешней растерянности.
Глава XI
О предсказаниях
Относительно оракулов известно, что вера в них стала утрачиваться еще задолго до пришествия Иисуса Христа. Мы знаем, что Цицерон пытался установить причины постигшего их упадка: Cur isto modo iam oracula Delphis non eduntur non modo nostra aetate sed iamdiu ut modo nihil possit esse contemptius?[19 - Почему из Дельф уже не исходят таким же образом оракулы и не только в наше время, но уже давно, так что они сделались всего презреннее? (лат.) Цицерон. О гадании, II, 57.] Но что касается других предсказаний: по костям и внутренностям приносимых в жертву животных, у которых, по мнению Платона, строение внутренних органов в известной мере приспособлено к этому, по тому, как роются в земле куры, по полету различных птиц, aves quasdam rerum augurandarum causa natas esse putamus[20 - Мы считаем некоторых птиц предназначенными для гадания (лат.). Цицерон. О природе богов, II, 64.], по молнии, по извилинам рек, multa cernunt aruspices, multa augures provident, multa oraculis declarantur, multa vaticinationibus, multa somniis, multa portentis[21 - Многое различают гаруспики, многое предвидят авгуры, многое возвещается оракулами, многое пророчествами, многое снами, многое знамениями (лат.). Там же, II, 65.] и иным приметам, на которых древние по большей части основывали свои начинания, как государственные, так и частные, то наша религия упразднила их. Но все же и у нас сохраняются кое-какие способы заглядывать в будущее: при помощи звезд, духов, различных телесных признаков, снов и еще многого другого, что служит ясным свидетельством неудержимого любопытства нашей души, жаждущей заглянуть в будущее, точно ей не хватает забот в настоящем:
cur hans tibi rector Olympi
Sollicitis visum mortalibus addere curam,
Noscant venturas ut dira per omina clades,
Sit subitum quodcunque paras, sit caeca futuri
Mens hominum fati, liceat sperare timenti[22 - Почему тебе, правитель Олимпа, угодно прибавлять эту заботу к тревогам смертных, чтобы они через грозные знамения узнавали о будущих несчастьях? Пусть внезапным будет то, что ты готовишь, пусть человеческий разум останется слеп к грядущей судьбе, позволь устрашенному еще надеяться! (лат.) Лукан, II, 4 cл.].
Ne utile quidem est scire, quid futurum sit. Miserum est enim nihil proficientem angi[23 - Нет пользы знать, что будет. Ведь жалкая участь – терзаться, не в силах помочь (лат.). Цицерон. О природе богов, III, 6.], и это действительно так, ибо наша душа бессильна перед обстоятельствами.
Вот почему случившееся с Франческо, маркизом Салуцким, показалось мне весьма примечательным. Командуя той армией короля Франциска, что находилась по ту сторону гор, бесконечно обласканный нашим двором, обязанный королю своим титулом и своими владениями, конфискованными у его брата и отданными маркизу, не имея, наконец, ни малейшего повода к измене своему государю, тем более что душа его противилась этому, он позволил запугать себя (как было выяснено впоследствии) предсказаниями об успехах, ожидающих в будущем императора Карла V, и о нашем неминуемом поражении. Об этих нелепых предсказаниях толковали повсюду, и они проникли также в Италию, где получили настолько широкое распространение, что, вследствие слухов о грозящем нам якобы разгроме, в Риме бились об заклад, что именно так и случится, ставя огромные суммы. Маркиз Салуцкий нередко с горестью говорил своим приближенным о несчастьях, неотвратимо нависших, по его мнению, над французской короной, а также о своих французских друзьях. В конце концов он поднял мятеж и переметнулся к врагу, что оказалось для него величайшим несчастьем, каково бы ни было расположение звезд. Но он вел себя при этом как человек, раздираемый противоположными побуждениями, ибо, имея в своих руках различные города и военную славу, находясь всего в двух шагах от неприятельских войск под начальством Антонио де Лейва, он мог бы, пользуясь нашим неведением о задуманной им измене, причинить значительно больше вреда. Ведь его предательство не стоило ни одной жизни, ни одного города, кроме Фоссано, да и то после долгой борьбы за него.
Prudens futuri temporis exitum
Caliginosa nocte premit deus,
Ridetque si mortalis ultra
Fas trepidat.
. . . . . . . . . . . . . .
Ille potens sui
Laetusque deget, cui licet in diem
Dixisse: Vixi. Cras vel atra
Nube polum pater occupato
Vel sole puro[24 - Бог благоразумно скрывает мраком ночи события будущего и смеется, если смертный трепещет сверх рока… Тот владеет собой и счастлив, кто может сегодня сказать: «Этот прожил. А завтра пусть Отец займет небо хоть черной тучей, хоть чистым солнцем» (лат.). Гораций. Оды, III, 29, 29 cл.].
Laetus in praesens animus, quod ultra est,
Oderit curare[25 - Довольная настоящим душа ненавидит заботу о будущем (лат.). Гоpаций. Оды, II, 16, 25 сл.].
Напротив, глубоко заблуждается тот, кто согласен со следующими словами: Ista sic reciprocantur, ut et, si divinatio sit, dii sint; et, si dii sint, sit divinatio[26 - Так они связаны друг с другом: если существует гадание, должны быть и боги, а если существуют боги, должно быть гадание (лат.). Цицерон. О гадании, I, 6.]. Гораздо разумнее говорит Пакувий:
Nam istis qui linguam avium intelligunt,
Plusque ex alieno iecore sapiunt quam ex suo,
Magis audiendum quam auscultandum censeo[27 - Полагаю, что следует слушать, но не слушаться тех, кто понимает язык птиц и лучше разбирается в чужой печени, чем в своей (лат.). Пакувий – римский поэт (220–130 гг. до н. э.). Цитату приводит Цицерон. О гадании, I, 57.].
Столь прославленное искусство тосканцев угадывать будущее возникло следующим образом. Один крестьянин, подняв лемехом своего плуга большой пласт земли, увидел, как из-под него вышел Тагет, полубог с лицом ребенка и мудростью старца. Сбежался народ. Речи Тагета и все его наставления по части гаданий собрали вместе и в течение долгих веков бережно сохраняли. Дальнейшее развитие этого искусства стоит его возникновения.
Что до меня, то я предпочел бы руководствоваться в своих делах скорее счетом очков брошенных мною игральных костей, чем подобными бреднями.
И действительно, во всех государствах с республиканским устройством на долю жребия выпадала немалая власть. В воображаемом государстве, созданном фантазией Платона, он предоставляет жребию решать многие важные вещи. Между прочим, он хочет, чтобы браки между добрыми гражданами заключались посредством жребия; этому случайному выбору он придает настолько большое значение, что только родившиеся от таких браков дети, по его мысли, должны воспитываться на родине, тогда как потомство от дурных граждан подлежит изгнанию на чужбину. Впрочем, если кто-нибудь из изгнанников, выросши, обнаружит добрые нравы, то он может быть возвращен на родину; равным образом, кто из оставленных на родине, достигнув юношеского возраста, не оправдает надежд, тот может быть, в свою очередь, изгнан в чужие края.
Я знаю людей, которые изучают и толкуют на все лады свои альманахи, ища в них указаний, как им лучше в данном случае поступить. Но поскольку в таких альманахах можно найти все, что угодно, в них, очевидно, наряду с ложью должна содержаться и доля правды. Quis est enim qui totum diem iaculans non aliquando conlineet? [28 - Какой человек, целый день бросая дротик, не угодит в цель хотя бы один раз? (лат.) Цицерон. О гадании, II, 59.]Я не придаю им сколько-нибудь большей цены от того, что вижу порою их правоту. Уж лучше бы они всегда лгали: тогда люди знали бы, что о них думать. Добавим, что никто не ведет счета их промахам, как бы часты и обычны они ни были; что же касается предсказаний, оказавшихся правильными, то им придают большое значение именно потому, что они редки и в силу этого кажутся нам чем-то непостижимым и изумительным. Вот как Диагор, по прозвищу Атеист, находясь в Самофракии, ответил тому, кто, показав ему в храме многочисленные дарственные приношения с изображением людей, спасшихся при кораблекрушении, обратился к нему с вопросом: «Ну вот, ты, который считаешь, что богам глубоко безразличны людские дела, что ты скажешь о стольких людях, спасенных милосердием?» «Пусть так, – ответил Диагор. – Но ведь тут нет изображений утонувших, а их несравненно больше». Цицерон говорит, что между всеми философами, разделявшими веру в богов, один Ксенофан Колофонский пытался бороться с предсказателями разного рода. Тем менее удивительно, что иные из наших властителей, как мы видим, все еще придают значение подобной нелепости, и нередко себе во вред.
Я хотел бы увидеть собственными глазами два таких чуда, как книгу Иоахима, аббата из Калабрии, предсказавшего всех будущих пап, их имена и их облик, и книгу императора Льва, предсказавшего византийских императоров и патриархов. Но собственными глазами я видел лишь вот что: во времена общественных бедствий люди, потрясенные своими невзгодами, отдаются во власть суеверий и пытаются выискать в небесных знамениях причину и предвестие обрушившихся на них несчастий. И так как мои современники обнаруживают в этом непостижимое искусство и ловкость, я пришел к убеждению, что, поскольку для умов острых и праздных это занятие не что иное, как развлечение, всякий, кто склонен к такого рода умствованиям, кто умеет повернуть их то в ту, то в другую сторону, может отыскать в любых писаниях все, чего бы он ни искал. Впрочем, главное условие успеха таких гадателей – это темный язык, двусмысленность и причудливость пророческих словес, в которые авторы этих книг не вложили определенного смысла с тем, чтобы потомство находило здесь все, чего бы ни пожелало.
«Демон» Сократа был, по-видимому, неким побуждением его воли, возникавшим помимо его сознания. Вполне вероятно, однако, что в душе, столь возвышенной, как у него, к тому же подготовленной постоянным упражнением в мудрости и добродетели, эти влечения, хотя бы смутные и неосознанные, были всегда разумными и достойными того, чтобы следовать им. Каждый в той или иной мере ощущал в себе подобного рода властные побуждения, возникавшие у него стремительно и внезапно. Я, который не очень-то доверяю благоразумию наших обдуманных решений, склонен высоко ценить такие побуждения. Нередко я и сам их испытывал; они сильно влекут к чему-нибудь или отвращают от какой-либо вещи, – последнее у Сократа бывало чаще. Я позволял этим побуждениям руководить собою, и это приводило к столь удачным и счастливым последствиям, что, право же, в них можно было бы усмотреть нечто вроде божественного внушения.
Глава XII
О стойкости
Если кто-нибудь пользуется славой человека решительного и стойкого, то это вовсе не означает, что ему нельзя уклоняться, насколько возможно, от угрожающих ему бедствий и неприятностей, а следовательно, и опасаться, как бы они не постигали его. Напротив, все средства – при условии, что они не бесчестны, – способные оградить нас от бедствий и неприятностей, не только дозволены, но и заслуживают всяческой похвалы. Что до стойкости, то мы нуждаемся в ней, чтобы терпеливо сносить невзгоды, с которыми нет средств бороться. Ведь нет такой уловки или приема в пользовании оружием во время боя, которые мы сочли бы дурными, лишь бы они помогли отразить направленный на нас удар.
Многие весьма воинственные народы применяли внезапное бегство с поля сражения как одно из главнейших средств добиться победы над неприятелем, и они оборачивались к нему спиною с большей опасностью для него, чем если бы стояли к нему лицом.
Турки и сейчас еще знают толк в этом деле.
Сократ – у Платона – потешается над Лахетом, определявшим храбрость следующим образом: «Неколебимо стоять в строю перед лицом врага». «Как! – восклицает Сократ. – Разве было бы трусостью бить неприятеля, отступая пред ним?» И в подкрепление своих слов он ссылается на Гомера, восхваляющего Энея за уменье искусно применять бегство. А после того как Лахет, подумав, должен был признать, что таков действительно обычай у скифов, да и вообще у всех конных воинов, Сократ привел ему в пример еще пехотинцев-лакедемонян, народ, столь привыкший стойко сражаться в пешем строю: в битве при Платеях, после безуспешных попыток прорвать фалангу персов, они решили рассыпаться и податься назад, чтобы, создав, таким образом, видимость бегства, разорвать и рассеять грозную массу персов, когда те бросятся преследовать их. Благодаря этой хитрости они добились победы.
Относительно скифов рассказывают, будто Дарий во время похода, предпринятого им с целью покорить этот народ, обрушился на их царя с жестокими упреками за то, что он непрерывно отступает пред ним и уклоняется от открытого боя. На что Индатирс – таково было имя царя – ответил, что отступает не из страха пред ним, ибо вообще не боится никого на свете, но потому, что таков обычай скифов на войне; ведь у них нет ни возделываемых полей, ни городов, ни домов, которые нужно было бы защищать, дабы враг ими не поживился. Однако, добавил он, если Дарию так уж не терпится сойтись с противником в открытом бою, пусть он приблизится к тем местам, где находятся могилы предков Индатирса: там он найдет, с кем померяться силами.
И все же, когда оказываешься мишенью для пушек, что нередко случается на войне, считается позорным бояться ядер, поскольку принято думать, что от них все равно не спастись вследствие их стремительности и мощи. И не раз бывало, что тот, кто при таких обстоятельствах поднимал руку или наклонял голову, вызывал по меньшей мере хохот товарищей.
Но вот что произошло однажды в Провансе во время похода императора Карла V против нас. Маркиз дель Гуасто, отправившись на разведку к городу Арлю и выйдя из-за ветряной мельницы, служившей ему прикрытием и позволившей приблизиться к городу, был замечен господами де Бонневалем и сенешалем Аженуа, которые прохаживались в амфитеатре арльского цирка. Последние указали на маркиза дель Гуасто господину де Вилье, начальнику артиллерии, и тот так метко навел кулеврину, что если бы названный выше маркиз, заметив, что по нему открыли огонь, не стал быстро на четвереньки, то, наверно, получил бы заряд в свое тело. Нечто подобное произошло за несколько лет перед тем и с Лоренцо Медичи, герцогом Урбинским, отцом королевы, матери нашего короля, во время осады Мондольфо, крепости в Италии, расположенной в области, называемой Викариатом: увидев, что уже поднесли фитиль к направленной прямо на него пушке, он спасся лишь тем, что бросился на землю, нырнув, можно сказать, словно утка. Ибо иначе ядро, которое пронеслось почти над его головой, угодило бы, без сомнения, ему прямо в живот. Говоря по правде, я не думаю, чтобы такие движения производились нами обдуманно, ибо как можно составить себе суждение, высок ли прицел или низок, когда все совершается с такою внезапностью? И гораздо вернее будет предположить, что в описанных случаях этим людям благоприятствовала судьба и что, действуя в состоянии испуга подобным образом, можно с таким же успехом угодить под ядро, как и избегнуть его попадания.
Когда оглушительный треск аркебуз внезапно поражает мой слух, и притом в таком месте, где у меня не было никаких оснований этого ожидать, я не могу удержаться от дрожи; мне не раз доводилось видеть, как то же самое случалось и с другими людьми, которые похрабрее меня.
Даже стоикам и тем ясно, что душа мудреца, как они себе его представляют, не способна устоять перед внезапно обрушившимися на нее впечатлениями и образами и что этот мудрец отдает законную дань природе, когда бледнеет и съеживается, заслышав, к примеру, раскаты грома или грохот обвала. То же самое происходит, когда его охватывают страсти: лишь бы мысль сохраняла ясность и не нарушалась в своем течении, лишь бы разум, оставаясь непоколебимым и верным себе, не поддался чувству страха или страдания. С теми, кто не принадлежит к числу мудрецов, дело обстоит точно так же, если иметь в виду первую часть сказанного, и совсем по-иному, если – вторую. Ибо у людей обычного склада действие страстей не остается поверхностным, но проникает в глубины их разума, заражая и отравляя его. Такой человек мыслит под прямым воздействием страстей и как бы повинуясь им. Вот вам полное и верное изображение душевного состояния мудреца-стоика:
Mens immota manet, lacrimae volvuntur inanes[29 - Дух неколебим, понапрасну катятся слезы (лат.). Энеида, IV, 449.].
Мудрец в понимании перипатетиков не свободен от душевных потрясений, но он умеряет их.
Глава XIII
Церемониал при встрече царствующих особ
Нет предмета, сколь бы ничтожен он ни был, который оказался бы неуместным среди этой моей причудливой смеси. Согласно принятым у нас правилам, было бы большой неучтивостью даже по отношению к равному, а тем более к тому, кто занимает высокое положение в обществе, не быть дома, если он предуведомил нас о своем прибытии. Больше того, королева Наваррская Маргарита добавляет по этому поводу, что со стороны дворянина невежливо выйти из дому, как это часто случается, навстречу тому, кто должен его посетить, сколь бы знатен последний ни был, но что гораздо почтительнее и учтивее ожидать его у себя, хотя бы из опасения разминуться с ним в пути, и что в таких случаях достаточно проводить его в предназначенные ему покои.
Что до меня, то я частенько забываю как о той, так и о другой из этих пустых обязанностей, поскольку стараюсь изгнать из моего дома всякие церемонии. Есть люди, которые иногда на это обижаются. Но что поделаешь! Лучше обидеть кого-нибудь один-единственный раз, чем постоянно терпеть самому обиду: это последнее было бы для меня нестерпимым гнетом. К чему бежать от придворного рабства, если заводишь его в своей собственной берлоге?
А вот еще одно правило, неуклонно соблюдаемое на собраниях всякого рода: оно гласит, что нижестоящим подобает являться первыми, тогда как лицам более видным приличествует, чтобы их дожидались. Однако же перед встречею папы Климента с королем Франциском, имевшею произойти в Марселе, король, отдав все необходимые распоряжения, удалился из этого города, предоставив папе в течение двух или трех дней устраиваться и отдыхать, и лишь после этого возвратился, чтобы встретиться с ним. Равным образом, когда тот же папа и император назначили встречу в Болонье, император предоставил папе возможность прибыть туда первым, сам же приехал несколько позже. При свиданиях царствующих особ руководствуются, как говорят люди знающие, следующим правилом: кто среди них самый могущественный, тому и полагается быть в назначенном месте прежде других и даже прежде того государя, в чьих владениях происходит встреча; считают, что эта уловка применяется ради того, чтобы таким способом создать видимость, будто низшие разыскивают высшего и домогаются встречи с ним, а не наоборот.
Не только в каждой стране, но и в каждом городе, и даже у каждого сословия есть свои особые правила вежливости. Я был достаточно хорошо воспитан в детстве и затем вращался в достаточно порядочном обществе, чтобы знать законы нашей французской учтивости; больше того, я в состоянии преподать их другим. Я люблю следовать им, однако не настолько покорно, чтобы они налагали путы на мою жизнь. Иные из них кажутся нам стеснительными, и если мы забываем их предумышленно, а не по невоспитанности, то это нисколько не умаляет нашей любезности. Я нередко встречал людей, которые оказывались неучтивыми именно вследствие того, что они были чересчур учтивы, и несносны вследствие того, что были чересчур вежливы.
А впрочем, уменье держать себя с людьми – вещь очень полезная. Подобно любезности и красоте, оно облегчает нам доступ в общество и способствует установлению дружеских связей, открывая тем самым возможность учиться на примере других и вместе с тем подавать пример и выказывать себя с хорошей стороны, если только в нас действительно есть нечто достойное подражания и поучительное для окружающих.
Глава XV
За бессмысленное упрямство в отстаивании крепости несут наказание
Храбрости, как и другим добродетелям, положен известный предел, преступив который, начинаешь склоняться к пороку. Вот почему она может увлечь всякого, недостаточно хорошо знающего ее границы – а установить их с точностью действительно нелегко, – к безрассудству, упрямству и безумствам всякого рода. Это обстоятельство и породило обыкновение наказывать во время войны – иногда даже смертью – тех, кто упрямо отстаивает укрепленное место, удержать которое, по правилам военной науки, невозможно. Иначе не было бы такого курятника, который, в надежде на безнаказанность, не задерживал бы продвижение целей армии.
Господин коннетабль де Монморанси при осаде Павии получил приказание переправиться через Тичино и захватить предместье св. Антония; задержанный защитниками предмостной башни, оказавшими упорное сопротивление, он все же взял ее приступом и велел повесить всех оборонявшихся в ней. Так же поступил он и впоследствии, когда сопровождал дофина в походе по ту сторону гор; после того как замок Виллано был им захвачен и солдаты, озверев, перебили всех, кто находился внутри, за исключением коменданта и знаменосца, он велел, по той же причине, повесить и этих последних. Подобную же участь и в тех же краях испытал и капитан Бони, все люди которого были перебиты при взятии укрепления; так приказал Мартен Дю Белле, в ту пору губернатор Турина. Но поскольку судить о мощи или слабости укрепления можно, лишь сопоставив свои силы с силами осаждающих (ибо тот, кто достаточным основанием стал бы сопротивляться двум кулевринам, поступил бы как сумасшедший, если бы вздумал бороться против тридцати пушек), и так как здесь, кроме того, принимается обычно в расчет могущество вторгшегося государя, его репутация, уважение, которое ему должно оказывать, то существует опасность, что на весах его чаша всегда будет несколько перевешивать. А это, в свою очередь, приводит к тому, что такой государь начинает настолько мнить о себе и своем могуществе, что ему кажется просто нелепым, будто может существовать хоть кто-нибудь, достойный сопротивляться ему, и пока ему улыбается военное счастье, он предает мечу всякого, кто борется против него, как это видно хотя бы на примере тех свирепых, надменных и исполненных варварской грубости требований, которые были в обычае у восточных властителей да и ныне в ходу у их преемников.
Также и там, где португальцы впервые начали грабить Индию, они нашли государства, в которых господствовал общераспространенный и нерушимый закон, гласящий, что враг, побежденный войском, находящимся под начальством царя или его наместника, не подлежит выкупу и не может надеяться на пощаду.
Итак, пусть всякий, кто сможет, остерегается попасть в руки судьи, когда этот судья – победоносный и вооруженный до зубов враг.
Глава XVI
О наказании за трусость
Я слышал как-то от одного принца и весьма крупного полководца, что нельзя осуждать на смерть солдата за малодушие; это мнение было высказано им за столом, после того как ему рассказали о суде над господином де Вервеном, приговоренным к смерти за сдачу Булони.
И в самом деле, я нахожу вполне правильным, что проводят отчетливую границу между поступками, проистекающими от нашей слабости, и теми, которые порождены злонамеренностью. Совершая последние, мы сознательно восстаем против велений нашего разума, запечатленных в нас самою природою, тогда как, совершая первые, мы имели бы основание, думается мне, сослаться на ту же природу, которая создала нас столь немощными и несовершенными; вот почему весьма многие полагают, что нам можно вменять в вину только содеянное нами вопреки совести. На этом и основано в известной мере как мнение тех, кто осуждает смертную казнь для еретиков и неверующих, так и правило, согласно которому адвокат и судья не могут привлекаться к ответственности за промахи, допущенные по неведению при отправлении ими должности.
Что касается трусости, то, как известно, наиболее распространенный способ ее наказания – это всеобщее презрение и поношение. Считают, что подобное наказание ввел впервые в употребление законодатель Харонд и что до него всякого бежавшего с поля сражения греческие законы карали смертью; он же приказал вместо этого выставлять таких беглецов на три дня в женском платье на городской площади, надеясь, что это может послужить им на пользу и что бесчестие возвратит им мужество. Suffundere malis hominis sanguinem quam effundere[30 - Пусть лучше кровь приливает к щекам, чем проливается (лат.). Тертуллиан. Апологетика, IV.]. Римские законы, по крайней мере в древнейшее время, также карали бежавших с поля сражения смертной казнью. Так, Аммиан Марцеллин рассказывает, что десять солдат, повернувшихся спиной к неприятелю во время нападения римлян на войско парфян, были лишены императором Юлианом военного звания и затем преданы смерти в соответствии с древним законом. Впрочем, в другой раз за такой же проступок он наказал виновных лишь тем, что поместил их среди пленных в обозе. Хотя римский народ и подверг суровой каре солдат, бежавших после битвы при Каннах, а также тех, кто во время той же войны был с Гнеем Фульвием при его поражении, тем не менее в этом случае дело не дошло до наказания смертью.
Есть, однако, основание опасаться, что позор не только повергает в отчаянье тех, кто наказан подобным образом, и не только доводит их до полнейшего равнодушия, но и превращает порой во врагов.
Во времена наших отцов господин де Франже, некогда заместитель главнокомандующего в войсках маршала Шатильона, назначенный маршалом де Шабанном на пост губернатора Фуэнтарабии вместо господина дю Люда и сдавший этот город испанцам, был приговорен к лишению дворянского звания, и как он сам, так и его потомство были объявлены простолюдинами, причислены к податному сословию и лишены права носить оружие. Этот суровый приговор был исполнен над ними в Лионе. В дальнейшем такому же наказанию были подвергнуты все дворяне, которые находились в городе Гизе, когда туда вступил граф Нассауский; с той поры то же претерпели и некоторые другие.
Как бы там ни было, всякий раз, когда мы наблюдаем столь грубые и явные, превосходящие всякую меру невежество или трусость, мы вправе прийти к заключению, что тут достаточно доказательств преступного умысла и злой воли, и наказывать их как таковые.
Глава XVII
Об образе действий некоторых послов
Во время моих путешествий, стремясь почерпнуть из общения с другими что-нибудь для меня новое (а это – одна из лучших школ, какие только можно себе представить), я неизменно следую правилу, состоящему в том, чтобы наводить своего собеседника на разговор о таких предметах, в которых он лучше всего осведомлен.
Basti al nocchiero ragionar de'venti,
Al bifolco dei tori, et le sue piaghe
Conti'l guerrier, conti'l pastor gli armenti[31 - Пусть кормчий рассуждает только о ветре, а земледелец – о быках; пусть воин рассказывает о ранах, а пастух – о стадах (ит.). Проперций, II, 1, 43–44, в итальянском переводе Стефано Гуаццо.].
Впрочем, чаще всего наблюдается обратное, ибо всякий охотнее рассуждает о чужом ремесле, нежели о своем собственном, надеясь прослыть, таким образом, знатоком еще в какой-нибудь области; так, например, Архидам упрекал Периандра в том, что тот пренебрег славою выдающегося врача, погнавшись за славою дурного поэта.
Поглядите, сколь многословным становится Цезарь, когда он описывает нам свои изобретения, относящиеся к постройке мостов или военных машин, и как, напротив, он краток и скуп на слова всюду, где рассказывает о своих обязанностях военачальника, о своей личной храбрости или о поведении своих воинов.
Его деяния и без того достаточно подтверждают, что он выдающийся полководец; ему хочется, однако, чтобы его знали и как превосходного военного инженера, а это нечто совсем уже новое. Не так давно некий ученый юрист, когда ему показали рабочий кабинет, где было множество книг, относящихся к его роду занятий, а также к другим отраслям знания, не обнаружил в нем ничего такого, о чем, по его мнению, стоило бы поговорить. А между тем он остановился, чтобы с ученым и важным видом потолковать по поводу заграждения на винтовой лестнице, что вела в эту комнату, хотя человек до ста офицеров и солдат ежедневно проходит мимо, не обращая на него никакого внимания.
Дионисий Старший был отличнейшим полководцем, как это и приличествовало его положению, но он стремился достигнуть славы преимущественно в поэзии, в которой решительно ничего не смыслил.
Optat ephippia bos piger, optat arare caballus[32 - Ленивый вол мечтает о скачках, а конь предпочел бы пахать (лат.). Гораций. Послания, I, 14, 43.].
Но таким образом вы никогда не добьетесь чего-либо путного.
Итак, всякого, кем бы он ни был, – зодчий ли это, живописец, сапожник или кто-либо иной, – подобает неукоснительно возвращать к предмету его повседневных занятий. И по этому поводу замечу: читая сочинения по истории, – в каковом жанре упражнялись самые различные люди, – я усвоил обыкновение принимать в расчет, кем именно были писавшие: если это люди, не занимавшиеся ничем иным, кроме литературных трудов, я смотрю прежде всего на слог и язык; если врачи, я доверяю с большей охотой тому, что говорится ими о температуре воздуха, о здоровье и складе характера государей, о ранениях и болезнях; если юристы, то в первую очередь следует направить свое внимание на их рассуждения по вопросам права, о законах, о государственных учреждениях и прочих вещах такого же рода; если теологи – то на дела церковные, отлучения от церкви, эпитимии, разрешения на вступления в брак; если придворные – на описание обычаев и церемоний; если военные – на то, что относится к их ремеслу, и главным образом на их повествования о походах и битвах, в которых они принимали участие; если послы – то на всевозможные хитрости, шпионаж, подкупы и на то, как все это проделывалось.
По этой причине я выделил и отметил в «Истории» сеньора де Ланже, человека в высшей степени сведущего в этих делах, много такого, мимо чего я прошел бы, будь автором кто-либо иной. Рассказав о весьма выразительных предупреждениях, сделанных императором Карлом V римской консистории в присутствии наших послов, епископа Маковского и господина дю Велли, к чему император добавил немало оскорбительных выражений, направленных против нас, и, среди прочего, то, что если бы его военачальники, солдаты и подданные были столь же преданы своему господину и столь искусны в военном деле, как те, которыми располагает король, то он тут же навязал бы себе на шею веревку и отправился бы смиренно молить о пощаде (он, по-видимому, и сам в некоторой степени верил, что так оно в действительности и есть, ибо и позже, в течение своей жизни, раза два или три повторял то же самое), а также сообщив о том, что он послал вызов нашему королю, предлагая ему поединок в лодке, в одних рубахах, на шпагах и на кинжалах, – вышеназванный сеньор де Ланже добавляет, что упомянутые послы, написав королю донесение, утаили от него большую часть слов императора и даже те оскорбления, о которых было рассказано выше. Я нахожу весьма странным, как это посол позволил себе решать, о чем докладывать своему государю, а что скрыть от него, тем более что дело было чревато такими последствиями, что эти слова исходили от такого лица и были произнесены на столь многолюдном собрании. Мне кажется, что обязанность подчиненного – точно и правдиво, со всеми подробностями, излагать события, как они были, дабы господин располагал полной свободою отдавать приказания, оценивать положение и выбирать. Ибо искажать или утаивать истину из опасения, как бы он не принял ее неподобающим образом и как бы это не толкнуло его к какому-нибудь неправильному решению, и из-за этого оставлять его неосведомленным о действительном положении дел – подобное право, как я полагаю, принадлежит тем, кто предписывает законы, а не тем, для кого они предназначены, принадлежит руководителю и наставнику, но вовсе не тому, кто должен почитать себя низшим, и притом не только по своему положению, но и по опытности и мудрости. Как бы там ни было, я отнюдь не хотел бы, чтобы мне, при всей ничтожности моей особы, служили вышеописанным образом.
Мы стремимся, пользуясь любыми предлогами, выйти из подчинения и присвоить себе право распоряжаться; всякий из нас – и это вполне естественно – домогается свободы и власти; вот почему для вышестоящего не должно быть и в подчиненном ничего более ценного, чем простодушное и бесхитростное повиновение.
Если повиновение оказывают не беспрекословно, но сохраняя за собой известную независимость, то это большая помеха для отдающего приказание. Публий Красс, тот самый, которого римляне считали пятикратно счастливым, пребывая во время своего консульства в Азии, велел одному инженеру-греку доставить к нему большую из двух корабельных мачт, которые он видел при посещении им Афин, дабы соорудить из нее задуманную им метательную машину; грек же, основываясь на своих знаниях, позволил себе нарушить приказ и привез ту из мачт, которая была меньше, но вместе с тем, как подсказывал ему опыт, и более пригодной для указанной цели. Красс, терпеливо выслушав его доводы, велел все же подвергнуть его бичеванию, считая, что дисциплина прежде всего, даже если это ведет к ущербу для дела.
С другой стороны, нелишне отметить, что безусловное повиновение полезно лишь при наличии точного и определенного приказания. Обязанности послов допускают больше свободы в действиях, ибо в ряде случаев принимать решения приходится им самим: ведь они не только исполнители воли своего государя, они также подготавливают ее и направляют своими советами. На своем веку я видел немало высокопоставленных лиц, которых упрекали за слепое подчинение букве королевских распоряжений и неумение учитывать обстоятельства дела.
Люди сведущие порицают еще и теперь обыкновение персидских властителей предоставлять своим наместникам и доверенным лицам настолько куцые полномочия, что тем приходилось из-за любой мелочи испрашивать дополнительно указания. Подобное промедление, принимая во внимание огромные пространства персидского царства, нередко вредило, и весьма основательно, их делам.
И если Красс в письме к человеку, опытному в своем ремесле, указал на употребление, которое он намерен дать мачте, то не означало ли это, что он вступал с ним в обсуждение своего замысла и дал ему право выполнить приказание с теми или иными поправками?
Глава XVIII
О страхе
Obstupui, steteruntque comae, et vox faucibus haesit[33 - Я оцепенел, волосы встали дыбом, и голос замер в гортани (лат.). Энеида, II, 774.].
Я отнюдь не являюсь хорошим натуралистом (как принято выражаться), и мне не известно, посредством каких пружин на нас воздействует страх; но, как бы там ни было, это – страсть воистину поразительная, и врачи говорят, что нет другой, которая выбивала бы наш рассудок из положенной ему колеи в большей мере, чем эта. И впрямь, я наблюдал немало людей, становившихся невменяемыми под влиянием страха; впрочем, даже у наиболее уравновешенных страх, пока длится его приступ, может порождать ужасное ослепление. Я не говорю уже о людях невежественных и темных, которые видят со страху то своих вышедших из могил и завернутых в саваны предков, то оборотней, то домовых или еще каких чудищ. Но даже солдаты, которые, казалось бы, должны меньше других поддаваться страху, не раз принимали, ослепленные им, стадо овец за эскадрон закованных в броню всадников, камыши и тростник за латников и копейщиков, наших товарищей по оружию за врагов и крест белого цвета за красный.
Случилось, что, когда принц Бурбонский брал Рим, одного знаменщика, стоявшего на часах около замка св. Ангела, охватил при первом же сигнале тревоги такой ужас, что он бросился через пролом, со знаменем в руке, вон из города, прямо на неприятеля, убежденный, что направляется в город, к своим; и только увидев солдат принца Бурбонского, двинувшихся ему навстречу, – ибо они подумали, что это вылазка, предпринятая осажденными, – он, наконец опомнившись, повернул вспять и возвратился в город через тот же пролом, через который вышел только затем, чтобы пройти свыше трехсот шагов в сторону неприятеля по совершенно открытому месту. Далеко не так счастливо окончилось дело со знаменщиком Жюля. Когда начался штурм Сен-Поля, взятого тогда у нас графом де Бюром и господином дю Рю, этот знаменщик настолько потерялся от страха, что бросился вон из города вместе со своим знаменем через пролом и был изрублен шедшими на приступ неприятельскими солдатами. Во время той же осады произошел памятный для всех случай, когда сердце одного дворянина охватил, сжал и оледенил такой ужас, что он упал замертво у пролома, не имея на себе даже царапины.
Подобный страх овладевает иногда множеством людей. Во время одного из походов Германика против германцев два значительных отряда римлян, охваченных ужасом, бросились бежать в двух различных направлениях, причем один из них устремился как раз туда, откуда уходил другой.
Страх то окрыляет нам пятки, как в двух предыдущих примерах, то, напротив, пригвождает и сковывает нам ноги, как можно прочесть об императоре Феофиле, который, потерпев поражение в битве с агарянами, впал в такое безразличие и такое оцепенение, что не был в силах даже бежать: adeo, pavor etiam auxilia formidat[34 - В страхе даже подмога кажется угрозой (лат.). Квинт Курций, III, 11.]. Кончилось тем, что Мануил, один из главных его военачальников, схватив его за плечо и встряхнув, как делают, чтобы пробудить человека от глубокого сна, обратился к нему с такими словами: «Если ты не последуешь сейчас за мною, я предам тебя смерти, ибо лучше расстаться с жизнью, чем, потеряв царство, сделаться пленником».
Крайняя степень страха выражается в том, что, поддаваясь ему, мы даже проникаемся той самой храбростью, которой он нас лишил в минуту, когда требовалось исполнить свой долг и защитить свою честь. При первом крупном поражении римлян во время войны с Ганнибалом – в этот раз командовал ими консул Семпроний – один римский отряд численностью до десяти тысяч пехоты, оказавшись во власти страха и не видя, в своем малодушии, иного пути спасения, бросился напролом, в самую гущу врагов, и пробился сквозь них с вызывающей изумление дерзостью, нанеся тяжелый урон карфагенянам. Таким образом, он купил себе возможность позорно бежать за ту самую цену, которою мог бы купить блистательную победу. Вот чего я страшусь больше самого страха.
Вообще же страх ощущается нами с большею остротой, нежели остальные напасти.
Многих из тех, кого помяли в какой-нибудь схватке, израненных и еще окровавленных, назавтра можно снова повести в бой, но тех, кто познал, что представляет собой страх перед врагом, тех вы не сможете заставить хотя бы взглянуть на него. Все, кого постоянно снедает страх утратить имущество, подвергнуться изгнанию, впасть в зависимость, живут в постоянной тревоге; они теряют сон, перестают есть и пить, тогда как бедняки, изгнанники и рабы зачастую живут столь же беспечно, как все прочие люди. А сколько было таких, которые из боязни перед муками страха повесились, утопились или бросились в пропасть, убеждая нас воочию в том, что он еще более несносен и нестерпим, чем сама смерть.
Греки различали особый вид страха, который ни в какой степени не зависит от несовершенства наших мыслительных способностей. Такой страх, по их мнению, возникает без всяких видимых оснований и является внушением неба. Он охватывает порою целый народ, целые армии. Таким был и тот приступ страха, который причинил в Карфагене невероятные бедствия. Во всем городе слышались лишь дикие вопли, лишь смятенные голоса. Всюду можно было увидеть, как горожане выскакивали из домов, словно по сигналу тревоги, как они набрасывались один на другого, ранили и убивали друг друга, будто это были враги, вторгшиеся, чтобы захватить город. Смятение и неистовства продолжались до тех пор, пока молитвами и жертвоприношениями они не смирили гнева богов.
Такой страх греки называли паническим.
Глава XIX
О том, что нельзя судить, счастлив ли кто-нибудь, пока он не умер
Scilicet ultima semper