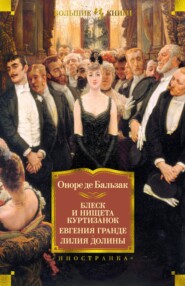скачать книгу бесплатно
– Кто его утешит? – сказала она.
– В чем вы его утешали? – спросил священник, голос которого впервые в продолжение этой сцены дрогнул.
– Не знаю, он часто приходил огорченный.
– Огорченный? – промолвил священник. – Чем? Он вам когда-нибудь об этом говорил?
– Никогда, – отвечала она.
– Он был огорчен тем, что любил такую шлюху, как вы! – вскричал он.
– Это, верно, так и было, – продолжала она с глубоким смирением. – Увы! Я самая презренная из женщин, и моим оправданием в его глазах была лишь моя беззаветная любовь к нему.
– Эта любовь должна дать вам мужество слепо мне повиноваться. Если бы я сегодня же поместил вас в пансион, где вас будут обучать, каждый скажет Люсьену, что нынче, в воскресенье, вас увез какой-то священник, и он мог бы напасть на след. Через неделю, если я не буду сюда являться, привратница не узнает меня. Итак, ровно через неделю, тоже вечером, в семь часов, вы украдкой выходите из дому и садитесь в фиакр, который будет вас ожидать в конце улицы Фрондер. Всю эту неделю избегайте встречи с Люсьеном; пользуйтесь любым предлогом и не принимайте его, а если он все же придет, подымитесь к приятельнице; я узнаю, если вы с ним встретитесь, и тогда все кончено, вы меня больше не увидите. За эту неделю вам необходимо сделать приличное приданое и отрешиться от навыков проститутки, – прибавил он, положив кошелек на камин. – В вашем облике, в вашей одежде есть нечто столь знакомое парижанам, что всякий скажет, кто вы такая. Не случалось ли вам встречать на улицах, на бульварах скромную и добродетельную молодую девушку, идущую рядом со своей матерью?
– О да! К моему несчастью. Для нас видеть мать с дочерью самая тяжкая пытка; пробуждаются угрызения совести, укрытые в тайниках сердца, они пожирают нас!.. Я слишком хорошо знаю, чего мне недостает.
– Стало быть, вы знаете, что от вас потребуется в будущее воскресенье? – сказал священник, вставая.
– О! – воскликнула она. – Научите меня, прежде чем уйти, настоящей молитве, чтобы я могла молиться Богу.
Трогательно было видеть священника и эту девушку, повторяющую за ним по-французски Ave Maria и Pater noster.
– Как это прекрасно! – сказала Эстер, сразу же без ошибки повторившая эти великолепные и общеизвестные выражения католической веры.
– Как ваше имя? – спросила она священника, когда тот прощался.
– Карлос Эррера, я испанец, изгнанник из моей страны.
Эстер взяла его руку и поцеловала. То была уже не куртизанка, то был падший и раскаявшийся ангел.
В начале марта месяца этого года пансионерки заведения, знаменитого аристократическим и религиозным воспитанием, заметили в понедельник утром, что их общество обогатилось новоприбывшей, которая красотою, бесспорно, затмевала не только всех подруг, но и те отдельные совершенства, которые можно было найти в каждой из них. Во Франции чрезвычайно трудно, чтобы не сказать невозможно, встретить все тридцать совершенств, необходимых для законченной женской красоты и прославленных персидскими стихами, которые высечены, как говорят, на стенах сераля. Во Франции безупречная красота встречается редко, зато как восхитительны отдельные черты! Что касается величавого единства этих черт, которое скульптура пытается передать и передала в немногих избранных изваяниях, как Диана и Калипига, – это достояние Греции и Малой Азии. Эстер вышла из колыбели рода человеческого, родины красоты: ее мать была еврейка. Хотя евреи от смешения с другими народами теряют свои типические черты, все же среди их многочисленных племен можно встретить в своем роде самородки, сберегшие высокий первообраз азиатской красоты. Если они не отталкивающе безобразны, они являют великолепные особенности армянских лиц. Эстер завоевала бы первенство в серале: она обладала всеми тридцатью совершенствами, гармонично слитыми воедино. Ее своеобразная жизнь, не нарушая законченности форм, свежести оболочки, сообщила ей какую-то особую женственность; то была не гладкая, упругая кожа незрелых плодов и не теплые тона зрелости, то было цветение. Продолжай она свою распутную жизнь, ей угрожала бы дородность. Избыток здоровья, совершенное развитие физических качеств существа, в котором чувственность заменяет разум, несомненно, должен представлять значительный интерес в глазах физиологов. По редкой, чтобы не сказать небывалой для столь юной девушки, случайности руки ее, несравненного благородства, были мягки, прозрачны и белы, как руки женщины после вторых родов. У нее были такие же ноги и волосы, как у герцогини Беррийской, столь ими славившейся; волосы, непокорные руке парикмахера, такие густые и такие длинные, что, падая на землю, они ложились кольцами, ибо Эстер была среднего роста, позволяющего обращать женщину как бы в игрушку, поднимать ее, класть, опять брать и носить на руках, не чувствуя усталости. Кожа, тонкая, как китайская бумага, и теплого цвета амбры, оживленная голубыми жилками, была атласная, но не сухая, нежная, но не влажная. Эстер, до крайности впечатлительная, но внешне сдержанная, сразу привлекала внимание одной особенностью, запечатленной мастерской кистью Рафаэля в его творениях, ибо Рафаэль был художником, наиболее изучившим и лучше других передавшим еврейскую красоту. Эта дивная особенность лица создавалась четкостью рисунка надбровной дуги, напоминавшей арку, под сводом которой жили глаза, как бы независимые от своей оправы. Когда молодость расцвечивает чистыми и прозрачными красками эту великолепную арку, увенчанную крылатыми бровями, когда солнечный луч, скользнув под ее окружие, ложится там розовой тенью, тогда это – источник сокровищ нежности, утоляющей любовника, источник красоты, доводящей до отчаяния живописца. В высшем напряжении создает природа и эти светоносные излучины, где приютилась золотистая тень, и эту ткань, плотную, как нерв, и чувствительную, как сама нежная мембрана.
Глаз покоится, подобно волшебному яйцу, в гнезде из шелковых травинок. Но со временем, когда страсти опалят эти столь утонченные черты, когда горести избороздят морщинами нежную ткань, тогда это чудо преисполнится мрачной печали. Происхождение Эстер сказывалось в восточном разрезе глаз с тяжелыми веками; при ярком освещении серый, аспидный цвет этих глаз переходил в синеву воронова крыла. Только поразительная нежность ее взгляда смягчала их блеск. Лишь детям пустынь дано чаровать всех своим взглядом, ибо женщина всегда кого-нибудь чарует. Глаза их, несомненно, хранят в себе что-то от бесконечности, которую они созерцали. Не снабдила ли предусмотрительная природа их сетчатую оболочку каким-то отражающим покровом, чтобы они могли выдержать миражи песков, потоки солнечных лучей и пламенную лазурь эфира? Или они, подобно другим существам человеческим, заимствуют нечто от той среды, в которой развиваются, и приобретенные там свойства проносят сквозь века! Вопрос сам по себе, может быть, заключает в себе великое разрешение расовой проблемы; инстинкты – это живая реальность, в основе их лежит подчинение необходимости. Животные разновидности суть следствие упражнения этих инстинктов. Чтобы убедиться в истине, которой доискиваются с давних пор, достаточно применить к людскому стаду опыт наблюдения над стадами испанских и английских овец; в равнинах, на лугах, изобилующих травами, они пасутся, прижавшись одна к другой, и разбегаются в горах, где скудная растительность. Оторвите этих овец от их родины, перенесите их в Швейцарию или во Францию: горная овца и на сочных лугах равнин будет пастись в одиночку; овцы равнин будут пастись, прижавшись одна к другой, даже в Альпах. Многие поколения с трудом преобразуют приобретенные и унаследованные инстинкты. Спустя сто лет горный дух вновь пробуждается в строптивом ягненке, как через восемнадцать столетий после изгнания Восток заблистал в глазах и облике Эстер. Взгляд ее отнюдь не таил опасного очарования, он излучал нежное тепло, он умилял, а не поражал, и самая твердая воля растворялась в его пламени. Эстер победила ненависть, изумив парижских распутников; но глаза и нежность ее сладостной кожи создали ей ужасное прозвище, которое едва не свело ее в могилу. Все в ней было в гармонии с ее обликом пери знойных пустынь. У нее был высокий лоб благородной формы. Нос был изящный, тонкий, как у арабов, с овальными, чуть приподнятыми, четко очерченными ноздрями. Рот – алый и свежий, как роза, не тронутая увяданием, – оргии не оставили на нем никакого следа. Подбородок, словно изваянный влюбленным скульптором, блистал молочной белизною. Одно лишь, чему она не могла помочь, выдавало опустившуюся куртизанку: испорченные ногти, – ибо требовалось много времени, чтобы вернуть им изысканную форму, настолько они были обезображены самой грубой домашней работой. Юные пансионерки сначала завидовали этому чуду красоты, затем пленились им. Не минуло и недели, как они привязались к наивной Эстер, проявив участие к тайным горестям восемнадцатилетней девушки, не умевшей ни читать, ни писать, для которой любая наука, любое учение были внове и которой предстояло составить гордость архиепископа, обратившего еврейку в католическую веру, а монастырю дать повод для торжества ее крещения. Они простили ей ее красоту, сочтя себя выше ее по воспитанию. Эстер вскоре усвоила манеру обращения, мягкость интонаций, осанку и движения этих благовоспитанных девиц – словом, она обрела свою истинную природу. Преображение было столь полное, что при первом же посещении монастыря Эррера изумился, хотя его ничто в мире, казалось, не должно было изумлять, и воспитательницы поздравили его с такой воспитанницей.
Никогда еще на своем учительском поприще эти женщины не встречали такой милой естественности, такого христианского смирения, такой неподдельной скромности, такого горячего желания учиться. Если девушка перенесла страдания, равные страданиям бедной пансионерки, и ожидает награды, подобной той, что испанец предлагал Эстер, трудно представить, чтобы она не совершила чудес, достойных первых времен существования Церкви и повторенных иезуитами в Парагвае.
– Вот назидательный пример, – сказала настоятельница, целуя ее в лоб.
Этим словом, в высшей степени католическим, было все сказано.
Во время перемен Эстер осторожно расспрашивала подруг о самых простых светских вещах, столь же для нее новых, как первые впечатления для ребенка. Когда она узнала, что в день своего крещения и первого причастия она будет одета во все белое, что у нее будет повязка из белого атласа, белые ленты, белые башмаки, белые перчатки, что у нее будут белые банты в волосах, она залилась слезами в кругу удивленных подруг. То было полной противоположностью сцене с Иевфаем на горе Хорив. Куртизанка страшилась разоблачений, и эта странная тоска, полная ужаса, омрачала радость предвкушения таинства. Между нравами, от которых она отказалась, и нравами, к которым она приобщилась, расстояние было, конечно, не меньшее, нежели между первобытной дикостью и цивилизацией, и своей грацией, наивностью и глубиной она напоминала прелестную героиню американских пуритан. Кроме того, она, сама того не ведая, таила в сердце любовь, подтачивавшую ее силы, любовь женщины, все познавшей, обуреваемой желанием более властным, нежели желание девственницы, ничего не изведавшей, хотя чувства и той и другой имеют один и тот же источник и ведут к одному и тому же концу. В первые месяцы новизна затворнической жизни, удовольствие, доставляемое учением, занятия рукоделием, религиозные обряды, усердное выполнение обета, нежная привязанность подруг, наконец, упражнение способностей пробудившегося ума, – все, даже старания совладать со своей памятью, помогло ей подавить воспоминания, ибо ей нужно было от многого отучиться и многому обучиться заново. Существует несколько видов памяти: у тела своя память, у сердца – своя, и тоска по родине, например, есть болезнь памяти физической. В исходе третьего месяца неистовая сила этой девственной души, на распахнутых крыльях стремящейся в рай, была не то чтобы укрощена, но как бы заторможена тайным чувством сопротивления, причины которому не знала и сама Эстер. Подобно шотландским овцам, она желала пастись в одиночестве, она не могла победить инстинкты, разнузданные развратом. Не грязные ли улицы Парижа, от которых она отреклась, призывали ее к себе? Не разомкнутые ли цепи страшных навыков волочились за нею, держась на позабытых креплениях, и мучили ее, как, по словам врачей, мучают старых солдат раны давно ампутированных конечностей? Не пороки ли, с их излишествами, так пропитали ее до самого мозга костей, что никакая святая вода не могла изгнать притаившегося в ней дьявола? Быть может, та, кому Господь Бог мог простить слияние любви человеческой и любви Божественной, должна была встретиться с тем, ради кого совершались эти ангельские усилия? Ведь одна любовь привела ее к другой. Быть может, в ней совершалось перемещение жизненной энергии, порождающее неизбежные страдания? Все недостоверно и полно мрака в той области, которую наука не пожелала изучить, сочтя подобную тему чересчур безнравственной и чересчур предосудительной, как будто врач, писатель, священник и политик не выше подозрений! Однако ж врач, столкнувшись со смертью, обрел ведь мужество и начал исследования, оставшиеся еще не завершенными. Возможно, мрачное состояние духа, угнетавшее Эстер и нарушавшее ее счастливую жизнь, проистекало от всех этих причин, и она страдала, ничего не ведая о них, как страдают больные, не искушенные в медицине и хирургии. Примечательный случай! Обильная и здоровая пища, сменившая пищу скудную и возбуждающую, не насыщала Эстер. Целомудренная и размеренная жизнь, чередование неутомительной работы и часов досуга вместо рассеянной жизни, полной удовольствий, столь же пагубных, как и огорчения, сокрушала юную пансионерку. Отдых самый живительный, спокойные ночи, пришедшие на смену жесточайшей усталости и страшному возбуждению, породили лихорадку, признаки которой ускользали от внимания монахини, врачующей пансионерок. Короче сказать, благополучие и счастье, заступившие место горестей и невзгод, спокойствие взамен вечной тревоги были столь же пагубны для Эстер, как ее былые злоключения были бы пагубны для ее юных подруг. Зачатая в распутстве, она в нем и выросла. Ее адская родина все еще держала девушку в своей власти вопреки верховным приказаниям ее несокрушимой воли. То, что она ненавидела, было для нее жизнью, то, что она любила, ее убивало. В ней жила вера столь пламенная, что ее благочестие радовало душу.
Она полюбила молиться. Она открыла сердце свету истинной религии, она воспринимала ее безо всякого усилия над собой, безо всяких колебаний. Священник, наставлявший ее, был от нее в восхищении, но ее тело постоянно восставало против души. Из илистого пруда выловили карпов и пустили в мраморный бассейн с чистой, прозрачной водой ради прихоти госпожи де Ментенон, кормившей их крошками с королевского стола. Карпы зачахли. Животным свойственна преданность, но никогда человек не передаст им проказу лести. Один придворный указал на этот немой протест в Версале: «Они как я, – заметила эта некоронованная королева, – тоскуют по родному болоту». В этих словах вся история Эстер. Порою бедная девушка убегала в великолепный монастырский парк и там металась от дерева к дереву, в отчаянии устремляясь в темную чащу в поисках – чего? Она сама того не знала, но она поддавалась дьявольскому соблазну, она кокетничала с деревьями; она расточала им слова, которые давно уже не произносила вслух. Вечерами она не раз скользила, подобно ужу, вдоль бесконечной монастырской ограды, без шали, с обнаженными плечами. Нередко в капелле она стояла всю мессу, вперив взгляд в распятие, и все восхищались ею: из глаз ее лились слезы, но плакала она от бешенства; она желала бы созерцать священные лики, а ей грезились пламенные ночи, когда она управляла пиршеством, как Габенек управляет в Консерватории симфонией Бетховена, – ночи озорные и сладострастные, с разнузданными движениями и безудержным смехом, неистовые, сумасшедшие, скотские. Внешне она была девственницей, прикованной к земле лишь своим женским обликом, внутри же бесновалась своевластная Мессалина. Никто, кроме нее самой, не был посвящен в тайну этой борьбы сатаны с ангелом; случалось, настоятельница журила ее за чересчур кокетливое по монастырскому уставу убранство головы, и она с очаровательной поспешностью готова была бы срезать и волосы, если бы наставница того пожелала. Тоска по родине у этой девушки, предпочитавшей погибнуть, нежели воротиться в свою грешную отчизну, была полна трогательной прелести. Она побледнела, осунулась, исхудала. Настоятельница сократила часы обучения и вызвала к себе эту удивительную девушку, желая ее расспросить. Эстер была счастлива, ей нравилось проводить время в кругу подруг; в ней нельзя было заметить ни малейшего ослабления деятельности каких-либо жизненно важных центров, но ее жизнеспособность была существенно ослаблена. Она ни о чем не сожалела, она ничего не желала. Настоятельница была удивлена ответами пансионерки, она видела, что девушка чахнет, и, не находя причины, терялась в догадках. Был призван врач, как только состояние юной воспитанницы показалось серьезным, но врач этот не знал о прежней жизни Эстер и не мог о ней подозревать; он нашел ее вполне здоровой, так как не обнаружил никакой болезни. Девушка давала ответы, опровергавшие все его предположения. Оставался один способ разрешить сомнения ученого, встревоженного страшной мыслью: Эстер упорно отказывалась подвергнуться осмотру врача. Настоятельница ввиду трудности положения вызвала аббата Эррера. Испанец явился, понял отчаянное положение Эстер и наедине коротко побеседовал с врачом. После этой дружеской беседы ученый объявил духовнику, что единственным средством спасения было бы путешествие в Италию. Аббат не пожелал на это согласиться, прежде чем Эстер не будет крещена и не примет первое причастие.
– Сколько понадобится еще времени? – спросил врач.
– Месяц, – отвечала настоятельница.
– Она умрет, – возразил врач.
– Да, но осененная благостью и спасшая душу, – сказал аббат.
Вопрос религии господствует в Испании над вопросами политическими, гражданскими и житейскими; врач ничего не ответил испанцу и обернулся к настоятельнице, но страшный аббат взял его за руку.
– Ни слова, сударь! – сказал он.
Врач, несмотря на то что он был человек религиозный и монархист, окинул Эстер взглядом, полным сердечного участия. Девушка была хороша, как поникшая на стебле лилия.
– Да будет над ней милость Божья! – воскликнул он, уходя.
В тот же день после совещания покровитель Эстер повез ее в «Роше-де-Канкаль», ибо желание спасти девушку внушало священнику самые необычайные поступки; он испробовал две формы излишества: изысканный обед, способный напомнить бедной девушке ее кутежи, и Оперу, представившую ей несколько картин из светской жизни. Потребовалось все его подавляющее влияние, чтобы юная праведница решилась на подобное кощунство. Эррера так отлично перерядился в военного, что Эстер с трудом его узнала; он позаботился набросить на свою спутницу вуаль и усадил ее вглубь ложи, чтобы она была укрыта от нескромных взглядов. Это средство, безвредное для добродетели, столь прочно завоеванной, вскоре утратило свое действие. Воспитанница испытывала отвращение к обедам покровителя, религиозный ужас перед театром и опять впала в задумчивость. «Она умирает от любви к Люсьену», – сказал себе Эррера, желавший проникнуть в недра этой души и выведать, что еще можно от нее потребовать. И вот настал момент, когда бедная девушка могла опереться лишь на свои нравственные силы, ибо тело готово было уступить. Священник рассчитал наступление этой минуты с ужасающей прозорливостью опытного человека, родственной прежнему искусству палачей пытать свою жертву. Он застал свою питомицу в саду, на скамье, возле беседки, под ласковым апрельским солнцем; казалось, ей было холодно и она тут отогревалась; от наблюдательных подруг не укрылась ее бледность увядающего растения, глаза умирающей газели, вся ее задумчивая поза. Эстер поднялась навстречу испанцу, и ее движения говорили, как мало было в ней жизни и, скажем прямо, как мало желания жить. Бедная дочь богемы, вольная раненая ласточка, она еще раз пробудила жалость в Карлосе Эррера. Мрачный посланец, который, видимо, творил волю Господа Бога, являясь лишь Его карающей десницей, встретил больную улыбкой, в которой крылось столько же горечи, сколько и нежности, столько же мстительности, сколько и милосердия. Эстер, приученная за время своей почти монашеской жизни к созерцанию и самоуглублению, вновь испытала чувство недоверия при виде своего покровителя; но, как и в первый раз, она была тотчас же успокоена его речами:
– Ну что ж, милое дитя мое, отчего вы ни словом не обмолвитесь о Люсьене?
– Я вам обещала, – отвечала она, вздрогнув всем телом, – я вам поклялась не произносить этого имени.
– Однако ж вы постоянно о нем думаете.
– В этом моя единственная вина, сударь. Я всегда думаю о нем, и, когда вы вошли, я втайне твердила его имя.
– Вас убивает разлука?
В ответ Эстер поникла головой, как больная, которая уже чувствует дыхание могилы.
– Встретиться… – начал он.
– Значит жить, – отвечала она.
– Вы стремитесь к нему только душой?
– Ах, сударь, любовь едина, ее не разъединить.
– Дочь проклятого племени! Я все сделал, чтобы тебя спасти, а теперь возвращаю тебя твоей судьбе: ты его увидишь.
– Отчего вы клянете мое счастье? Разве я не могу любить Люсьена и жить в добродетели, которую я люблю так же сильно, как и его? Разве я не готова умереть здесь ради нее, как я была готова умереть ради него? Разве я не угасаю из-за этой двойной одержимости, из-за добродетели, сделавшей меня достойной его, и из-за него, отдавшего меня в руки добродетели? Скажите, разве я не угасаю, готовая умереть, не встретившись с ним, но готовая жить после встречи с ним? Бог мне судья.
Вновь ожили ее краски, бледность приняла золотистый оттенок. Эстер еще раз обрела былое очарование.
– Вы встретитесь с Люсьеном на следующий же день после того, как вас омоют воды крещения. И если вы, посвятив ему жизнь, сочтете себя способной жить добродетельно, вы больше с ним не расстанетесь.
Священник вынужден был поднять Эстер, у нее подогнулись колени. Бедная девушка упала, словно земля ушла у нее из-под ног, аббат усадил ее на скамью, и, когда к ней вернулся дар речи, она вымолвила:
– Отчего нынче?
– Не желаете ли вы лишить монсеньора торжества по поводу вашего крещения и обращения в веру? Вы слишком близки к Люсьену, чтобы быть близкой к Богу!
– Да, я ни о чем более не думала!
– Вы не созданы для религии, – сказал священник с выражением глубокой иронии.
– Бог милостив, – возразила она. – Он читает в моем сердце.
Эррера, побежденный пленительной наивностью голоса, взгляда, движений и поведения Эстер, впервые поцеловал ее в лоб.
– Распутники дали тебе меткое прозвище: ты соблазнила бы даже Бога Отца. Еще несколько дней – так надо! – и вы оба свободны.
– Оба свободны! – повторила она восторженно.
Эта сцена, наблюдавшаяся издали, удивила воспитанниц и воспитательниц, решивших по изменившемуся виду Эстер, что они присутствовали при каком-то волшебстве. Преображенное создание было полно жизни. Эстер вновь предстала в своей истинной любовной сущности, милая, кокетливая, волнующая, жизнерадостная; наконец она воскресла!
Эррера жил на улице Кассет, близ церкви Сен-Сюльпис, к приходу которой он принадлежал. Церковь строгого и сухого стиля подходила испанцу, его религия была сродни уставу ордена доминиканцев. Добровольная жертва коварной политики Фердинанда VII, он вредил делу конституции, твердо зная, что его преданность двору может быть вознаграждена только лишь при восстановлении Rey netto[6 - Неограниченная монархия (лат.). Формула испанского абсолютизма.]. И Карлос Эррера телом и душой предался camarilla[7 - Придворная клика, окружавшая Фердинанда VII и действовавшая путем интриг и доносов (исп.).] в момент, когда о свержении кортесов не было и речи. В глазах света подобное поведение было признаком возвышенной души. Поход герцога Ангулемского состоялся, и король Фердинанд сидел на престоле, а Карлос Эррера не спешил в Мадрид предъявить счет за свои услуги. Защищенный от любопытства умением молчать, обязательным для дипломата, он объяснял свое пребывание в Париже горячей привязанностью к Люсьену де Рюбампре, и молодой человек уже был обязан ему указом короля о перемене своего имени. Впрочем, Эррера вел замкнутый, традиционный образ жизни священников, облеченных особыми полномочиями. Он посещал службы в церкви Сен-Сюльпис, отлучался из дому лишь по необходимости, всегда вечером и в карете. День заполнялся испанской сиестой – отдыхом между завтраком и обедом, именно в то время, когда Париж шумен и поглощен делами. Курение также играло свою роль в распорядке дня, поглощая столько же времени, сколько и испанского табаку. Праздность столь же хорошая маска, как и важность, которая сродни праздности. Эррера жил во втором этаже одного крыла дома, Люсьен занимал другое крыло. Оба помещения были обособлены и вместе с тем связаны обширными приемными покоями, старинная пышность которых равно приличествовала и степенному служителю культа, и юному поэту. Двор этого дома был мрачен. Вековые разросшиеся деревья наполняли тенью весь сад. Тишина и скромность присущи жилищам, облюбованным духовными особами. Помещение Эррера можно описать в трех словах: то была келья. Комнаты Люсьена, блистающие роскошью и изысканным комфортом, соединяли в себе все, чего требует праздная жизнь денди, поэта, писателя, честолюбца, распутника, человека высокомерного и вместе тщеславного, беспорядочного, но жаждущего порядка, – одного из тех неполноценных талантов, которые одарены известной способностью желать и задумывать, что, быть может, одно и то же, но не способны что-либо осуществить. Сочетание Люсьена и Эррера создавало законченного политического деятеля. В этом, несомненно, крылась тайна подобной связи. Старцы, у которых жизненная энергия переместилась в область корыстолюбия, нередко чувствуют потребность в красивой марионетке, в молодом и страстном актере для выполнения своих замыслов. Ришелье чересчур поздно стал искать прекрасное существо, белолицее и с пышными усами, чтобы бросить его на забаву женщинам. Не понятый юными ветрениками, он был вынужден изгнать мать своего властителя и повергнуть в ужас королеву, попытавшись прежде обольстить и ту и другую, хотя не имел никаких данных, чтобы пленять королев. Что станешь делать? В жизни честолюбца неизбежно столкновение с женщинами, и именно в ту минуту, когда менее всего можно ожидать подобной встречи. Как бы ни был могуществен крупный политический деятель, ему нужна женщина, чтобы ее противопоставить женщине, – так голландцы алмаз шлифуют алмазом. Рим во времена своего могущества подчинялся этой необходимости. Заметьте также, насколько Мазарини, итальянский кардинал, могущественнее Ришелье, французского кардинала! Ришелье встречает сопротивление знати и пускает в дело топор; он умирает в зените власти, изнуренный поединком, в котором его соратником был один лишь капуцин. Мазарини отвергнут буржуазией и дворянством, объединившимися, вооруженными, порою победоносными и обратившими в бегство королевскую семью; но слуга Анны Австрийской никому не отрубит голову, он сумеет покорить Францию и оказать влияние на Людовика XIV, который, завершив дело Ришелье, удушит дворянство золоченым шнуром в великом Версальском серале. Умерла госпожа де Помпадур – погиб Шуазель. Извлек ли Эррера урок из этих знаменитых примеров? Воздал ли он себе должное ранее, нежели то сделал Ришелье? Не избрал ли он в лице Люсьена своего Сен-Мара, но Сен-Мара верного? Никто не мог бы ответить на эти вопросы, никто не мог познать меру честолюбия испанца, как нельзя было предугадать, какой конец его ждет. Подобные вопросы, задававшиеся всеми, кому удавалось обнаружить эту связь, столь долго скрываемую, клонились к тому, чтобы разгадать страшную тайну, в которую Люсьен был посвящен лишь несколько дней назад. Карлос был вдвойне честолюбцем – вот о чем говорило его поведение людям, знавшим его и считавшим Люсьена его незаконным сыном. Не прошло и полутора лет с того вечера, как Люсьен появился в Опере, слишком рано вступив в свет, куда аббат желал ввести его, лишь хорошо подготовив и вооружив против этого света, а у него стояли уже в конюшне три чистокровные лошади, карета для вечерних выездов, кабриолет и тильбюри для утренних. Он обедал в городе. Ожидания Эррера сбылись: его ученик отдался всецело удовольствиям рассеянной жизни, но ведь в расчеты священника входило отвлечь юношу от безрассудной любви, таившейся в его сердце. Однако Люсьен успел уже истратить около сорока тысяч франков, и все же после каждого нового безумства его все неудержимее влекло к Торпиль; он упорно искал ее и не находил, она становилась для него тем же, чем дичь для охотника. Мог ли Эррера понять природу любви поэта? Стоит этому чувству, воспламенив сердце и овладев всем существом такого взрослого младенца, коснуться его сознания, и поэт так же высоко возносится над человечеством силою своей любви, как высоко он вознесен над ним могуществом своего воображения. Отмеченный по прихоти духовной своей природы редкой способностью передавать действительность образами, в которых запечатлеваются и чувство и мысль, он дарует любви крылья своего духа: он чувствует и изображает, он действует и размышляет, он мыслью множит ощущения; в своих мечтах о будущем и в воспоминаниях о прошлом он втайне переживает блаженство настоящего; он вносит в него утонченные наслаждения духа, возвышающие его над всеми художниками. Страсть поэта становится тогда величавой поэмой, в которой сила человеческих чувств выходит за пределы возможного. Не ставит ли поэт свою возлюбленную превыше того положения, которым довольствуется женщина? Как благородный Ламанчский рыцарь, он преображает поселянку в принцессу. Он владеет волшебной палочкой, и все, к чему он ни прикоснется ею, превращается для него в нечто чудесное, и он возвышает сладострастие, перенося его в область идеального. Оттого-то подобная любовь становится образцом страсти: она чрезмерна во всем – в надеждах, в отчаянии, в гневе, в печали, в радости; она царит, она несется вскачь, она пресмыкается, она не схожа ни с одним из бурных чувств, испытываемых заурядными людьми; перед нею мещанская любовь что ручеек в долине перед бурным потоком в Альпах. Эти прекрасные художники так редко бывают поняты, что обычно расточают себя в обманчивых надеждах; они увядают в поисках идеальных возлюбленных, они почти всегда погибают, как гибнут под ногами прохожих красивые насекомые, щедро изукрашенные по самой поэтической из причуд природы для пиршества любви, но так и не познавшие любовной страсти. Но есть и иная опасность! Когда им случится встретить тип красоты, родственный им по духу, но нередко скрывающий под своей оболочкой какую-нибудь мещанку, они поступают, как прекрасное насекомое, они поступают, как Рафаэль: они умирают у ног Форнарины. Люсьен был близок к этому. Его поэтическая натура, чрезмерная во всем, как в добре, так и в зле, открыла ангела в девушке, скорее коснувшейся разврата, нежели развращенной: она всегда являлась перед ним лучезарной, окрыленной, невинной и загадочной, какой она стала ради него, угадывая, что именно такой он ее хочет видеть.
В конце мая месяца 1825 года Люсьен утратил всю свою живость: он не выходил из дому, обедал с Эррера, впал в задумчивость, работал, читал собрание дипломатических договоров, сидел по-турецки на диване и три-четыре раза в день курил кальян. Его грум каждодневно прочищал и протирал духами трубки изящного прибора и гораздо реже чистил лошадей и украшал сбрую розами для выезда в Булонский лес. В тот день, когда испанец заметил на побледневшем челе Люсьена следы недуга, вызванного безумствами неудовлетворенной любви, он пожелал постигнуть до конца сердце того человека, на котором он основал благополучие своей жизни.
Однажды вечером Люсьен, откинувшись в кресле, безучастно созерцал закат солнца сквозь деревья в саду и завесу благоуханного дыма, подымавшегося после каждой его затяжки, равномерной и медлительной, как у всякого погруженного в раздумье курильщика; вдруг чей-то глубокий вздох нарушил его задумчивость. Он обернулся и увидел аббата, который стоял, скрестив на груди руки.
– Ты здесь! – воскликнул поэт.
– И давно, – отвечал священник. – Моя мысль следила за полетом твоей…
Люсьен понял.
– Я никогда не воображал себя железной натурой. Я не ты. Жизнь для меня то рай, то ад попеременно; но, если случайно она перестает быть тем и другим, она наводит на меня скуку, я скучаю…
– Как можно скучать, когда у тебя столько радужных надежд…
– Если не веришь в эти надежды или если они чересчур туманны, то…
– Полно ребячиться!.. – прервал его священник. – Гораздо достойнее и тебя и меня открыть мне свое сердце. Между тем есть нечто, чего никогда не должно было быть: тайна! Давность тайны – год и четыре месяца. Ты любишь женщину.
– Положим…
– Непотребную девку по прозвищу Торпиль…
– А если и так?
– Дитя мое, я позволил тебе обзавестись любовницей, но это женщина, представленная ко двору, молодая, прекрасная, влиятельная, более того – графиня. Я избрал для тебя госпожу д’Эспар, чтобы обратить ее, не совестясь, в орудие твоего успеха; ведь она никогда бы не растлила твоего сердца, она не посягала бы на его свободу… Полюбить блудницу самого низкого пошиба, если не обладаешь властью, подобно королям, пожаловать ее титулом, – огромная ошибка.
– Разве я первый пожертвовал честолюбием, чтобы вступить на путь безумной любви?
– Хорошо, – сказал священник, подняв bochettinо[8 - Чубук (ит.).], оброненный Люсьеном, и подавая ему. – Я понял колкость. Но разве нельзя соединить честолюбие и любовь? Дитя, в лице старого Эррера перед тобою мать, преданность которой безгранична…
– Знаю, старина, – сказал Люсьен, беря его руку и пожимая ее.
– Ты пожелал игрушек, роскоши – ты их получил. Ты желаешь блистать – я направляю тебя по пути власти; я лобызаю достаточно грязные руки, чтобы возвысить тебя, и ты возвысишься. Подожди еще немного, и ты не будешь знать недостатка ни в чем, что прельщает мужчин и женщин. Женственный в своих прихотях, ты мужествен умом: я все в тебе понял, я все тебе прощаю. Скажи лишь слово, и все твои мимолетные страсти будут удовлетворены. Я возвеличил твою жизнь, окружив ее ореолом политики и власти, излюбленными кумирами большинства людей. Ты будешь настолько же велик, насколько ты ничтожен сейчас; но не следует разбивать шибало, которым мы чеканим монету. Я разрешаю тебе все, кроме ошибок, пагубных для твоего будущего. Когда я открываю перед тобою салоны Сен-Жерменского предместья, я запрещаю тебе валяться в канавах. Люсьен, ради твоих интересов я буду тверд как железо, я все от тебя вытерплю ради тебя! Поэтому я исправил твой промах в жизненной игре тонким ходом искусного игрока… – (Люсьен гневным движением вскинул голову.) – Я похитил Торпиль!..
– Ты?! – вскричал Люсьен.
В припадке бешенства поэт вскочил, швырнул золотой, усыпанный драгоценными камнями bochettino в лицо священнику и толкнул его так сильно, что атлет опрокинулся навзничь.
– Да, я! – поднявшись на ноги, ответил испанец, по-прежнему сохраняя страшную серьезность.
Черный парик свалился. Голый, как у скелета, череп словно обнажил подлинное лицо этого человека – оно было ужасно. Люсьен сидел в креслах, опустив руки, удрученный, вперив в аббата бессмысленный взгляд.
– Я увез ее, – продолжал священник.
– Что ты сделал с ней? Ты увез ее на другой день после маскарада…
– Да, на другой день после того, как увидел, что существо, принадлежащее тебе, оскорбили бездельники, которым я не подал бы руки…
– Бездельники! – перебил его Люсьен. – Лучше скажи: чудовища, перед которыми те, кого казнят на гильотине, – ангелы. Знаешь ли ты, что сделала бедная Торпиль для трех из них? Один два месяца был ее любовником: она жила в нищете и подбирала крохи на улице – у него не было ни гроша, он дошел до того состояния, в котором находился я, когда ты меня встретил у реки. И вот наш малый вставал ночью, подходил к шкафу, куда эта девушка ставила остатки своего обеда, и съедал их; кончилось тем, что она обнаружила его проделки; почувствовав стыд за него, она решила оставлять побольше пищи и была счастлива. Эту историю она рассказала только мне, в фиакре, возвращаясь из Оперы. Второй совершил кражу, но, прежде чем кража была обнаружена, он успел положить деньги на прежнее место; деньги для него достала она, а он так и забыл вернуть их. Третий? Судьбу третьего она устроила, разыграв комедию с блеском, достойным таланта Фигаро: она представилась его женой и стала любовницей влиятельного человека, считавшего ее самой простодушной мещанкой. Одному – жизнь, другому – честь, а третьему – положение, что всего важнее сейчас! И вот как она была ими вознаграждена.
– Хочешь, они умрут? – спросил Эррера, прослезившись.
– Перестань! Всегда одно и то же! Ты верен себе…
– Нет, узнай все, вспыльчивый поэт, – сказал священник. – Торпиль более не существует…
Люсьен, вскочив с кресла, так неожиданно бросился к Эррера, пытаясь схватить его за горло, что всякий другой упал бы, но рука испанца удержала поэта.
– Выслушай, – сказал он холодно. – Я сделал ее женщиной целомудренной, безупречной, хорошо воспитанной, религиозной – словом, порядочной женщиной; она на пути просвещения. Она может, она должна стать под влиянием твоей любви какою-нибудь Нинон, Марион Делорм, Дюбарри, как сказал тот журналист в Опере. Ты либо открыто признаешь ее своей возлюбленной, либо укроешься в тени своего творения, что будет благоразумнее! То и другое принесет тебе пользу и славу, наслаждения и успех; но если ты столь же хороший политик, как и поэт, Эстер останется для тебя только любовницей, ведь может случиться, что она выручит нас когда-нибудь из беды – она ценится на вес золота. Пей, но не опьяняйся! Что стало бы с тобой, если бы я не руководил твоей страстью? Ты погряз бы вместе с Торпиль в скверне нищеты, откуда я тебя вытащил. Вот, прочти, – сказал Эррера так просто, как Тальма в «Манлии», которого он никогда не видел.
Листок бумаги упал на колени поэта и вывел его из того восторженного состояния, в которое его поверг необычайный ответ; он взял листок и прочел первое письмо, написанное мадемуазель Эстер:
«ГОСПОДИНУ АББАТУ КАРЛОСУ ЭРРЕРА.
Дорогой покровитель, не сочтете ли Вы, что чувство благодарности у меня сильнее чувства любви, если я, желая выразить свою признательность, впервые излагаю свои мысли на бумаге, в письме к Вам, вместо того чтобы посвятить его излияниям любви, быть может уже забытой Люсьеном? Но Вам, священнослужителю, я скажу то, чего не осмелилась бы сказать ему, на мое счастье еще привязанному к земле. Вчерашний обряд исполнил меня благодати, и я снова вверяю свою судьбу в Ваши руки. Если мне и суждено умереть вдали от моего возлюбленного, я умру очищенной, как Магдалина, и моя душа, быть может, станет соперницей его ангела-хранителя. Забуду ли я когда-нибудь вчерашнее торжество? Можно ли отречься от славного престола, на который я вознесена? Вчера я смыла с себя весь мой позор в водах крещения и вкусила святого тела Господня; теперь я одна из Его дарохранительниц. В ту минуту я услышала хор ангелов, я не была более женщиной, я рождалась к светлой жизни среди земных приветственных кликов, мирского восхищения, духовных песнопений, в облаке фимиама, в праздничных одеждах, как дева, встречающая небесного жениха. Почувствовав себя достойной Люсьена, на что я никогда не надеялась, я отреклась от греховной любви и не желаю иного пути, как путь добродетели. Если тело мое слабее души, пусть оно погибнет. Решайте мою судьбу и, если я умру, скажите Люсьену, что я умерла для него, возродившись для Бога.
Воскресенье, вечером».
Люсьен поднял на аббата глаза, затуманенные слезами.
– Ты знаешь квартиру толстухи Каролины Бельфей, что на улице Тетбу? – снова заговорил испанец. – Этой девице, когда ее покинул судейский и она очутилась в крайней нужде, грозил арест; я приказал купить всю ее обстановку, она выехала оттуда с одними тряпками. Эстер, ангел, мечтавший вознестись на небо, снизошла туда и тебя ожидает.
В эту минуту со двора до слуха Люсьена донесся нетерпеливый топот горячившихся лошадей; у него недостало слов выразить восхищение той преданностью, которую он один мог оценить, и, бросившись в объятия оскорбленного им человека, искупив все одним лишь взглядом, безмолвным излиянием чувств, сбежал по ступеням лестницы, шепнул адрес Эстер на ухо груму, и лошади помчались, точно страсть их владельца воодушевляла их бег.
На другой день человек, которого по одежде можно было счесть за переряженного жандарма, прохаживался по улице Тетбу, против одного из домов, казалось ожидая, что кто-то оттуда выйдет; походка этого человека выдавала его волнение. В Париже вы часто можете встретить подобных любителей прогулок: это жандармы, выслеживающие беглеца из Национальной гвардии; сыщики, подготовляющие чей-нибудь арест; заимодавцы, измышляющие козни против должника, который заперся у себя в четырех стенах; любовники или ревнивые и подозрительные мужья; друзья, шпионящие по просьбе друга; но редко вы встретите лицо, на котором так ясно читались бы столь дикие и жестокие мысли, как на лице этого мрачного атлета, сосредоточенно и беспокойно, точно медведь в клетке, ходившего взад и вперед под окнами мадемуазель Эстер. В полдень открылось окно, и рука служанки распахнула ставни с мягкой обивкой. Через несколько минут к окну подошла подышать воздухом Эстер в домашнем платье, она опиралась на Люсьена; каждый, взглянув на них, подумал бы, что перед ним подлинная английская статуэтка. Эстер мгновенно узнала испанского священника по его глазам василиска, и в ужасе бедная девушка вскрикнула, точно пронзенная пулей.
– Вот он, страшный священник, – сказала она, указывая на него Люсьену.
– Этот? – спросил Люсьен, улыбнувшись. – Он такой же священник, как ты…
– Но кто же он? – сказала она, трепеща.
– О, это старый мошенник, который верует в одного лишь дьявола, – ответил Люсьен.
Луч света, упавший на тайну лжесвященника, мог навеки погубить Люсьена, если бы на месте Эстер было существо менее преданное. Едва любовники отошли от окна спальни и направились в столовую, где их ожидал завтрак, перед ними предстал Карлос Эррера.