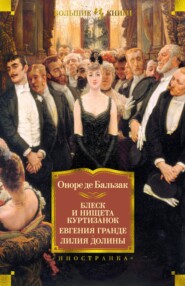скачать книгу бесплатно
– Играль краплени карт…
– Что за беда? А вы, смею спросить?.. – сказала Европа. – Что вы делаете на бирже? Не перебивайте меня. Как-то раз, когда Жорж пригрозил, что пустит пулю себе в лоб, она снесла в ломбард все свое серебро, драгоценности, а они ведь еще не оплачены! Пронюхав, что мадам выплатила кое-что одному из кредиторов, все прочие пришли к ней и устроили скандал… Угрожают Исправительной… Ваш ангел, и на скамье подсудимых!.. Ведь даже парик на голове и тот станет дыбом!.. Мадам обливается слезами, говорит, что готова в реку броситься!.. Ох! Она на все пойдет.
– Если би я зашель к Эздер, прощай биржа! – вскричал барон. – А это невозможно, чтобы я не ходиль на биржа! Потому я дольжен кое-что выиграть для нее… Ступай, успокой ее; я буду платит тольги; приду ровно в четыре час. Но, Эшени, чтобы он чутошка любил меня!..
– Как чуточку? Очень!.. Знайте, мсье, только щедростью покоряют женское сердце… Конечно, вы, может, и сберегли бы сотню тысяч франков, позволив ей сесть в тюрьму. Но никогда бы вы не завоевали ее сердца… Ведь она мне сказала: «Эжени, он был поистине великодушен, поистине щедр… У него прекрасная душа!»
– Он так сказаль, Эшени? – вскричал барон.
– Да, мсье, своими ушами слышала.
– Держи, вот десять луитор…
– Благодарю… Но она все еще плачет… она выплакала со вчерашнего дня столько слез, сколько их выплакала святая Магдалина за целый месяц… Ваша любимая убивается, и добро бы еще из-за собственных долгов! Ох эти мужчины! Разоряют они женщин, как женщины разоряют стариков… ей-ей!
– Мужчин весь таков! Обешшаль! Эх, только говориль… Пускай он не подписивает ничефо больше. Я буду платить, но если он будет давать ишо подпись… я…
– А что вы сделаете? – сказала Европа, подбоченясь.
– Поже мой! Я не имей никакая власть над ней… Я сам займусь делами Эздер… Ступай! ступай! Утешай ее, говори, что не пройдет месяц, как он будет полючать маленки тфорец.
– Вы поместили, господин барон, капитал на крупные проценты в сердце женщины! Знаете… я нахожу, что вы помолодели; хоть я только горничная, а часто наблюдала такие чудеса… счастья… У счастья есть какой-то свой особый отблеск… Если вы потратились, не жалейте… Увидите, какой это принесет доход! Прежде всего, и я сказала это мадам, она будет последней из последних, будет потаскушкой, если вас не полюбит, ведь вы ее вытаскиваете из сущего ада… Вот отойдут от нее заботы, вы ее не узнаете! Между нами, должна вам признаться: ночью, когда она так рыдала, – что прикажете делать?.. – ведь дорожат все же уважением человека, который готов нас содержать, – она не могла осмелиться сказать вам все это… она хотела убежать…
– Убежать!.. – вскричал барон, испуганный этой мыслью. – Но биржа, биржа! Ступай, ступай! Я не пойду с тобой… Но прошу, чтоби он подходил к окна, чтоби я видел ее… Это придаст мне бодрость…
Эстер улыбнулась господину Нусингену, когда он проходил мимо ее дома, а он, тяжело ступая, удалился, прошептав про себя: «Ангел!»
При помощи какой же уловки Европа достигла столь непостижимого результата? К половине третьего Эстер закончила свой туалет, словно ожидая прихода Люсьена; она была восхитительна. Заметив это, Европа выглянула в окно и сказала: «А вот и мсье!» Бедная девушка бросилась к окну, надеясь увидеть Люсьена, и увидела Нусингена.
– Ах, какую боль ты мне причиняешь! – воскликнула она.
– Иного средства не было утешить невзначай бедного старика, который заплатит ваши долги, – отвечала Европа. – Ведь все они будут наконец заплачены!
– Какие долги? – вскричало бедное создание, мечтавшее лишь удержать свою любовь, которую хотели отнять у нее страшные руки.
– Долги, которые господин Карлос устроил мадам.
– Как, вот уже почти четыреста пятьдесят тысяч франков! – воскликнула Эстер.
– Прибавьте еще сто пятьдесят. Но он отлично принял все это… барон… он вытащит вас отсюда, поселит в маленки тфорец… Право, вы не так уж несчастны!.. На вашем месте, раз уж вы так крепко привязали к себе этого человека, я бы выполнила требования Карлоса, а там заставила бы подарить себе дом и ренту. Мадам, конечно, самая красивая женщина, какую я только видела, и самая привлекательная… Но красота проходит так быстро! Я была свежа и красива, и вот… Мне двадцать три года, почти возраст мадам, а я кажусь старше лет на десять… Достаточно заболеть, и… Ну а когда имеешь дом в Париже и ренту, не боишься, что умрешь на мостовой…
Эстер не слушала более Европу-Эжени-Прюданс Сервьен. Воля человека, одаренного талантом растления, опять погрузила Эстер в грязь с тою же силой, какую этот человек положил, чтобы извлечь ее из грязи. Лишь тот, кто познал любовь во всей ее бесконечности, понимает, что человеку дано вкусить ее блаженства, лишь приобщившись к ее добродетелям. После сцены в конуре на улице Ланглад Эстер совершенно забыла о своей прежней жизни. Она жила с того времени чрезвычайно добродетельно, вся уйдя в чувство любви к Люсьену. Поэтому, желая избежать сопротивления, Карлос так искусно все подготовил, что бедной девушке, движимой преданностью, не оставалось ничего более, как изъявлять свое согласие на мошенничества либо уже совершенные, либо готовые совершиться. Это коварство, говорящее о превосходстве развратителя над своими жертвами, указывает и на те приемы, которыми он подчинил себе Люсьена. Создать роковую неизбежность, устроить подкоп, подложить порох и в решительную минуту сказать сообщнику: «Сделай одно лишь движение, и все взорвется!» Прежде Эстер, проникнутая особой моралью куртизанок, находила все эти шуточки настолько естественными, что достоинства соперницы измеряла расточительностью ее любовника. Разоренные состояния – вот знаки отличия этих женщин. Карлос, положившись на воспоминания Эстер, не обманулся. Все эти военные хитрости, все эти уловки, тысячи раз испробованные не только такими женщинами, но и мотами, не смущали Эстер. Несчастная чувствовала только свое унижение. Она любила Люсьена, но она должна была стать признанной любовницей барона Нусингена; в этом заключалось все. Брал ли с барона деньги в задаток мнимый испанец, строил ли свое счастье Люсьен на камнях могилы Эстер, какой ценою куплена ночь блаженства старым бароном, сколько тысячефранковых билетов выманила у него Европа более или менее искусными приемами – ничто не волновало влюбленную девушку, но в сердце ее кровоточила рана! Пять лет жила она как непорочный ангел. Она любила, она была счастлива, она не изменила даже мыслью. И эта прекрасная чистая любовь должна быть осквернена! Она не сравнивала свою отрадную уединенную жизнь с тем позорным существованием, что ей было уготовано отныне. То не было ни расчетом, ни поэтической экзальтацией, ее переполняло одно лишь неизъяснимое, глубокое чувство: из белой она становилась черной, из чистой – нечистой, из честной – бесчестной. Но, став безупречной по собственной воле, она не могла перенести позора. Недаром она хотела броситься из окна, когда барон стал угрожать ей своею любовью. Короче говоря, Люсьен был любим беззаветно и с такой силой, с какой женщины чрезвычайно редко любят мужчину. Женщина хотя и говорит, что любит, хотя она нередко даже думает, что так, как любит она, никто еще не любил, все же она не прочь попорхать, покружиться в вальсе, полюбезничать, пленить свет своими уборами, пожинать успех во взорах вздыхателей; но Эстер совершала чудеса истинной любви, ничего не принося в жертву. Шесть лет она любила Люсьена, как любят актрисы и куртизанки, когда, вывалявшись в грязи, они томятся по возвышенным чувствам, по самоотверженной чистой любви и преклоняются перед ее исключительностью (не следует ли изобрести новое слово, чтобы выразить понятие, столь редко встречающееся в жизни?). Древние народы Греции, Рима и Востока лишали женщину свободы; любящая женщина должна была бы сама себя лишать свободы. Итак, нетрудно понять, что, покидая волшебные чертоги, где происходило это пиршество, где творилась эта поэма, и готовясь вступить в маленки тфорец старца с охладевшей кровью, Эстер испытывала род нравственного недуга. Понуждаемая железной рукой, она совершила много низостей, прежде чем успела о чем-либо подумать; но вот уже два дня кряду она предавалась размышлениям, и смертельный холод охватывал ее сердце.
При словах: «Умереть на мостовой» – она резким движением встала, сказав:
– Умереть на мостовой?.. Нет, лучше уж Сена…
– Сена?.. А мсье Люсьен?.. – сказала Европа.
Одно это слово принудило Эстер опять опуститься в кресло, и она застыла в этой позе, не отрывая взгляда от розетки на ковре, словно на ней сосредоточились все ее мысли. Нусинген, придя в четыре часа, застал своего ангела погруженным в тот океан размышлений и раздумий, по которому носятся женские души, покамест не найдут решения, непостижимого для того, кто не пускался в плавание вместе с ними.
– Не надо хмурить ваш чело… мой красафиц… – сказал барон, усаживаясь подле нее. – Ви не будет иметь больше тольги… Я дам знать Эшени, и ровно через месяц ви покинете этот квартир, чтоби взойти в маленки тфорец… О! Прелестни рука!.. Позфоляйте атин поцалуй… – (Эстер позволила взять свою руку, как собака дает лапу.) – Ах! Ви дали мне свой рука… но не сердец, что я люблю…
Это было сказано так искренне, что несчастная Эстер перевела глаза на старика, и взор ее, исполненный жалости, едва не свел его с ума. Любящие, подобно мученикам, чувствуют себя братьями по страданиям! В мире лишь родственные страдания поистине поймут друг друга.
– Бедный, – сказала она, – он любит!
Услышав эти слова, ошибочно им понятые, барон побледнел, кровь закипела у него в жилах, на него повеяло воздухом рая. В его возрасте миллионеры платят за подобные ощущения столько золота, сколько того женщина пожелает.
– Я люблю вас, как любят свой дочь… – сказал он. – И я чувствуй сдесь, – продолжал он, приложив руку к сердцу, – что не мог би видеть вас нешастлив.
– Если бы вы согласились быть только отцом, как бы я вас любила! Я никогда не покинула бы вас, и вы увидели бы, что я не плохая женщина, не продажная, не корыстная, какой кажусь вам сейчас.
– Ви делаль маленки глупость, – продолжал барон, – как всякий красифи женщин, вот и все! Не будем говорить больше на этот тема. Наш дело заработать теньги для вас… Будьте сшаслив; я зогласен бить ваш отец в течение нескольких тней, потому понимаю, что нужно привыкнуть к мой бедни фигур.
– Верно!.. – вскричала она.
Вскочив с кресла, она прыгнула на колени к Нусингену и прижалась к нему, обвив руками его шею.
– Феро, – отвечал он, пытаясь изобразить на своем лице улыбку.
Она поцеловала его в лоб, она поверила в невозможную сделку, которая позволит ей остаться чистой и видеть Люсьена… Она так ласкалась к банкиру, что напомнила прежнюю Торпиль. Она обворожила старика, обещавшего питать к ней только отцовские чувства целых сорок дней. Эти сорок дней были нужны для покупки и устройства дома на улице Сен-Жорж. Но, выйдя на улицу, на обратном пути к дому барон мысленно говорил себе: «Я простофиля!»
И точно, если вблизи Эстер он становился младенцем, то вдали от нее он опять влезал в свою волчью шкуру, подобно Игроку, который снова влюбляется в Анжелику, как только остается без гроша в кармане.
«Полмиллиона бросить и не знать, какая у нее ножка! Это уже чересчур глупо, но, к счастью, никому об этом не известно», – думал он двадцать дней спустя. И принимал гордое решение покончить с женщиной, за которую заплатил так дорого; потом, когда он оказывался подле Эстер, все время, которое он мог ей отдать, он тратил на то, чтобы искупить собственную грубость при их первой встрече. На исходе месяца он ей сказал: «Я не могу быть фечни отец».
В конце декабря 1829 года, накануне переезда Эстер в особняк на улице Сен-Жорж, барон попросил дю Тийе свести туда Флорину, чтобы наконец решить, все ли там находится в соответствии с богатством Нусингена и нашли ли слова маленки тфорец свое подтверждение в искусстве художников, которым было поручено сделать эту клетку достойной птички. Все изощрения роскоши, появившиеся накануне революции 1830 года, были представлены тут, превращая этот дом в образец хорошего вкуса. Архитектор Грендо видел в нем совершенное творение своего декоративного мастерства. Лестница и стены под мрамор, ткань, строгость позолоты, мельчайшие подробности, как и общее впечатление, затмевали все, что век Людовика XV оставил в этом стиле в наследство Парижу.
– Вот моя мечта: такой дом и добродетель! – сказала Флорина, улыбаясь. – И ради кого ты входишь в такие расходы? – спросила она Нусингена. – Не дева ли это, сошедшая с небес?
– Нет, женщин, котори опять туда фознесется, – отвечал барон.
– Вот тебе случай изобразить из себя Юпитера, – сказала актриса. – И когда мы ее узрим?
– О! В тот день, когда будут праздновать новоселье, – вскричал дю Тийе.
– Не ранше… – сказал барон.
– Надобно порядком подчиститься, прифрантиться, навести на себя красоту, – продолжала Флорина. – О! Женщины дадут жару своим портнихам и парикмахерам по случаю этого вечера!.. Но когда же?
– Я не хозяйн.
– Вот так женщина!.. – воскликнула Флорина. – О, как я хочу ее увидеть!..
– И я тоше, – простодушно заметил барон.
– Подумать только! Дом, женщина, мебель – все будет новое!
– Даже банкир, – сказал дю Тийе, – ибо, на мой взгляд, наш друг помолодел.
– Ему и надо вернуть свои двадцать лет, хотя бы на краткий миг, – сказала Флорина.
В первые дни 1830 года весь парижский большой свет говорил о страсти Нусингена и о необузданной роскоши его дома. Бедный барон, выставленный на посмешище, взбешенный, и не без оснований, принял однажды решение, в котором расчетливая воля финансиста шла навстречу бешеной страсти, терзавшей его сердце. Он хотел, празднуя новоселье, отпраздновать и награду, которую он, сбросив тогу благородного отца, вкусит наконец после стольких жертв. Неизменно отступая перед сопротивлением Торпиль, он вздумал вести переговоры о своих брачных делах путем переписки, чтобы получить от нее письменное обязательство. Банкиры доверяют только векселям. Итак, в один из первых дней нового года, встав пораньше, биржевой хищник заперся в кабинете и сочинил следующее письмо на хорошем французском языке, ибо если он произносил дурно, то писал отлично.
«Милая Эстер, цветок моей души и единственное счастье моей жизни! Когда я говорил, что люблю вас, как свою дочь, я обманывал вас и сам обманывался. Я этим желал лишь выразить святость моих чувств, не похожих ни на одно из тех, что обычно испытывают мужчины: прежде всего, я старик, затем, я никогда не любил. Я люблю вас настолько, что, если бы вы стоили мне всего моего состояния, я не любил бы вас меньше. Будьте справедливы! Большинство мужчин не увидели бы в вас ангела, как вижу я, – мой взор никогда не обращался к вашему прошлому. Я люблю вас, как люблю мою дочь Августу, мое единственное дитя, и как любил бы свою жену, когда б жена могла меня любить. Если счастье – единственное оправдание для влюбленного старика, – согласитесь, что я играю смешную роль. Я сделал вас утешением, радостью моих последних дней. Вы хорошо знаете, что, пока я жив, вы будете счастливы, насколько может быть счастлива женщина; и вы так же хорошо знаете, что после моей смерти вы будете достаточно богаты, чтобы вашей судьбе могли позавидовать многие женщины. Во всех сделках, которые я заключаю с той поры, как я имел счастье заговорить с вами, ваша доля прибыли вычитается предварительно, и на ваше имя открыт счет в банке Нусингена. Через несколько дней вы войдете в дом, который рано или поздно будет вашим, если он вам полюбится. Скажите, вы и там меня встретите, как отца, или я буду наконец счастлив?.. Простите, что я пишу вам так откровенно; но, когда я подле вас, мужество меня покидает, я слишком глубоко чувствую вашу власть надо мной. У меня нет намерения вас обидеть, я хочу лишь сказать вам, как сильно я страдаю и как жестоко в моем возрасте жить ожиданием, зная, что каждый прошедший день уносит с собой мои надежды и мое счастье. Впрочем, скромность моего поведения является порукой искренности моих намерений. Поступал ли я когда-либо как кредитор? Вы точно крепость, а я уже не молод. Отвечая на мои мольбы, вы говорите, что дело идет о вашей жизни, и я вам верю, покуда вас слушаю; но наедине с самим собой я поддаюсь черной тоске, сомнениям, позорящим нас обоих. Вы показались мне настолько же доброй и чистой, насколько и прекрасной; но вам угодно разрушить это мое убеждение. Посудите сами! Вы говорите, что вашим сердцем владеет страсть, мучительная страсть, и вы отказываетесь доверить мне имя того, кого вы любите… Естественно ли это? Человека достаточно сильного вы обратили в человека неслыханно слабого… Видите, до чего я дошел! Я вынужден спросить вас, какое будущее готовите вы моей страсти, на что мне надеяться после пяти месяцев ожидания? Мне надо также знать, какая роль мне предназначена на праздновании новоселья в вашем особняке. Деньги для меня ничто, когда дело касается вас; но я не настолько глуп, чтобы похваляться пренебрежением к деньгам; ибо если моя любовь беспредельна, то мое состояние ограниченно, и я им дорожу только ради вас. Ну что ж! Если, отдав вам все, что я имею, я мог бы, нищий, удостоиться вашей привязанности, то бедность, скрашенную вашей любовью, я предпочел бы богатству, омраченному вашим презрением. Вы так сильно меня изменили, дорогая Эстер, что никто меня не узнает; я заплатил десять тысяч франков за картину Жозефа Бридо: для этого вам достаточно было сказать, что он даровитый человек и не признан. Наконец, я каждому встречному нищему даю по пять франков ради вас. Так о чем же молит бедный старик, почитающий себя вашим должником, когда вы делаете ему честь что-либо от него принять?.. Он молит подать надежду, и какую надежду, великий Боже! Ведь это скорее уверенность, что вы никогда мне не подарите больше того, что возьмет моя любовь! Но горячность моего сердца поможет вашему жестокому притворству. Вы видите, что я готов принять все условия, поставленные вами моему счастью, моим скромным радостям; но скажите мне хотя бы, что в тот день, когда вы вступите во владение вашим домом, вы примете любовь и преданность того, кто называет себя до конца дней своих
вашим рабом
Фредериком Нусингеном».
– Ах! Как мне наскучила эта кубышка с миллионами! – вскричала Эстер, в которой вновь ожила куртизанка.
Она взяла секретку и написала во всю ширину листка знаменитую фразу, ставшую поговоркой, к вящей славе Скриба: Возьмите моего медведя.
Четверть часа спустя, почувствовав угрызения совести, Эстер написала такое письмо:
«Господин барон,
не обращайте никакого внимания на письмо, которое вы получили от меня; то была шалость девчонки; простите же, сударь, бедняжку, которой суждено быть рабыней. Я никогда так ясно не чувствовала низости своего положения, как в тот день, когда меня вручили вам. Вы заплатили, я ваша должница. Нет ничего священнее долгов бесчестья. Я не имею права рассчитаться с ними, бросившись в Сену. Долг все же возможно заплатить, и той ужасной монетой, которая способна удовлетворить лишь одну сторону: стало быть, я к вашим услугам. Я хочу ценою одной ночи заплатить всю сумму, внесенную в счет этого рокового события, и уверена, что один час со мною стоит миллионы, тем более единственный, последний час. Потом я буду в расчете и могу уйти из жизни. У честной женщины есть надежда после падения подняться; мы, куртизанки, падаем слишком низко. Поэтому мое решение твердо, и я прошу вас сохранить это письмо, чтобы засвидетельствовать причину смерти той, что называет себя на один день
вашей служанкой
Эстер».
Отправив письмо, Эстер пожалела об этом. Десять минут спустя она написала третье письмо. Вот оно:
«Простите, дорогой барон, это опять я. Я не желала ни насмеяться над вами, ни оскорбить вас; я хочу лишь заставить вас задуматься над этим простым рассуждением: если у нас с вами останутся отношения отца и дочери, вы сохраните свои тихие, но надежные радости; если вы потребуете выполнения контракта, вам придется меня оплакивать. Я не хочу более вам докучать. Тот день, когда вы наслаждение предпочтете счастью, будет для меня последним днем.
Ваша дочь
Эстер».
Когда барон получил первое письмо, с ним случился припадок молчаливого гнева, который способен убить миллионера. Он поглядел на себя в зеркало и позвонил. «Ванна тля ног!..» — крикнул он своему новому лакею. Пока он принимал ножную ванну, пришло второе письмо; он его прочел и упал без сознания. Миллионера уложили в постель. Когда финансист очнулся, в ногах у него сидела госпожа Нусинген.
– Эта девица права! – сказала она ему. – Что это вам вдруг вздумалось покупать любовь?.. Разве это продается на рынке? Но что же вы писали ей?
Барон дал свои черновые наброски; госпожа Нусинген прочла их улыбаясь. Пришло третье письмо.
– Занятная девица! – вскричала баронесса, прочтя последнее письмо.
– Что делать, матам? – спросил барон жену.
– Ждать.
– Штать! – сказал он. – Ведь природа безжалостна.
– Послушайте, дорогой мой, – сказала баронесса. – Вы в конце концов стали очень милы со мной, и я дам вам добрый совет.
– Ви карош женщин! – сказал он. – Делайт тольги, я буду платить…
– То, что случилось с вами после писем этой девицы, трогает женщину больше, чем истраченные миллионы или любые письма, как бы прекрасны они ни были; постарайтесь, чтобы она стороной узнала о вашем состоянии; вы, может быть, и добьетесь своего!.. И… не беспокойтесь, она от этого не умрет, – сказала она, окинув мужа взглядом с головы до ног.
Госпожа Нусинген не имела ни малейшего представления о природе куртизанки.
«Как умна мадам Нусинген!» – подумал барон, оставшись один. Но чем больше банкир восхищался тонкостью совета, преподанного ему баронессой, тем меньше понимал, каким образом им воспользоваться, и не только называл себя тупицей, но действительно признавал это.
Однако ограниченность богатого человека, почти вошедшая в поговорку, относительна. С нашими умственными способностями происходит то же, что и с нашими физическими возможностями. Сила танцовщика в ногах, сила кузнеца в руках; грузчик упражняется в переноске тяжестей, певец развивает голосовые связки, а пианист укрепляет кисти рук. Банкир привыкает создавать дела, обдумывать их, находить заинтересованных участников, как водевилист научается создавать сюжет, обдумывать положения, находить своих героев. Нельзя требовать от банкира Нусингена остроумного разговора, как не должно ожидать поэтических суждений от математика. Много ли в любую эпоху встречается поэтов, равно известных в качестве прозаиков или прославленных своим остроумием в обществе, подобно госпоже Корнюэль? Бюффон был тяжелодум, Ньютон никогда не любил, лорд Байрон любил лишь самого себя, Руссо был мрачен и почти безумен, Лафонтен рассеян. Жизненная сила, равномерно распределенная в человеке, создает глупца или же посредственность; распределенная неравномерно, она порождает некую чрезмерность, именуемую гением и показавшуюся бы нам уродством, будь она зрима и осязаема. Тот же закон управляет телом: совершенная красота почти всегда отмечена холодностью либо глупостью. Пускай Паскаль великий геометр и одновременно великий писатель, пускай Бомарше великий делец, пускай Заме умнейший царедворец, – редкие исключения лишь подтверждают правило о своеобразии свойств человеческого ума. В области коммерческих расчетов банкир выказывает, стало быть, столько же остроумия, ловкости, тонкости, достоинства, сколько выказывает их искусный дипломат в сфере интересов государственных. Банкир, одаренный выдающимися способностями, расстанься он со своей конторой, мог бы оказаться великим человеком. Нусинген, помноженный на князя де Линя, на Мазарини или Дидро, являл бы собою сочетание человеческих свойств почти неправдоподобное, которое, однако ж, именовалось в свое время Периклом, Аристотелем, Вольтером и Наполеоном. Солнце императорской славы не должно затмить собою человека; император был обаятелен, образован и остроумен. Господин Нусинген, банкир и только банкир, лишенный, как и большинство его собратьев, какой-либо изобретательности вне круга своих расчетов, верил лишь в реальные ценности. У него хватало здравого смысла при помощи золота обращаться к знатокам во всех областях искусства и науки, приглашая лучшего архитектора, лучшего хирурга, самого тонкого ценителя живописи и скульптуры, самого искусного адвоката, как только ему требовалось построить дом, позаботиться о здоровье, приобрести какие-либо редкости или поместья. Но поскольку не существует присяжного искусника в области козней, ни знатока в науке страсти нежной, банкир всегда был неудачлив в любви и неловок в обращении с женщинами. И Нусинген не придумал ничего лучшего, как, прибегнув к испытанному средству, дать денег какому-нибудь Фронтену, мужского или женского пола, чтобы тот действовал или думал вместо него. Одна лишь госпожа Сент-Эстев могла испробовать способ, предложенный баронессой. Банкир горько сожалел, что поссорился с гнусной торговкой нарядами. И все же, уверенный в гипнотической силе своей кассы и в болеутоляющем средстве с подписью Гара, он позвонил слуге и приказал ему наведаться к страшной вдовице на улице Нев-Сен-Марк и просить ее пожаловать к банкиру. В Париже крайности сближаются благодаря страстям. Там порок издавна связывает богача с нищим, величие – с ничтожеством. Там императрица советуется с мадемуазель Ленорман. Там вельможа всегда находит какого-либо Рампоно, и так из века в век.
Часа два спустя новый слуга воротился.
– Господин барон, – сказал он, – госпожа Сент-Эстев совсем разорилась…
– О-о! Тем лутчи! – радостно сказал барон. – Она в мой рука!
– Почтенная женщина, слыхать, большая охотница до карт, – продолжал слуга. – Другая ее слабость – комедиантик из бродячего театра, которого из конфуза она выдает за своего крестника. Она, слыхать, отличная повариха, ищет теперь место.
«Эти дьяволы из второсортных гениев знают десять способов заработать деньги и двадцать, чтобы их промотать», – мысленно сказал барон, не подозревая, что совпадает мыслями с Панургом.
Он опять послал слугу разыскивать госпожу Сент-Эстев, и она появилась, но лишь на другой день. Новый лакей на расспросы Азии не преминул сообщить этому шпиону в юбке о плачевных последствиях, к которым привели письма любовницы господина барона.
– Мсье должен крепко любить эту женщину, – сказал лакей в заключение, – ведь он чуть было не помер. Я ему советовал не возвращаться туда; там ему живо заговорят зубы. Она, слыхать, уже стоит господину барону пятьсот тысяч франков, не считая расходов на особняк на улице Сен-Жорж!.. Да ведь эта женщина хочет денег, только денег! Выходя от мсье, госпожа баронесса смеялась и говорила: «Если так пойдет дальше, эта девица сделает меня вдовой».
– Черт возьми! – отвечала Азия. – Никогда нельзя убивать курицу, которая несет золотые яйца.
– Господин барон на вас только и надеется, – сказал слуга.
– Ах! Уж мне ли не знать, как подействовать на женщину!..
– Пожалуйте в комнату, – сказал лакей, преклоняясь перед этой таинственной властью.
– Вот тебе раз! – сказала мнимая Сент-Эстев, входя к больному с самым скромным видом. – Стало быть, у господина барона случились кое-какие неприятности?.. Что прикажете делать! Каждый расплачивается за свои слабости. Я тоже хлебнула горя. За два месяца колесо фортуны невпопад для меня оборотилось! И вот ищу места… Мы были слишком легкомысленны, и вы и я! Ежели бы господин барон пожелал поставить меня кухаркой к мадам Эстер, уж как бы я ему была предана, как бы хорошо следила за Эжени и мадам!
– Не в том дело, – сказал барон. – Я не мог делаться хозяин, и меня фертят, как…
–…волчок, – подсказала Азия. – Вы потакали своей слабости, папаша, а девчонка держит вас… и дурачит. Господь Бог справедлив!
– Спрафедлиф? – сказал барон. – Я не зваль тебя, чтобы слюшить мораль…
– Полно, сынок, немножко морали не повредит! Это соль жизни нашей братии, как грешок для ханжи. Послушайте, вы были щедрым? Заплатили ее долги?
– Та! – жалобно сказал барон.
– Отлично. Выкупили ее вещи? Вот это уже получше. Но все же недостаточно… Посудите сами!.. Ведь на этом далеко не уедешь, а такие девицы любят форснуть…
– Я готовлю ей сурприз на улиц Сен-Шорш… Он знайт… – сказал барон. – Но я не желаю бить простофиль.
– За чем же дело стало? Бросьте ее…
– Боюсь, что он мне позфоляйт это!.. – вскричал барон.
– А-а! Мы хотим оправдать наши денежки, сын мой! – отвечала Азия. – Послушайте! Вы, милушка, выудили у людей не один мильон! Говорят, их у вас двадцать пять. – (Барон не мог скрыть улыбки.) – Так вот! Надо выпустить из рук один…