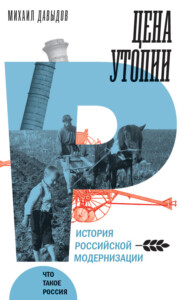скачать книгу бесплатно
По мнению А. Б. Каменского, с Петровской эпохи «процесс складывания дворянства как единого сословия начинается как процесс консолидации русского дворянства. Суть его была в постепенном обретении сословных прав и привилегий и одновременном освобождении от государственного рабства, что означало начало борьбы дворянства с государством за свою свободу, под знаком которой прошло все XVIII столетие. Борьба эта имела определяющее значение для исторических судеб страны».
В 1736 году пожизненная служба дворян сокращается до двадцати пяти лет, а 18 февраля 1762 года Петр III подписывает «Манифест о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству», уничтожающий обязательность службы и разрешающий неслужащим дворянам выезжать за границу. То есть дворяне официально перестали быть крепостными государства.
С 1760-х годов начинается отсчет первого, а с 1780-х – второго поколения «непоротых русских дворян». Первое поколение дало генералов – героев 1812 года, второе – и генералов и офицеров – героев 1812 года, а также старших декабристов.
Наконец, в 1785 году Жалованная грамота дворянству официально закрепила сословные права дворян, в том числе и дарованное им в 1782 году право собственности на землю.
То есть за полвека после Петра I положение дворянства радикально изменилось: юридически оно стало свободным. Самодержавие пошло на ограничение своей власти.
Но здесь самое время подумать над промежуточным вопросом: какие человеческие типажи уже успели сформироваться за триста лет такой истории?
Часть ответа очевидна – такие, которые носили в себе все следы оскорбительного, пренебрежительного отношения государства к человеку и его правам и в целом, и в бесчисленных частностях.
Могли ли забыться вчерашние, позавчерашние и более давние незащищенность, издевательства и др.?
Уместно также спросить: могло ли что-то всерьез измениться в сознании дворян от того, что их перестали пороть?
Могло – и постепенно стало меняться.
Спору нет, во множестве случаев раскрепощаемый, а позже освобожденный раб продолжал психологически оставаться рабом. Однако у части дворян, поначалу, естественно, меньшей, чтение и приобщение к культуре, полученной благодаря Петру, постепенно породило то самое чувство собственного достоинства, об отсутствии которого как о примете русского Средневековья говорит Чичерин.
Впрочем, у многих дворян это чувство появилось и зримо проявилось по меньшей мере уже в 1730 году, когда членами Верховного тайного совета была предпринята попытка ограничения самодержавия Анны Ивановны, хотя и неудачная.
Далее оно развивалось во многом благодаря более гуманным, в сравнении с петровским, правлениям Елизаветы и Екатерины II.
В лице своих лучших представителей дворянство демонстрировало не только европейский уровень образования, но и достаточно независимый стиль отношений с носителями верховной власти. Таковы родившиеся еще при Петре братья Никита Иванович и Петр Иванович Панины. Таковы родившиеся при Елизавете братья Александр Романович и Семен Романович Воронцовы.
Однако не будем лучших отождествлять со всеми и преувеличивать масштабы психологического раскрепощения дворянства – оно только начиналось и явно отставало от юридического.
Павел I попытался воскресить многое из того, что уже начало забываться. Его царствование во многом было попыткой вернуть дворянство в прошлое – не буквально в петровское время, конечно, но как бы в стилистику страха.
Однако в одну реку не входят дважды, и дворяне – как умели – продемонстрировали Павлу, что его самодержавие ограничено их удавкой.
Предвижу возражение: разве дворцовые перевороты не говорят о свободном сознании дворянства? Думаю, что нет. Ведь и преторианцы в Древнем Риме – отнюдь не свободные люди. Это рабы, сделавшие бунт доходным ремеслом.
В 1802 году М. М. Сперанский писал Александру I следующее:
Я бы желал, чтоб кто-нибудь показал различие между зависимостью крестьян от помещиков и дворян от государя; чтоб кто-нибудь открыл, не все ли то право имеет государь на помещиков, какое имеют помещики на крестьян своих…
Вместо всех пышных разделений свободного народа русского на свободнейшие классы дворянства, купечества и проч. я нахожу в России два состояния: рабы государевы и рабы помещичьи. Первые называются свободными только в отношении ко вторым, действительно же свободных людей в России нет, кроме нищих и философов.
Вместе с тем оба «непоротых» поколения, вступивших в жизнь в конце XVIII – начале XIX века, в лице своих лучших представителей ощущали себя не рабами, а слугами престола, хотя жизнь, конечно, иногда вносила коррективы в это мироощущение.
Для них Россия – не деспотия, а европейская монархия в трактовке Монтескье, император – монарх, а они, дворяне, – носители принципа Чести, системообразующего начала монархии. Их понимание чести соответствует формуле того же Монтескье: желание почестей при сохранении независимости от власти. Честь, несомненно, ключевое понятие, на которое замкнуто все мироощущение множества дворян той эпохи.
Они ясно различали понятия «Государь» и «Отечество». Приверженность «собственно Государю» и «любовь к Отечеству» не тождественны. Эти понятия могли совпадать, точнее накладываться друг на друга, а могли и не совпадать. Характерно сделанное в 1812 году замечание М. С. Воронцова: «Приятно жертвовать жизнию, когда любовь к Отечеству ничем не отделяется от любви к своим Государям и ничто иное, как одно и то же».
При этом десять лет беспрерывных войн, которые Россия вела в 1804–1815 годах, заметно повысили у дворянства чувство ответственности за судьбы страны, а значит, и собственной значимости, чем отчасти и порожден феномен декабризма. Не зря цесаревич Константин считал, что война портит армию – люди начинают чувствовать себя свободнее.
В то же время массе дворян не были близки поиски свободы, в том числе и крестьянской, ни в духе Александра I, ни в декабристском ключе. Их устраивало статус-кво, и они не ощущали свою зависимость от престола как нечто дискомфортное, отчасти потому, что это, в свою очередь, делало их повелителями крестьян и подначальных; так, в частности, проявляется крепостническое сознание.
Все по Державину: «Я царь – я раб – я червь – я Бог…»
Хотя Гаврила Романович, можно думать, имел в виду менее прозаические сюжеты.
Однако – еще и еще повторю – все суждения о зависимости дворянства от государства будут односторонними, если не иметь в виду, что к 1815 году чувство принадлежности к непобедимой державе у русских людей усилилось еще больше.
Ведь Россия действительно открыла и закончила свой XVIII век в совершенно разных статусах. Начала она с позора Нарвы, а закончила Итальянским походом 1799 года, когда, по выражению Марка Алданова, Суворов «достиг высшего предела славы, при котором именем человека начинают называть шляпы, пироги, прически, улицы. Все это и делалось в ту пору в Европе, особенно в Англии». А потом Россия в конечном счете низвергла такого колосса, как Наполеон.
«Русские – первый в мире народ», «Россия – первая в мире держава», – часто повторяет в своих письмах после вступления в Париж А. П. Ермолов, и с ним, безусловно, было солидарно подавляющее большинство русских дворян.
При этом Ермолов отнюдь не закрывал глаза на негативные стороны жизни страны. Однако ради такого величия с ними можно было худо-бедно мириться – в надежде на будущее их исправление.
Ощущение того, что ты часть победоносного, пусть и несовершенного мира, – огромная вещь. Для многих людей это часто оправдание даже мрачного статус-кво – и серьезное оправдание.
Отечественная война 1812 года стала важнейшей вехой в нашей истории вообще и в идейном развитии в частности.
Самосознание русских людей поднялось на новый, неизмеримо более высокий уровень, закономерно усилив чувство национальной исключительности – ведь только России удалось остановить Наполеона.
Несколько промежуточных выводов.
1. Итак, с одной стороны, дворянство было «первым среди бесправных». На него вплоть до середины XVIII века распространялись основные «прелести» режима – личная и социальная незащищенность, возможность наказания вплоть до лишения чести, имущества и жизни.
А с другой стороны, будучи «рабами верховной власти», дворяне в то же время были господами, а потом и повелителями крепостных.
Понятно, что одновременное пребывание в двух человеческих измерениях не могло не отразиться на их психологии. Во многом из-за этого и сегодня нередко становится стыдно за взрослых и, казалось бы, крупных людей, ведущих себя как среднестатистические дворовые.
Очень долго дворянство ощущало свою значимость и важность только в соотнесении с бесправностью нижестоящих. А элита, у которой нет подлинного сознания своих прав и своего достоинства, не будет уважать права и достоинство других людей.
И то и другое после веков деспотизма приобретается с немалым трудом.
2. При этом ясно, что страна, жизнь которой стоит на нерегламентированном, по сути, крепостном праве, в значительной мере находится вне правового поля. Вряд ли в этих условиях может возникнуть уважение к закону: ему просто неоткуда взяться.
Тем более что гражданские права, в том числе и право частной собственности, появляются в русском законодательстве только за пять-семь лет до Великой французской революции в Жалованных грамотах Екатерины II дворянству и городам.
3. Победоносная история империи после 1708 года была одним из ключевых факторов, сформировавших мироощущение русского дворянства.
Война 1812 года и заграничные походы русской армии показали, что феномен империи Петра I, мощного в военном отношении государства, которое в 1721 г. основывалось на полном бесправии населения, а в начале XIX века – на крепостном праве, по-прежнему существует и работает, несмотря на все издержки.
«Видно, наша отсталость более пригодна для защиты Отечества, нежели европейская образованность», – этот мотив звучал в публицистике 1812 года.
Вместе с тем очевидно, что для власти население страны было расходным материалом, без особого различия в социальном положении. Веками люди были для нее, как сказали бы в XXI веке, чем-то вроде одноразовой посуды – это восточная схема отношений с подданными.
«Очернитель» Текутьев
Если, с одной стороны, в истории нашей остановилось и замедлилось развитие самостоятельной личности, то, с другой стороны, масса населения получила прочное обеспечение в имуществе, которое служит лучшим обеспечением первых потребностей, – в поземельном наделе, и еще в постоянной обязательной связи своей с государством.
К. П. Победоносцев
Я хорошо помню, что люди моего поколения со школы сохраняли некоторое общее представление о том, что крепостничество, доходившее иногда до настоящего зверства, как в случае с Салтычихой и ей подобными, означает тяжелое и унизительное положение народа. Думаю, что забывать о таких вещах нельзя, хотя, конечно, бывали и совсем другие помещики.
За последнюю четверть века восприятие крепостного права несколько изменилось. Недавно я с удивлением обнаружил, что даже мои студенты-историки не совсем адекватно судят о нем, что, конечно, не случайно.
Какой, впрочем, спрос со студентов, если председатель Конституционного суда России В. Д. Зорькин публично заявил: «При всех издержках крепостничества именно оно было главной скрепой, удерживающей внутреннее единство нации».
Мысль Зорькина, думаю, войдет в анналы, но сама по себе она – безусловный симптом происшедшего за 25 лет сдвига в восприятии крепостного права. Полагаю, не только мне хочется задать бестактный вопрос о том, с какой стороны «скрепы» Зорькин предпочел бы оказаться. При этом сиюминутные мотивы такого оригинального заявления вполне очевидны. Благостное отношение к крепостничеству не случайно совпало с ужесточением внутренней политики.
Вообще говоря, некий флер пасторальной сентиментальности окутал крепостничество примерно с середины 1990-х. Тогда, с одной стороны, в качестве главного объяснения проблем нашей истории большую популярность внезапно обрел суровый климат, одним из якобы закономерных последствий которого стало считаться и крепостное право.
С другой стороны, в моду стремительно вошел «патернализм», ставший второй универсальной «отмычкой» к русской истории; отныне он не фигурировал, кажется, только в кулинарных рецептах. Идея патернализма, неизбежного, как климат, должна была смягчать наше восприятие негативных сторон крепостничества.
Отчасти это было компенсацией одностороннего подхода советской историографии, которая рассматривала проблемы крепостного права преимущественно в аспекте насилия, не слишком углубляясь в многогранный характер этого явления.
Но, как это часто бывает (и не только у нас), немедленно начался перекос в другую сторону, и крепостничество сейчас иногда трактуется в духе адмирала Шишкова, написавшего в 1814 году в манифесте об окончании войны с Наполеоном о «давней» связи между помещиками и крестьянами, основанной «на обоюдной пользе… русским нравам и добродетелям свойственной», с чем категорически не согласился Александр I, вычеркнувший эти строки.
Да, эти отношения с хозяйственной точки зрения часто были взаимовыгодны. Крестьянин пользовался лесом, получал топливо, семена, а иногда и скот, но не стоит забывать, чем вызывалась такая забота. Лошади, в том числе и рабочие, требуют определенного ухода.
Однако чем больше мы акцентируем патриархальные, патерналистские, «патронатные» (теперь это так называется!) отношения между барином и крестьянами, тем дальше в тень уходит суть, основа явления крепостничества – принуждение и насилие.
Впрочем, такого рода ситуативная смена фокуса внимания – либо Салтычиха и убитый крестьянами за жестокость фельдмаршал Каменский, либо Венецианов с Клодтом, то есть усадебная культура с патернализмом – весьма характерна для нашей историографии.
Вышесказанное вынуждает меня остановиться на этой проблематике подробнее.
Как понять, что такое крепостное право?
Чем было крепостничество как система?
Можно ли говорить о «типичном» крепостном?
Вопросы непростые. Среднестатистического колхозника, полагаю, вывести легче, потому что положение колхозников в целом разнилось меньше.
Самые элементарные личные и имущественные права крестьян зависели от усмотрения барина (по закону он был обязан лишь кормить их в голодные годы и не допускать до нищенства). Поэтому положение крестьян было очень разным.
Оброчные крестьяне жили иначе, чем крестьяне барщинные. Очень важную роль играли также местоположение имения, возможности хозяйственной деятельности и т. д.
Едва ли не ключевым фактором была личность владельца. И здесь на одном полюсе будут тысячи крестьян-предпринимателей – и таких, как Гарелин, Ямановский, Грачев, и других, не столь оборотистых, в которых господа, как правило, видели людей и не очень мешали им проявлять свои таланты, впрочем, иногда запрещая им строить каменные хоромы – в целях борьбы с гордыней (как, например, графы Шереметевы).
А на другом – крестьяне тех садистов и садисток, о которых пишет В. И. Семевский в книге «Крестьяне при Екатерине II», где материала хватит не на один исторический фильм задокументированных ужасов.
Между ними располагалась основная многомиллионная масса крестьян-земледельцев, помещики которых не выделялись резко ни в ту, ни в другую сторону.
Итак, увидеть, как жила крепостная деревня до 1861 года, мы не сумеем, но попытаться представить можем, ибо у нас есть источник, позволяющий это сделать. Особенности жанра, само его построение и специфика личности автора дают возможность, как кажется, без особых сложностей включить воображение и попробовать приблизиться к той жизни.
1-я. Едва не все холопи и крестьяня должности к Господу Богу не знают и в церковь для молитвы не толко в свободное время, но в великия праздники, в воскресныя и торжественныя дни ходить, в положенныя посты говеть и исповедыватца не любят.
2-я. Должности к Государю и общеи ползе не толко не внимают, но и подумать не хотят.
3-я. Леность, обман, ложь, воровство бутто наследственно в них положено.
4-я. Пьянство, лакомство, суеверство, примечание, шептуны – лутчее их удоволствие.
5-я. За вино и пиво господина и соседеи своих со всею их и ево собственною ползою продать готов. И потому в них верности и чистои совести нет.
6-я. Господина своего обманывают притворными болезнми, старостию, скудостию, ложным воздыханием, в работе леностию, приготовленное общими трудами крадут; отданного для збережения прибрать, вычистить, вымазать, вымыть, высушить, починить не хотят.
В приплоде скота и птиц, от неприсмотру поморя, вымышляя разныя случаи, лгут. Определенныя в началство в росходах денег и хлеба меры не знают, остатков к предбудущему времяни весма не любят, и бутто как нарошно стараютца в разорение приводить, и над теми, кто к чему приставлен, чтоб верно и в свое время исправлялось, не смотрят, в плутовстве за дружбу и по чести молчат и покрывают, а на простосердечных и добрых людеи нападают, теснят и гонят.
7-я. Милости, показываннои к ним в награждении хлебом, денгами, одеждою, скотом, свободою, не помнят, и вместо благодарности и заслуг в грубость, леность, в злобу и хитрость входят.
8-я. Божия наказания, голоду, бед, болезнеи и самои смерти не чувствуют, о воскресении мертвых, о будущем суде и о воздаянии каждому по делам подумать не хотят и смерть свою за покои щитают…
И по таким обстоятелствам каждому разумному и добросовестному господину в приведении упомянутых злых и коварных людеи в доброи порядок – великои труд и безпокоиство.
Странное впечатление оставляют эти строки, определенно не шедевр человеколюбия. Скорее, набросок эпитафии Homo sapiens – уровень авторской мизантропии, да что там, самого настоящего человеконенавистничества просто зашкаливает.
Кажется, что автор – очернитель человечества. Созданный им коллективный портрет внушает отвращение.
Что это за мир?
Кто его населяет?
Банда разбойников или каторжники на поселении?
В любом случае тут в пору вспомнить Босха, а лучше – тех грешников, которые населяют сцены Страшного суда в ярославских, например, церквях XVII века.
Между тем это всего лишь мнение небогатого помещика середины XVIII века о своих крепостных.
В 1998 году Е. Б. Смилянская опубликовала обнаруженную ею в 1989 году в археографической экспедиции и приобретенную для Научной библиотеки МГУ рукопись под названием «Инструкция о домашних порядках». Ее в 1754–1757 годах написал Т. П. Текутьев, тогда капитан, полковой секретарь, позже подполковник Преображенского полка, генерал-поручик и смоленский губернатор.
Женившись, он получил за женой приданое – село Новое и две деревеньки с 80 душами мужского пола в Кашинском уезде тогдашней Московской губернии. Как безземельный дворянин он цепко ухватился за возможность создать «родовое гнездо». Получив в полку отпуск, поехал в Новое, прожил там год и решил создать «идеальное имение».
Для этого он составил подробнейшую инструкцию, своего рода сельскохозяйственный регламент в петровском стиле, неуклонное следование которому должно было привести имение в необходимый порядок.
Однако достичь этой цели было совсем непросто: приведенными выше мрачными строками Текутьев объясняет, почему написал этот текст.
Итак, в условиях задачи даны «злые и коварные люди», которых «разумный и добросовестный господин» должен привести в «доброй порядок».
А каким образом он может это сделать, если они явно не в восторге от такой перспективы?
Ответ очевиден: насилием.
Текутьев, бесспорно, был стихийным «системщиком», «логистом». Как военный человек он детально проанализировал все аспекты функционирования имения, определил уязвимые точки системы и способы их защиты, описал нежелательные варианты поведения крестьян в типичных хозяйственных и бытовых ситуациях и методы борьбы с ними.
Словом, он спланировал приведение имения в свой порядок как некую военную операцию по захвату и удержанию враждебной территории; источник порукой тому, что я не преувеличиваю.
Барин кажется тут не столько хозяином, сколько оккупантом, которого покоренное население, естественно, старается обмануть, точнее, обжулить, всегда и во всем, в любой мелочи, везде, где можно и где нельзя, и работать на которого, понятное дело, не очень-то рвется.
Помещик, судя по тексту, перманентно находится одновременно во всех видах дозора (ночного, дневного, сумеречного и т. д.), попутно выполняя обязанности комендантского взвода. Расслабиться с этим сборищем ужасно суеверных пьяниц, анархистов и безбожников, людей без «верности и чистой совести», но притом чемпионов по лени, воровству и обману, он не может.