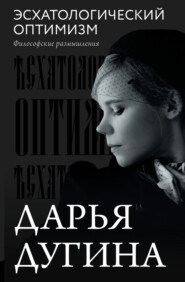скачать книгу бесплатно
Возвращение к апофатике
Перейдем к другой, не менее интересной, теме – еще более острой, еще более мистической: катафатическое и апофатическое богословие в платонизме. Апофатика утверждает, что Бог или Единое платоников является принципиально невыразимым, непознаваемым. Позитивно созерцать мы можем только область данного, явленного, катафатического, и соответственно, только об этом мы можем полноценно рассуждать.
Катафатику и апофатику я рассматриваю сквозь призму неоплатонической традиции – прежде всего, через Прокла и его анализ, изложенный в «Комментарии на диалог «Парменид» Платона»[9 - Прокл. Комментарии к «Пармениду» Платона. СПб.: Mip-ь, 2006.] (шестая книга), где он как раз разбирает катафатическое и апофатическое богословие. Прокл замечает, что катафатическое – это то богословие, которое говорит о предикатах Единого, возводя каждый предикат в высшую степень – например, «самое прекрасное», «самое красивое», «самое умное». Апофатическое же богословие говорит о Едином как о том, что находится по ту сторону всего (???????? ??? ??????) – по ту сторону нашего мира, по ту сторону пещеры, сна, иллюзорности, языка и всех возможных описаний. Единое не может быть передано никакими словами. Оно является абсолютно трансцендентным.
Когда мы рассматриваем момент возвращения философа в пещеру с сохранением внутреннего ориентира на чисто Единое, то получаем одновременно катафатически – апофатическое богословие. Такое сочетание связано с погружением во вторичное с сохранением внутреннего опыта трансцендентного и являет собой суть эсхатологического оптимизма. Оптимизм в этом случае будет проявляться через признание возможности сообщения о Едином, то есть, через катафатику. Мы допускаем, что Единое может быть чем-то позитивным – каким-то свойством в его наилучшей превосходной степени. Например, Благо – это самое красивое, самое умное, самое высокое, самое честное. Но при этом мы сохраняем и апофатическую ось, которая подтверждает нам то, что при всех своих превосходных атрибутах Благо непознаваемо. В этом намечается некоторая эсхатология. Мы подходим к пределу, к концу (???????). Область катафатического конечна. И понять Единое, Благо, мы способны лишь до определенной степени. Далее наш разум бесполезен. Единое и понимается, и не понимается. Пока понимается, мир есть, когда мы подходим к границе, он оканчивается. Мы вступаем в область великого незнания.
Три фазы платонизма
Неоплатонизм в истории философии представляет собой эпоху эпистрофе?, опыт возвращения. У Ю. Шичалина, историка античной философии, был пример деления античной философии на три этапа, которые соответствуют трем фазам неоплатонической философии – триаде: «постоянство» (????), «исхождение» (???????) и «возвращение» (?????????): ???? – это пребывание Единого в самом себе: ??????? – исхождение Единого в мир, то есть творение мира. Божественная чаша, чаша Единого, переполняется и из нее вовне вытекает ее содержание. Так происходит творение мира. Из Единого сначала появляется Ум, потом из Ума – Душа, а из нее – телесный космос. И это проявление развертывается, пока не достигнет предела. Тут начинается ????????? – процесс возвращения. Душа, отталкиваясь от материи, возвращается к своим истокам, становится на путь обратного восхождения.
Эту неоплатоническую триаду Юрий Шичалин применяет к процессу истории философии. Сам Платон – это область ????, в которой одновременно содержится все: все толкования платонической доктрины, все возможные исходы мысли, все возможные прочтения. И если мы читаем Платона, то можем заметить, что в его текстах подчас заложены тезисы, которые могут порой противоречить друг другу. Можно найти, например, и признание Единого, и его отрицание, как в «Пармениде». Из Платона выводимо фактически все – как роскошный неоплатонизм, так и противоположные ему во всем объектно-ориентированные онтологии. Если мы будем внимательно смотреть на вторую часть диалога «Парменид», где Единое отрицается и есть только многое, мы легко можем опознать в этом и атомизм, и материализм Нового времени, и постмодернизм, и даже спекулятивный реализм. Девятая гипотеза, рассматривающая такое многое, которое вообще не соотносится с другим многим, это уже отказ от корреляционизма[10 - Корреляционизм – от корреляция (лат. correlatio), соотношение. Современное направление в философии. Объектно-Ориентированная Онтология считает, что классическая философия строит все свои модели познания на корреляции – на соотношении идеи и копии (Платон), субъекта и объекта (Декарт), жизни и тела (Делез) и т. д. Сами объектно-ориентированные онтологи предлагают альтернативную систему, где отрицается любой корреляционизм, и вещь открывается в самой себе в полном отрыве от всего остального – от человека, его познания и даже от других вещей.], на котором сходятся современные спекулятивные реалисты Квентин Мейясу[11 - Мейясу К. После конечности: эссе о необходимости контингентности. – Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2016.] и Грэм Харман[12 - Харман Г. Четвероякий объект: Метафизика вещей после Хайдеггера. Пермь: Гиле Пресс, 2015; Он же. Weird-реализм: Лавкрафт и философия. Пермь: Гиле Пресс, 2020.].
Соответственно, сам Платон представляет собой огромную философскую площадь, базовую платформу, содержащую в себе синхронно множество имплицитных течений.
Исхождение, ???????, по Ю. Шичалину, в историко-философском процессе интерпретируется как дробление платонизма, то есть изъятие из его корпуса отдельных новых дисциплин, каких-то концепций, связанных с риторикой, логикой, этикой и т. д. Здесь можно найти и нечто созвучное скептицизму Пиррона и т. д. В целом – это дробление. Оно доходит до среднего платонизма – у Нумения или Филона Александрийского уже заметны элементы ?????????.
И соответственно, третий этап развития истории философии, по Шичалину – это именно полноценное ????????? неоплатоников. Неоплатоники в такой схеме играют особую роль. На них заканчивается дробление, они поворачиваются в обратную сторону и пытаются в рамках мистического опыта вновь вернуться к истокам, направляя свои взоры в высь и стремясь вернуться к Единому. Соответственно, неоплатонизм – это высшая фаза развития платоновской традиции. В отличие от Платона, она имеет более четкую иерархизацию, структурность. Когда мы сталкиваемся с работами Прокла Диадоха, мы видим довольно строгое аналитическое мышление. Здесь все начинается с высшего чисто трансцендентного апофатического Начала – Единого, Блага, и Оно помещается по ту сторону всего (???????? ??? ??????). И далее, шаг за шагом, вполне рационально развертывается гигантская систематическая модель космоса, ноэтического и физического, нисходящая по ступеням, ведущим от трансцендентного к имманентному.
Опыт прочтения Прокла – захватывающий, крайне интересный эксперимент. Попробуйте прочитать, например, сначала Л. Витгенштейна, а от него перейти к Проклу, и вы увидите, что, на самом деле, структура их аналитического мышления довольно близка. Только у Витгенштейна доминирует тезис: «то, о чем не следует говорить, о том следует молчать», а аналогичный у Прокла «о чем не следует говорить, о том следует молчать» выступает в контексте апофатического богословия. О Едином ничего сказать нельзя. Но молчание о Едином у Прокла не пустое, как у Витгенштейна, а самое содержательное, что только можно себе вообразить. Хайдеггер называл это «зигетикой», «философией молчания».
Возвращение
Так вот, неоплатоники являются мастерами систематизации платоновского дискурса. И здесь крайне важен опыт странного – в чем-то парадоксального – принятия имманентного мира. Плотин, когда говорил со своими учениками, высказал мысль, что он очень стыдится своего тела. Для него сам факт обладания телом являлся крайне болезненным, причинял острую боль. Но при этом Плотин, если внимательно анализировать его работы, не отвергает проявления в телесном мире, он считает, что оно необходимо – прежде всего, чтобы начать восхождение. В какой-то мере Плотин и представляет собой эсхатологического оптимиста. «Я» проявлено здесь, и это «здесь», конечно, разрушительно, тленно, имеет свойство погибать, имеет тенденцию тянуть вниз, клонить долу и уничтожать. И это «здесь» является временным. Путем ?????????, возврата, восхождения по лестнице добродетелей, по лестнице наук, по лестнице обрядов и молитвенных приношений богам, по уровням бытия[13 - В позднем неоплатонизме, и это особо отличает его от Плотина, есть некое четкое атрибуирование каждому уровню – генадам, Уму, Душе, космосу т. д. – своих божеств.] «Я» возвращается к своим истокам, к миру, которому оно органично и изначально принадлежит.
Последовательная вера Плотина в восхождение – это и есть эсхатологический оптимизм. Мы заброшены в мир, но также мы эту заброшенность можем использовать как шанс. Необходимо освобождение, необходим опыт мистического выхода из контуров собственной конечности – опыт теургии, опыт разрыва с индивидуальным, опыт перехода в потустороннюю область. Мы находимся внизу, чтобы двинуться отсюда вверх.
В неоплатонической философии существовали различные школы – как более рационалистические, так и более мистические. Например, Пергамская школа, которой принадлежал император Юлиан, была связана с регулярным мистериальным опытом, который вдохновлялся и произведениями восточных теургов, «Халдейскими оракулами», и Гермесом Трисмегистом, и соответственно, герметическими работами. В любом случае, опыт мистериального разрыва, столкновения самого себя как конечности с чем-то неизвестным, которое является бесконечным, крайне важен для неоплатонизма.
Фигура Господина у Гегеля
В качестве следующей важной фазы в исследовании эсхатологического оптимизма я бы хотела выделить Гегеля. Мы не будем рассматривать сегодня весь комплекс влияния неоплатонизма на последующую историю философии. Не будем также уделять специального внимания апофатическому богословию в христианском учении Дионисия Ареопагита. В принципе, такие проблемы, как христианский мистицизм, я думаю, требуют отдельной лекции. Я перейду сразу к Гегелю и покажу тот момент, который я в гегелевской системе выявляю как эсхатологический оптимизм.
В центре моего рассмотрения стоит знаменитая диалектика Раба и Господина[14 - Гегель. Феноменология духа/Гегель Сочинения. Т.4. М.: Издательство социально-экономической литературы, 1959.] и формула Гегеля: «жизнь есть способ выносить смерть»[15 - Kojeve A. Introduction a la lecture de Hegel. L’idee de la mort dans la philosophie de Hegel. P.: Gallimard, 1947.]. По Гегелю, существует два типа сознания – сознание Раба и сознание Господина. Господин отличается от Раба тем, что он принимает на себя риск столкновения со смертью, в то время как Раб отдает свою свободу Господину за то, что Господин берет на себя эту встречу со смертью. Эсхатологический оптимизм у Гегеля связан непосредственно с понятием смерти и отношением к ней. Раб не эсхатологический оптимист. Он его противоположность. Помните, была такая интересная формула у Мартина Хайдеггера, которая звучала приблизительно так: «отсутствие эсхатологического мышления есть чистая форма нигилизма». И вот, у Раба, которого описывает Гегель, такого эсхатологического мышления нет. То есть он не верит в конечность, он отказывается соприкасаться с этой конечностью, он отказывается пересекаться со смертью. Он передает свою свободу Господину, чтобы он вместо него сошелся со смертью. Это напоминает современного человека, который, по сути дела, начинает всецело доверять медиапространству, раскрывается этому медиапространству для того, чтобы оно конституировало его: «Если медиа утверждают, что от коронавируса умирают, то я тогда тоже могу умереть». Все как скажут СМИ: «Если считается, что от него не умирают – значит и я не умру». Процесс такого делегирования отношения к смерти кому-то вовне, условному «Господину», можно проследить как в медиапространстве, так и в области современной философии. Пассивное принятие стихии материальности, материи, путь подчинения ей, есть тоже один из способов отвернуться от смерти. Объектно-ориентированная онтология неразрывно сопряжена с рабским сознанием. Это не провозглашение обреченной воли перед лицом неизбежной, везде и всегда присутствующей смерти, но стремление любой ценой ускользнуть от нее, уклониться. Пусть материя сама столкнется со смертью, избавив сознание от прямого опыта конечности. Или иначе: гегелевская формула «жизнь, как способ выносить смерть» обосновывает позицию эсхатологического оптимизма, и в системе Гегеля выливается в фигуру Господина. Господин и есть эсхатологический оптимист.
Ницше
Перейдем к ницшеанской философии, к вскрытому Ницше нигилизму и его пониманию человека – как «стрелы тоски, брошенной на тот берег». В ницшеанстве, мне кажется, наиболее явно и наиболее отчаянно проявляется последний крик иллюзии, крик последнего человека как того, кто категорически не готов сталкиваться со смертью.
После вдохновенной речи Заратустры об исчерпанности человека и необходимости его преодоления толпа кричит:
«Мы слышали уже довольно о канатном плясуне; пусть нам покажут его».[16 - Ницше Ф. Так говорил Заратустра. С. 11.]
Далее Ницше описывает последних людей еще более язвительно:
«Его род неистребим как земляная блоха; последний человек живет дольше всех.
«Счастье найдено нами», говорят последние люди и моргают.»[17 - Ницше Ф. Так говорил Заратустра. С. 14.]
Снова это – гегелевский Раб, антитеза эсхатологического оптимиста.
И напротив, сверхчеловек Ницше – это тот волевой акт, который, отталкиваясь от берега иллюзорности, направляет свою духовную силу, свою интенцию в сторону иного берега, берега, о котором он ничего не знает. По сути дела, в этом волевом решении, в этом выделении Ницше волевой необходимости преодоления человеческого, заложен апофатический оптимизм: куда эта стрела пущена, куда она несется, куда она смотрит – в этом нет никакой определенности, никакой гарантии. Это – отчаянный бросок, жест, обращенный к ничто, направленный туда, где нет полюсов. У Евгения Головина одна из песен начинается словами:
«Где нет параллелей и нет полюсов…»
Соответственно, у Ницше эсхатологический оптимизм – в принятии иллюзорности окружающего мира, в холодной констатации совершенной ничтожности последнего человека, который моргает и хлопает глазами, и одновременно, в кажущемся, абсолютно безосновательном, ни на чем не основанном акте призыва к уходу – в броске стрелы на противоположный берег. А что там за «противоположный берег», никто не знает, поэтому это лишь свободный волевой акт преодоления конечности любой иллюзии. В этом ницшеанская апофатика. Ничтожность нигилизма преодолевается только волей к предбытийной Единице.
Чоран: оптимистичные судороги умирающего
Далее я бы хотела перейти к одному прекрасному румынскому философу, которого я очень ценю – это Эмиль Чоран. Он был близок и к Эжену Ионеско, и к Мирче Элиаде, и к Лучиану Благе – позднее и к Полю Целлану, Самуэлю Беккету, Анри Мишо. Когда я сегодня читала про него справку, обратила внимание на то, что он, оказывается, находился под сильным влиянием культуры европейского пессимизма. Так назвали в одной из каких-то философских энциклопедий среду Шопенгауэра, Ницше и Клагеса. Мне очень понравилось выражение «культур-пессимизм». Соответственно, работы Эмиля Чорана отличаются предельной безысходностью.
Я познакомилась с трудами Чорана во Франции, в России некоторое время назад не так много его работ было переведено[18 - Чоран Э. М. Признания и проклятия. СПб: Симпозиум, 2004; Он же. После конца истории: Философская эссеистика. СПб: Симпозиум, 2002; Он же. Горькие силлогизмы. М.: Эксмо; Алгоритм, 2008.]. Эмиль Чоран – последовательный румынский нигилист, предельно болезненный. Большинство его работ составлено в форме афоризмов. Все они довольно грустные. Сейчас я вам прочту буквально одну цитату, которая была использована в анонсе моей лекции. «На загнивающей планете следовало бы воздержаться от того, чтобы строить планы, но мы все равно их строим, поскольку оптимизм, как известно – это судорога умирающего»[19 - Чоран Э. М. Признания и проклятия. С. 186.].
У Чорана была довольно интересная жизнь. Он получил воспитание в религиозной среде, и первое время занимался религиоведением. Потом жизнь повернулась иным образом, он оказался под влиянием Шопенгауэра, Ницше, Клагеса. Постепенно он стал становиться, своего рода, «нигилистом». Тяжело пережил Первую мировую войну. Из-под его пера появляются такие работы, как «Краткая история разложения», «Силлогизм и горечь», «Несчастье родиться», «Признание и проклятие», «Злой демиург» и т. д. Все это написано в афористическом стиле – это отрывки, тяжелые и болезненные, немножко похожие на темные фрагменты Василия Розанова.
В эсхатологическом оптимизме Чорана есть две составляющие. С одной стороны, это принятие иллюзорности этого мира, принятие его конечности, его абсолютной непроходимой замкнутости при отсутствии какого бы то ни было выхода из него. Чоран пишет о том, что он находится в мире, который приговорен, что мы все заведомо осуждены, прокляты и являемся жертвами этого осуждения. У нас нет выхода отсюда: никакого и во всех направлениях: нет выхода вверх и нет выхода вниз, потому что «мы – приговоренные и распятые на кресте толкования», как писал Чоран. Или в ином месте: «Мы уже рождаемся распятыми». Или еще: «Душа – это уже распятие».
При этом Чоран говорит о том, что «оптимизм – это судорога умирающего». Но и она необходима для того, чтобы каким-то образом поддерживать статус этой Вселенной: ведь именно оптимизм (путь и как судорога умирающего) конституирует мир. Как ни странно, это здоровая реакция на бессмысленность того мира, в который мы заброшены. Несмотря на то, что у Чорана нет какой-то религиозной составляющей и никакой спасительной доктрины, которая могла бы изменить судьбу человека, открыть в ней призыв покинуть эту Вселенную, сделать волевой бросок в сторону Абсолюта, то есть нет позитивной трансцендентности, он тем не менее точно фиксирует важнейшее состояние мира – его иллюзорность, его абсолютную бессмысленность, пронизывающую его усталость. И это, становясь стартовой чертой человеческой экзистенции, составляет основу оптимизма как судорог умирающего.
Поэтому Чоран, на мой взгляд, крайне важен для понимания эсхатологического оптимизма. По сути дела, понятие «эсхатологический оптимизм» и пришло мне в голову после того, как я впервые прочла Чорана. Это было в 2013 или 2012 году. Дальше эти безысходность имманентного мира, трагическое переживание его конечности и, несмотря ни на что, осознание необходимости оптимистичного волевого отношения к этому концу я начала находить уже в других произведениях, у других авторов и в других школах.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: