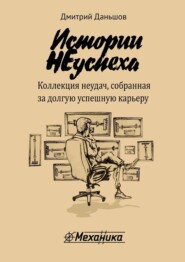скачать книгу бесплатно
Для подростков, пришедших в «Техноград» по доброй воле, ситуация не лучше. Вы, конечно, можете привести мальчика в столярку, но по предварительной записи, и пожалуйста, стойте с ним рядом, потому что вы должны отвечать за его безопасность. Ёперный театр! Кто б стоял и дышал мне в затылок, когда я работал – отец??? Да как можно работать, когда папа, безусловно оценивающий каждое твое движение, стоит над душой? Нет! Ты имеешь право на ошибку, когда делаешь всё сам, прижав доску к ступенькам коленкой и отпиливая ее папиной ножовкой, но так, чтобы об этом никто не знал! Ты же учишься сам? Зачем родителям над тобой надзирать? А сейчас у нас повернутая на псевдо-детской безопасности система образования усиленно выпускает инфантилов и метросексуалов. Как им жить-то потом? Бог его знает… Ну, давайте спишем это на мою репетицию старческого ворчания. На момент написания этой главы мне целый пятьдесят один год! И я считаю, что это классный возраст: от двадцати семи недалеко ушел – вот крест на пузе, дури пока не убавилось! Чему я крайне рад…
Огромное значение для привития всяких навыков и расширения технического кругозора имела «техничка» – так у нас называлось двухэтажное здание, одно на все три школы крупного поселка, где проводились уроки труда начиная с первого класса, где мальчишкам давали рубанок, молоток, ножовку, подпускали к заточному и токарному станкам. Мне там с третьего класса разрешали работать на токарном по дереву, а с четвертого или пятого – уже на токарном по металлу ТВ-4: ты проходил стандартную программу, ты должен, обязан был уметь на нем работать! То есть слесарно-столярные навыки прививались достаточно качественно. Плюс к этому была масса кружков – естественно, авиамодельный, судомодельный, ракетомодельный. Остальные – фото и прочее – это уже кому как нравится, а вот эти были самыми посещаемыми. И – самое главное! В 9—10 классах «техничка» позволяла получить настоящую профессию. Из вариантов «токарь», «секретарь-машинистка» и «чертежник-деталировщик» я выбрал, естественно, чертежника, о чем до сих пор ни разу не жалею. Эта профессия сразу погружала в мир по правилам ЕСКД (Единая система конструкторской документации» ГОСТов и стандартов). Конечно, сейчас графические программы типа «Солидворкс» открывают конструкторам сказочные возможности, но тогда хороший кульман и чешская готовальня были талисманом и пропуском в мир машиностроения. Отдельное спасибо и низкий поклон нашему преподавателю, горному инженеру Галине Дмитриевне Бурловой (отчество забыл!!! – тридцать восемь лет прошло… пришлось одноклассникам звонить). Многим школьникам она дала твердые знания и чёткое понимание будущей инженерной профессии.
Глава 1. 8. Электроскутер из СССР. Иногда незнание – сила
Начиная с восьмого класса, я ездил в славный городок Черноголовку, где был Дом пионеров, а в нём был кружок, называвшийся «картингом». Карт там был действующий один, и один – разобранный, а в основном там было техническое творчество. Под руководством наставника-руководителя я там занимался реализацией совершенно утопической идеи: на базе мотороллера ВП-150 мы делали электромотороллер – в те времена! В качестве компонентов для этого чудо-прибора, опередившего свое время лет эдак на сорок, предполагалось использовать кислотный аккумулятор 75 ампер-часов, стартер (я не помню, от какого вида техники), и вместо коленчатого вала собственно двигателя мотороллера предполагалось установить максимально массивный маховик, который мог только туда поместиться по габаритам – для того чтобы он запасал механическую энергию при торможении и при выжатом сцеплении, и давал дополнительный импульс на старте. Идея была в теории неплохая, но реализовать ее на той компонентной базе было нереально.
Мотороллер ВП-150 – это «Веспа», конструкция, ворованная у итальянцев, послевоенная. Весило это чудище килограммов сто пятьдесят, и кислотным аккумулятором перемещать ее на дальние расстояния, мне кажется, достаточно утопично. Плюс к этому стартер – это мощный компактный электродвигатель кратковременного действия. И если заставить его тянуть на себе «Веспу» плюс всадника довольно продолжительное время, то он просто перегреется и сгорит. Мы с моим наставником об этом не подозревали, и поэтому с большим энтузиазмом работали над сборкой этого электромотороллера (недособрали, честно признаюсь) целую зиму. Зато: ставить-снимать силовой агрегат, разбирать коробку, запихивать и выпихивать оттуда шестеренки, половинить мотор – это я научился уверенно. Очень увлекательное было занятие!
Для школьников в этом кружке были доступны токарный станок и сварка. Тебе чего-то нужно приварить – пожалуйста! Компрессор со сжатым воздухом – пожалуйста! С компрессором, правда, как-то раз произошел один занятный казус…
Один из кружковцев притащил откуда-то колесо для мотоцикла – в сборе: с камерой, с покрышкой – то есть вполне прикольное такое колесо. Зачем-то оно ему было надо. Он был жутко горд, что это колесо добыл. Парень держал колесо за торчащие концы оси, и, довольный, показывал, как оно вращается. Заработал компрессор в углу. Двигатель завращал маховик компрессора – и нашему товарищу жутко захотелось посмотреть, как же его колесо будет вращаться на скорости. И беговой дорожкой покрышки он прислонил колесо к маховику компрессора… Не помню, какие там были обороты, но предположу, что мотор выдавал тысячу триста… с учетом диаметра шкива линейная скорость достаточно приличная. Колесо раскрутилось до весьма и весьма немалых оборотов, а никто ж не пытался его балансировать – соответственно, держать в руках бешено вращающееся колесо, которое еще и непонятные силы норовят увести влево или вправо, достаточно неприятно. И бросить его нельзя – потому что оно ж покатится со страшной силой и кого-нибудь покалечит. И вот этот парень в углу рядом с компрессором орет: «Разбегайтесь! Не удержу!» – и выполняет свое обещание: не удерживает, бросает его, и оно со страшной скоростью под сто кэмэ в час пересекает мастерскую и ударяется в верстак. Жуткий грохот, после этого мертвая тишина. Жуткий грохот – потому что колесо, мчащееся со скоростью сто километров в час, впилилось в верстак, из верстака повылетали веками не вытаскиваемые оттуда выдвижные ящики, в которых были болты, гайки, инструменты, всякий хлам, копившийся там от сотворения мира. Причем они не просто повылетали, а грохнулись аж на середину помещения, засыпав пол мастерской свои содержимым. А колесо перестало быть круглым. От такого безжалостного удара оно сплющилось, стало «яйцом». Совершенно непригодным для дальнейшего использования. Колесо парень убил. Но мы получили наглядный урок того, какие силы воздействуют на быстро вращающийся маховик, особенно если он не шибко сбалансирован. Загадочными казались нам тогда эти силы – несмотря на то, что физике в восьмом классе нас уже активно учили.
Глава 1. 9. Интрацикл. Доверчивость к рассказам о чужих успехах
Так вот, Дом пионеров в Черноголовке, до которого только автобусом было ехать пятьдесят минут, многому меня научил – в основном, самостоятельности. Там я заболел идеей построить интрацикл – средство передвижения в виде большого колеса, внутри которого сидит водитель. Внутренняя обойма колеса за счет веса водителя относительно неподвижна, а внешняя, вращаясь вокруг него, мчит конструкцию вперед. Управление происходит смещением массы рулем и корпусом влево или вправо, конструкция может развернуться на полном ходу на месте. Имея диаметр порядка 1500 мм, интрацикл успешно должен проглатывать мелкие неровности дороги.
Главное: разработчики этой конструкции, взрослые дядьки, утверждали, что разгоняться она может чуть ли не до 60 километров в час.
Я видел публикацию в журнале, и даже ухитрился посмотреть небольшой сюжет про интрацикл по телевизору. На федеральном канале, как бы сейчас выразились. Ютуб сохранил для нас это раритетное видео. Можно посмотреть по QR-коду:
Конечно, меня идея интрацикла жутко вдохновляла. Хотелось ездить быстрее всех. У всех были мопеды. А у меня не было: родители не разрешали. И сила нереализованного желания была о-очень велика… Поэтому была договоренность, что сначала я вместе с руководителем построю электромотороллер, а потом перейду к собственному проекту интрацикла. Не случилось.
Руководитель объяснил, что с такой точностью согнуть алюминиевый профиль, чтоб колесо вращалось без заеданий – непосильная задача. Плюс к этому в конструкции применено изрядное количество подшипников, каждый из которых будет создавать небольшое сопротивление качению, что в сумме даст существенные потери. В итоге большое колесо вращаться будет с заеданиями – соответственно, забудь. Ну, в общем, вылил на меня ушат холодной воды… Но я всё равно не остановился. Но самое главное препятствие – нужный алюминиевый профиль я найти не смог… Где его взять – вот именно такой? Ну тогда чего – по стройкам нужно было лазить, по свалкам – это был единственно доступный источник материалов для дальнейшего технического творчества. И вот на стройках и на свалках нужного алюминиевого профиля не оказалось. А без нужного профиля дойти до следующего препятствия на пути создания интроцикла шансов не было. Дальше я б на чем-то другом споткнулся, но случилось споткнуться сразу: на невозможности найти главный материал.
Сейчас я понимаю, что существенных преимуществ перед классическим мопедом конструкция интрацикла не имела. И с управляемостью все было неоднозначно, и преимущество в скорости скорее воображаемое, чем реальное. Но тогда я наивно поверил в хвалебные утверждения журналистов, не подвергнув их сомнению и критическому анализу. Будьте бдительны, особенно сейчас, в век махрового «маркетинга». Помните, что закон сохранения энергии действует всегда, и если мотор Д6 разгоняет мопед до 40 км\ч, то равный по массе и сопротивлению качению интрацикл тот же мотор разгонит до той же скорости. Что бы ни утверждали господа журналисты или рекламщики.
Глава 1. 10. Складной мопед. Если нельзя, но очень хочется
Последней из условно детских и не совсем коммерческих нереализованных конструкций был складной мопед. Тогда популярен был односкоростной мопед «Рига-11», выпускавшийся на рижском мотозаводе «Красная звезда», с моторчиком Д-6 и хребтовой рамой. Определенно родители мне мопед не купят, но они же не запретят его сделать!
А где ж его хранить? А хранить можно только на балконе. На балконе целиком он не поместится – значит, он должен быть компактный, а компактный – это значит, складной. И вот если взять Ригу-11, укоротить и занизить до максимальной компактности, переднюю часть мопеда с хребтовой рамой, передней вилкой и рулем сделать одним изделием, а вторую часть мопеда – заднее колесо с двигателем и баком – второй частью, собрать всё это вращающимся относительно вертикальной стойки, то получится компактная складная конструкция. Фиксировать половинки мопеда я решил самым надежным способом – я тогда уже это знал – конусом Морзе. Повернул ручку – рама жестко зафиксировалась, повернул ручку в обратную сторону – и она сможет свободно провернуться, сложившись в компактное состояние. Стоило еще и контрольное отверстие предусмотреть – на случай, если конус не захочет добровольно разблокироваться и потребуется легкий ударчик специальным клинышком.
Разложил раму, повернул ручку одним волшебным движением, сел и поехал. Мне решение казалось очень удачным. Даже раму на пожаре со сгоревших сараев я себе такую притащил… Единственное «но» – руководитель сказал: «Слушай, на пожаре жар сумасшедший, эта рама была под длительным воздействием температуры свыше пятисот градусов – соответственно, тонкостенная труба, вероятно, каленая при производстве, потеряла свои прочностные характеристики. Рама жиденькая – легко мнется, легко пилится, легко гнется, и то, что ты ее зашкуришь и покрасишь, конечно, сделает ее красивой, но не сделает ее прочной. Так что, чувак, вариант непроходной…»
Ну что здесь помешало реализации? Отсутствие денег, отсутствие возможности приобретать необходимые детали и – надвигающийся выпуск из средней школы и подготовка к поступлению в Московский автомеханический институт. И вот вся эта совокупность факторов идею со складным мопедом убила. Но опыт поиска нестандартных компоновочных – приобретен, безусловно, был.
Сейчас разнообразных компактных и складных средств передвижения множество. Даже термин возник «средство индивидуальной мобильности». Я с восторгом смотрю на бодро едущий в потоке транспорта складной самокат с бензиновым микромоторчиком. Эти «малыши» резвы и динамичны, их малюсенькие моторчики бодры и обладают приличной мощностью. Но раньше, в пору моей юности, компактной и складной техники не было. Так что мои придумки для своего времени были вполне революционными. Но вот довести дело до результата не получилось…
Был еще один школьный проект: построить мотоцикл-амфибию. На съёмных надувных поплавках. Дальше мечтаний и первых эскизов дело не двинулось: уж слишком сложно, и дорого по комплектующим. Из полезного: изучил всю доступную информацию по автомобилям-амфибиям и по складным катамаранам. Этот проект мне потом аукнулся, уже во взрослой жизни. Подробнее расскажу чуть позже. Что называется: бойтесь своих желаний…
Глава 1. 11. Веники. Советы малополезны. Их отсутствие губительно
Есть у меня еще одна история – ароматная, солнечная, запавшая мне в воспоминания, но, тем не менее, закончившаяся вполне себе оглушительным провалом…
Дело было летом 1980 года. Наблюдая мои настойчивые, но не сильно успешные попытки обрести какую-то финансовую самостоятельность, то есть заработать денег на всякие свои затеи – велосипедные, мопедные, инструментальные и так далее – подруга моей мамы, тетя Зина, получив от мамы предварительное одобрение, дала мне следующий весьма ценный совет. В героическом поселке Чкаловский есть городская баня, у этой бани есть, естественно, директриса – и эта директриса готова заплатить по пятнадцать копеек за каждый добротный, крепко связанный, красиво набранный и качественно высушенный березовый веник, который ты ей привезешь в эту самую баню.
Это я сейчас уже понимаю, что поскольку никаких бумажек не заполнялось, возможно, это был карманный бизнес коллектива городской бани – но дело же хорошее! Народ наш российский париться любит, а как париться без веничка? Вот сейчас на дворе июнь – уже совсем другого, две тысячи двадцатого года, май был рекордно дождливым, сейчас – третий жаркий день после этого почти всемирного потопа, зелень пошла в буйный рост, бурьян сочный, крапива – жгучая, ароматная, листья разлапистые, крупные… И вчера мы с сыном сходили, нарезали и навязали веников для бани. После чего вспомнил я другое лето, ощутил все эти запахи – и решил рассказать вам свою школьную веничную эпопею…
Подписались мы на это мероприятие вместе с моим товарищем Андрюшей Рубекиным. Итак, июнь восьмидесятого года. Рано с утра мы уходили в лес, приходили на просеку, через которую шла ЛЭП (линия электропередач) – при прокладке там деревья все, естественно, вырубили, но за пару пятилеток на месте срезанного леса разрослась молодая береза, быстрорастущее и, как некоторые говорят, сорное дерево. В этом молодом березнячке мы сначала нарезали душистые охапки молодых веток, а потом сидели на солнышке и увязывали их в венички. Занятие не то чтобы сложное, вчера посмотрел, как с ним справляется мой двенадцатилетний сын – ну, после некоторых подсказок и корректировок, в принципе, справляется. А тогда, в восьмидесятом, мне было четырнадцать, а Андрюхе – пятнадцать.
Запомнился этот период очень сильно, потому что каждый день с утра и до позднего «послеобеда» мы торчали в лесу, собирали землянику (помимо того что вязали веники). Выследили лисью нору с лисятами. Лиса – зверь осторожный. А лисята – щенки, они ж игручие, общительные, любопытные – поэтому нору мы выследили. Никакого вреда зверям причинять не стали.
Как-то раз утром на нас – на поляну – из леса вышло стадо лосей аж в целых одиннадцать голов – я их пересчитал. Лосихи с подросшими лосятами и два крупных самца. Весной лоси неопасны – это осенью они бывают сердитые, и то только быки. А так – это крупная лесная корова, которая человеку, если он ее не раздражает, вреда причинить не стремится. Ну, мы полюбовались этими лесными великанами, а потом – ну башки-то нет! – решили их попугать. И залезли на трубу, которая проходила через просеку, стали махать руками, орать… лоси посмотрели на нас как на придурков – и неспешной величавой трусцой двинулись обратно в чащу.
Не знаю почему, но зверья при советской власти даже в ближайшем Подмосковье было в изобилии. В двадцати-тридцати километрах от Москвы было изрядно зайцев, лосей, и даже глухари с тетеревами не были такой уж редкостью. По крайней мере, для тех, кто охотно ходил в лес в любое время года и мечтал стать великим охотником.
Ну так вот, проторчали мы в лесу – тогда мне казалось, что месяц, а сейчас я понимаю, что недели, наверное, две – две с половиной. Увязанные веники мы не тащили обратно в поселок, а обратно запихивали на ветки – пускай они там, в тенечке, сушатся. Конечно, была вероятность, что кто-то их найдет и стырит, но в густой чаще найти несколько деревьев, утыканных уже срезанными и навязанными вениками можно только случайно. Так что продукция наша осталась в сохранности. Трудились мы упорно, стремились не уходить из леса, пока каждый не заработает по пять рублей – посчитайте сами, сколько веников по пятнадцать копеек нужно навязать! Не то чтобы титанический труд, но, тем не менее, приличная работа.
В конце июня Андрюхина семья засобиралась в деревню – на родину, на Украину, в Черниговскую область. Выезжали они торжественно, на красивом новом автомобиле «Москвич 412», и Андрюха, соответственно, уезжал вместе с родителями. Оставлять в лесу наши кровно заработанные веники не представлялось возможным, поэтому взяли мы веревки, навязали вязанки, взвалили их на спину – и в несколько ходок перетащили из леса все то, что героически наработали, в Андрюхин гараж.
И вот тут начинается интересное. Веники, которых мы вязали на пять рублей в день – это весьма себе приличная груда. Соответственно, просушились из них только веники из первой партии. А чем ближе это было ко дню отгрузки из леса, тем продукция была более влажной. Андрюхин папа – Эдуард Арсеньевич, биолог, кандидат наук, профессор, преподаватель профильного ВУЗа. Как и все наши родители, вырос в деревне. И точно знал, что недосушенные веники нельзя складывать плотной стопкой. Но у взрослых перед дальней дорогой море своих забот…
Почему я об этом рассказываю? Потому что веники, притащенные нами из леса в виде нескольких нехилых вязанок, были уложены в большую-большую стопку на освобожденный для этих целей верстак. Стопка была – под потолок. Веники недосушенные – пролежав здесь несколько недель, они, что называется, сгорят. Сопреют. Но никто из взрослых нам на нашу фатальную ошибку не указал.
Андрюха с семьей уехал на Украину и вернулся через месяц. Мы засобирались отвезти веники в баню и получить свои честно заработанные. Там по подсчетам выходило рублей по шестьдесят на брата. Вполне приличные деньги. Мопед можно купить было в приличном состоянии. А когда открыли гараж – ощутили характерный сладковатый, удушливый, несколько дурманящий запах. Запах прели. Сгорели наши веники. В плотной стопке, без проветривания, недосушенная «биомасса» начинает преть, выделяя тепло. Листва становится коричневой и дурно пахнущей. Осталось несгоревшим только то, что лежало сверху и по краям. Большую часть всей продукции просто пришлось оттащить на свалку. Жалко было – слов нет!
Для чего я упомянул про крестьянское происхождение родителей, как и большинства российского народонаселения? Не для того чтоб как-то похихикать над наивными попытками некоторых граждан и гражданок объявить себя потомками дворянских родов, не утруждаясь поиском тому подтверждения. Настоящих дворянских и купеческих фамилий было немного, основное население Империи было крестьянским. Я искренне горжусь своими крестьянскими рязанскими прадедами, и прадедами казачьими, кубанскими. Так вот, мой отец, уже будучи кандидатом наук в самой «инновационной» отрасли, азартно косил сено, мне доводилось сено ворошить и укладывать в стожки. Самодельными, вручную сработанными деревянными граблями, привезенными из деревни. И родители знали, и я слышал: если скошенную траву не ворошить, она «сгорит». Но поскольку большой теплоты к сельхозработам я не испытывал, информацию эту не усвоил. Вовремя сам не понял, что такое «сгорит» – свежескошенное или свежесрезанное – и вовремя не получил подсказки от старших.
В итоге, ни сами мы не сообразили, ни своевременной подсказки от взрослых не получили. Уцелевшие веники мы отвезли в Чкаловскую баню. Передали, получили расчет. Получилось что-то около шести рублей на брата…
Вот такой эпический провал. Но несколько рублей вместо суммы, достаточной для покупки бэушного мопеда, были все ж таки заработаны. Как и впечатления, которые остались на всю жизнь. Запахи, звуки и лето ? а точнее, его самая солнечная, зеленая и свежая часть, проведенная в лесу. Веники до сих пор вяжу быстро и профессионально.
Порой причина краха состоит в том, что в нужный момент рядом не оказывается грамотного наставника. Наставник нужен не только для того чтобы научить, как делать, но и чтобы предостеречь от фатальной ошибки, указав, как НЕ делать. Мы в эту фатальную ошибку вляпались. Такая вот история…
С моим товарищем, Андреем Рубекиным, мы вместе поучаствовали еще во многих затеях. Чаще он был организатором. Мне отводилась роль соисполнителя. Смелость, граничащая с авантюризмом, общительность, умение находить контакт с самыми разными людьми обеспечили Андрею бурную и яркую биографию. В двухтысячных, реализуя один из своих бизнес-проектов, законный и легальный, Андрей погиб. Ему было сорок лет. Светлая память.
Бизнес – это всегда рискованное занятие.
Глава 1. 12. Самодельные мотошлемы. Опять силенок не хватило…
Боюсь, как бы не переборщить с воспоминаниями, которые, возможно, интересны только мне и узкому кругу причастных к тем временам и действиям лиц. Перечислю: были попытки изготовления из стекловолокна закрытых мотоциклетных шлемов, которые тогда назывались «интеграл» – но при отсутствии смолы, стеарина, инструмента и технической базы идея оказалась слабореализуемой. Закончилось тем, что я к одному-единственному мотоциклетному шлему приделал псевдоподбородок «интеграл», зашкурил, зашпаклевал, закрасил, и таким образом продал это изделие рублей за пятнадцать. А вот в серию эта тема не пошла. Найти смолу и стекловолокно было вполне возможно. Но набрать воска или стеарина на изготовление «болвана» в нужном количестве не получилось. Опять-таки почитать заинтересованно и внимательно о том, как выклеивается изделие из стеклопластика, пришлось достаточно плотно. И узнать всякие полезные слова типа «пластификатор», «разделительный состав», понять, чем «болван» отличается от «матрицы» и как можно обеспечить равномерный прижим всего «пирога» слоев стекловолокна, накачав внутри матрицы камеру футбольного мяча. Много чего полезного изучилось и опробовалось в процессе подготовки к этому блестяще провальному результату…
Наверняка были еще какие-то затейливые затеи. «Школьные годы чудесные» были наполнены не только спортом, учебой, мечтами о девчонках, рыбалками, походами, поездками, но и еще таким вот достаточно интенсивным техническим творчеством. Считаю это полезным занятием.
Глава 1. 13. Подышать одним воздухом с корифеями
Но давайте-ка перейдем к тому, что можно уже назвать бизнесом. Первый курс института ничем в плане бизнеса или инженерных затей отмечен не был. Ну, сходил с замиранием сердца на съемки передачи «Это вы можете», про самодеятельных советских конструкторов и их творения.
Посмотрел живьем на золоторуких энтузиастов и «небожителей» – научно-технических тележурналистов. Получил огромное впечатление. Да вот, пожалуй, и все главные итоги первого курса.
Ничто не может остановить человека, на пути к его мечте. В стандартизованном и однообразном быте СССР необычный автомобиль был манифестом исключительности его владельца. Никакой Бентли сейчас не произведет такого эффекта на сограждан, как эти автомобили тогда. Попасть на съемки передачи позволил студенческий билет Автомеханического института, рекомендации доброго приятеля и счастливая случайность.
Авто повышенной проходимости. Заднеприводный автомобиль на ВАЗовских агрегатах. Никто при обсуждении машины не вспомнил название «Джип-Вранглер» (Jeep Wrangler), поскольку никто в зале про этот автомобиль не знал. Вероятно, кроме автора конструкции.
Из условных бизнес-затей можно упомянуть только продажу мотоцикла перед уходом в армию. Мот был куплен в девятом классе, за собственные средства – аж за целых двадцать пять рублей, был забран из деревни, от забора, где он долгое время зарастал крапивой. Привести его в порядок снаружи получилось неплохо, но с точки зрения технической исправности старенький «Ковровец» еще огорчал. Доводить его до ума времени не было: Родина уже готовилась выдать мне другую технику вместе с солдатской формой, я об этих перспективах догадывался, и поэтому продал свежепокрашенный и переделанный «под Яву» Ковровец за целых сто семьдесят рублей. Сумма значительная, с учетом покупки за двадцать пять. А потраченные силы, руки и многие человеко-часы в «СССРе» считать расходами было не принято…
Этот запоминающийся автомобиль покрашен перламутровой краской. Тогда еще не знали слова «металлик». Покрашен в буквальном смысле лаком для ногтей.
Итак, на первом курсе все были такие чудные, не понимали, как здесь учиться, первая сессия ощутимо сильно встряхнула – типа давай, готовься к зачетам… нет, я хвостов не нажил, всё сдал достаточно успешно, но понервничать немножко пришлось. Хорошо обладать немножко тревожным психотипом, когда ты заботишься о том, чтобы у тебя в будущем не возникло проблем. Излишний пофигизм, умиротворенность и флегматичность порой играют со своими носителями злую шутку. А я вот беспокойный, и это мне иногда помогает… По крайней мере, нет у меня других качеств – значит, я стараюсь пользоваться теми, какими обладаю.
Глава 1. 14. Свою Удачу я неожиданно встретил в сортире. Там же ее и оставил
Между первым и вторым курсом института был у меня двухгодичный перерыв на службу в Советской армии. Варианта «не служить» не существовало – а раз уж тратить два года жизни, то хотелось с пользой. Вариантов пользы было два. Первый, героический: попасть в десант, стать настоящим Рембо, научиться стрелять как ковбой, и бегать как его лошадь. Второй вариант: попытаться провести два года, как можно плотнее занимаясь техникой. Автомобильной, танковой, инженерной – любой, лишь бы техникой. Для этого стоило постараться попасть в рембат (ремонтный батальон) или, на худой конец, стать механиком-водителем.
Но Родину категорически не интересуют твои склонности и желания. Пошлет куда придется. Буквальное олицетворение слепой судьбы! Ни десант, ни рембат в планы Родины относительно меня не входили, но я об этом не знал, и упорно пытался навязать судьбе свой сценарий. Перед уходом в армию я выпросил в деканате справку, в которой значилось, что «Даньшов Д. Н., являясь студентом Московского Автомеханического института, прослушал курс общего устройства автомобиля длительностью 90 академических часов». Я надеялся, что справка – это лучше, чем ничего, и что она выделит меня из числа новобранцев, повысив шансы попасть в ремонтное подразделение. На первых порах мне это, увы, никак не помогло, но я продолжал мечтать и надеяться. Справку сохранил и носил вместе с военным билетом. В учебке ремонтом и эксплуатацией техники занимался БОУП (батальон обеспечения учебного процесса). Я собирал сведения, что это за батальон такой и как в него попасть. Бывалые воины объяснили мне, что это отъявленное махновско-разгильдяйское местечко, и на первом году службы жизнь там ну совершенно не сахарная: дедовщина – максимальная, быт и служба – тяжелые. Командует БОУПом капитан Чембаев.
«Чемба» был легендой всей дивизии. О нем говорили, что он контуженный афганец, и что не особо заморачивается уставными формальностями – иными словами, в ходе воспитания личного состава частенько полагается на свои пудовые кулаки. Я своими глазами видел Чембу лишь однажды. Мне довелось с безопасного расстояния наблюдать, как капитан гонялся за водителем УАЗика-буханки, размахивая штыковой танковой лопатой. Чемба – коренастый, крепкий, но невысокий, на сильных коротких ногах, а водила – длинный, проворный, убегал от Чембы отчаянно и успешно. Я был уверен: если капитан водилу догонит – зарубит лопатой насмерть. Чембаева боялись. К обучению молодых солдат он отношения не имел – у него были совсем другие задачи, посему как-то поговорить с командиром БОУПа не было никакой физической возможности. Да и не станет он с «духом» разговаривать, ибо «духу» в принципе говорить не положено.
Но я продолжал лелеять мечту потратить два года не солдатиком в краснознаменной дивизии, безликим и бесполезным, которых в этой дивизии десять тысяч по штату, а все-таки попытаться стать специалистом, благо техники в Советской Армии много и на любой вкус. Всю технику нужно чинить и обслуживать, и был твердый шанс за два года многому научиться.
Однажды я был в наряде посыльным по штабу. Получил команду: идти в большой учебный корпус и занять место дневального. Пошел, занял. Корпус пустой. День воскресный. Сижу, «обозначаю присутствие». Природная потребность «отправлять естественные надобности» – так в уставе написано – повела меня в сортир. Даже бумажку, необходимую в гигиенических целях, где-то спроворил. Туалетной бумаги в армии нет. Совсем. И даже газетная в дефиците. Потому что газета приходит одна в сутки, а задниц в роте – более сотни. Напряженка с бумагой нешуточная.
Я неспешно пристроился в одной из длинного ряда кабинок, посидел в позе орла, совершил задуманное, надел штаны, застегнул ремень, в полном параде распахнул дверку кабинки и сделал решительный шаг с сортирного подиума на грешную землю. Шагнув, я буквально налетел на капитана Чембаева. И остолбенел. От неожиданности, и частично от страха. Чемба посмотрел спокойно и задал простой, уместный в данном интерьере вопрос: «Солдат, бумажка есть?». Я энергично замотал головой, с большим трудом выдавил деревянным языком писклявое «н-н-н-нет!» и мимо Чембы бросился в коридор….
Ну что стоило сказать спокойно и уверенно: «Есть бумажка, товарищ капитан! Только прочтите сперва»? И достать из кармана деканатскую справку! Я совершенно уверен, что после такого знакомства я бы очень скоро оказался в БОУПе. Чумазый, пропахший соляркой, голодный и хронически невыспавшийся, но был бы я в том месте, где сам выбрал служить ради золотого шанса за два года стать приличным специалистом.
Любой командир подбирает себе заинтересованных солдат с базовыми знаниями, а не тех, которых ниспосылает ему «буквальное олицетворение слепой судьбы». Почти наверняка и моя судьба сложилась бы в этом случае совершено по-другому. Не знаю, лучше или хуже, но по-другому. Запустилась бы совсем иная цепочка событий. Но я не сумел воспользоваться случайной счастливой возможностью. Втупил, остолбенел и испугался.
Удача не предупреждает о своем визите заранее. Если ты не готов встретиться с ней всегда и везде, даже в сортире – она проходит мимо.
Раздел 2. Начало взрослого предпринимательства
Глава 2. 1. Две работы. Две учебы. Первые попытки взрослого бизнеса
Второй курс института случился уже после армии, «несокрушимой и легендарной». Вернулись мои братья-студенты. На дворе 1987 год. В стране начинается перестройка. У всех великие надежды. На то, что «вот сейчас-то мы наконец-то заживем»! Но эти великие надежды сочетаются… ну, сейчас можно сказать, что с нищетой, а тогда – с повсеместной бедностью. То есть живем мы весело, но очень-очень скромно. Сейчас принято как-то романтизировать советский период нашей истории. Безусловно, там были очень и очень большие преимущества, но также были и существенные недостатки. Один из них – всеобщая равная и тотальная бедность. А из нее очень хотелось вырваться. Очень хотелось не экономить на еде, иметь возможность одеваться чуть лучше, и вообще приобрести некий более высокий социальный и имущественный статус. В этом славном году – в 1987-м – я пронаблюдал начало кооперативного движения. Какие-то задатки частного предпринимательства были и ранее, и я об этом знал – и с некоторыми из «цеховиков» – нелегальных советских предпринимателей, я был знаком… но сейчас это был легальный вид экономической активности, неожиданно освобожденный от уголовного преследования.
Глава 2. 2. Кнопки. Возрастает лишь сложность затеи. Провальный результат неизменен
И вот как-то по бодрому центральному каналу – а других тогда не было – прошел репортаж о том, что какой-то героический кооператив в Москве производит одежные кнопки. Одеты мы все тогда были одинаково: в болонью, шубы-чебурашки и какие-то странного покроя куртки, поэтому первое, чем занялись товарищи кооператоры – это постарались нас одеть понаряднее. Из кальсон шились и красились шапочки – разноцветные «петушки», из махровых носков нарезались колечки, в них вшивались резинки, и девчонки этими резинками делали себе хвостики. Моды были диковатые, поэтому любые поделки расходились на ура, принося своим авторам колоссальные доходы. А металлические кнопки, на которые застегиваются куртки – «щелк-щелк» – ну это ж вообще круто! Они ж есть побольше, есть поменьше, есть фирменные, на них чего-нибудь там написано внутри! Когда все вокруг стараются зарабатывать шитьем одежды – тогда на всё был огромный спрос, а на кнопки в особенности. Так вот, какой-то кооператив в районе Тургеневской площади занялся мануфактурным производством одежных кнопок.
Причем делалось это варварским и несовместимым со здравым смыслом способом. Я на голубом экране телевизора тогда увидел следующее: что из задвижек отопительных труб – из вентилей – сделаны винтовые прессы. Самые непроизводительные, самые неточные, какие только можно себе представить. В эти прессы вставляются примитивные матрицы, которые из листового металла вырубают заготовки, на холодную вытягивают их, а потом на другом прессе люди собирают кнопки. То есть сидит человек и делает два оборота маховичком в одну сторону, два оборота в другую – и в результате получается заготовка. Чтобы собрать кнопку, нужно пять заготовок плюс одна пружинка. Соответственно, шесть изделий. Эти шесть изделий надо сначала холодной вытяжкой произвести, то есть шесть раз нужно крутануть маховичок в одну сторону и другую сторону – на шести прессах, с шестью матрицами. Пара «матрица-пуансон» должны сформировать детальку. Потом, собрав детальки в пакетик, еще на одном прессе или в оправке молотком собрать несколько деталюшек в одно копеечное изделие. Из какого металла это делалось – черт его знает. Предположу, что из металла для консервных банок. Подходит по толщине, 0.2 мм, и достаточно пластичен. Потом это нужно еще из баллончика покрасить, чтоб они приобрели синий, черный или какой им там положено цвет – и в результате ты получаешь изделие, отвратительного качества, но которое может работать как кнопка. Производительность труда пещерная: там, где автомат должен выплёвывать их тысячами в час, там сидят в рядок шесть-восемь человек и вручную создают прибавочную стоимость. Эта деятельность кажется сейчас невозможной, если забыть одно важнейшее обстоятельство времен зарождающегося капитализма – тотальный дефицит и железный занавес. Продукцию любого качества охотно купят по любой цене, поскольку альтернативы нет, и привезти «фирменные кнопки» из Тайваня или хотя бы из Польши еще категорически невозможно.
В результате деятельность кооператива, вручную производящего одежные кнопки, была вполне успешной. Поскольку люди были мы тогда всей страной небогатые, даже такой варварский труд был экономически оправдан.
Посмотрев хвалебный сюжет по телевизору, и оценив перспективы, я решил воспользоваться увиденной идеей. Только сделать всё это как-нибудь поинтересней: не крутить ручки прессов, а прессы взять кривошипные или хотя бы эксцентриковые – подробно я еще не продумывал, но было очевидно, что подсмотренный процесс производства можно существенно ускорить. Главное – сделать хорошие матрицы, которые позволяли бы делать эти кнопки более качественными и более производительно. Я взял в читальном зале института учебник по обработке металлов давлением, открыл там главу, а точнее, целый раздел, который касался холодной вытяжки листового металла, воспринял основную идею: исходим из гипотезы, что площадь заготовки всегда в итоге равна площади полученного изделия. И засел за кульман, ибо чертежником-деталировщиком я был уже на момент поступления в институт, и стал терпеливо, с радиусами, с точностями – правда, без твердостей (твердости по HRC я тогда еще затруднялся проставлять) рисовать комплект оснастки для производства кнопки.
Да-да-да, одежные кнопки! Перед тем как засесть за кульман, я попросил свою одноклассницу, учащуюся тогда на факультете журналистики МГУ и являющуюся внештатным корреспондентом газеты «Собеседник», посветить своей корочкой внештатного корреспондента – и вместе с моим другом Юрой Кормилициным проникнуть в этот кооператив, чтобы якобы взять у них интервью, а на самом деле пошпионить: как они там всё это делают? Юра Кормилицин и Инна Бекрева, спасибо им за это, всё классно отработали: Юра повесил на шею фотоаппарат «Зенит ЕТ» – якобы он фотокорреспондент. Фотографий, правда, потом не получилось, но он глазами фотографировал лучше, чем объективом. Сказал, что да, чуваки работают пещерно, и обойти их на повороте, имея более производительную оснастку – что два пальца об асфальт…
Просидев за кульманом не один день, я в итоге выдал комплект чертежей. По части формообразующей и режущей кромок матриц и пуансонов на тот момент все было выполнено нормально. Единственное, что я тогда совершенно упустил из виду – это то, что матрица и пуансон должны друг относительно друга позиционироваться, причем весьма точно. Я почему-то полагал, что пресс спозиционирует верхнюю подвижную и нижнюю неподвижную части матрицы сам, что он опускает подвижную верхнюю часть с высокой точностью – естественно, это совсем не так. По факту пресс развивает усилие с заданной частотой, а позиционироваться инструмент относительно самого себя должен по направляющим. Учась на втором курсе, я это упустил. Мой друг и партнер Юра взял комплект чертежей и повез их поездом в город Новоград-Волынский – сейчас это Украина, а тогда это был великий и могучий Советский Союз, где его дядя трудился токарем на инструментальном производстве. В результате детали были выполнены на токарном станке – без шлифовки, но с достаточно высокой точностью, после чего были закалены объемно на масло, но опять же без шлифовки. Думаю, что опытный токарь внес свои корректировки в мои достаточно жесткие допуски, потому что я закладывал весьма небольшие зазоры между подвижными частями, и при закалке термические деформации, скорее всего, вышли бы за рамки заложенных конструктором, то есть мной, зазоров. Но поскольку все собиралось и работало, наверное, опытный токарь шестого разряда слегка подкорректировал чертежи второкурсника с точки зрения допусков под реальные возможности производства.
Через неделю Юра вернулся с тяжеленной сумкой, в которой лежала оснастка. Там было шесть пар «матрица-пуансон» – и у меня же на кухне, безо всяких прессов, из металлической крышки для стеклянных банок с домашней консервацией, позиционируя матрицу руками и развивая усилие молотком, мы попытались отштамповать несколько пробных изделий. Изделия отштамповались – неидеально, но при условии, что вместо молотка будет пресс, был шанс повысить качество… Но пока мы решали, где можно найти или изготовить прессы – вопрос, о котором мы не задумывались, пока занимались технологией производства – на рынке появились пластиковые кнопки. Надежность их, конечно, невелика, зато они очень дешевые, хорошо выглядят, и краска с них не облезает, потому что они окрашены в массе…
Вставка. Надежный маркер, позволяющий судить о степени эксплуатации трудящихся в СССР
Еще один макроэкономический вывод, который следовало бы сделать – это то, что в Советском Союзе степень эксплуатации рабочего класса (по дедушке Марксу) была очень высокой. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что кооператив, вручную – подчеркиваю, вручную! – при низкой производительности труда клепающий эти плохонькие одежные кнопки, был рентабельным и мог существовать, работать, развиваться в течение достаточно длительного времени, и сотрудники этого кооператива находились в более выгодном экономическом положении, чем их коллеги, трудящиеся на советских предприятиях. Соответственно, норма эксплуатации (то есть соотношение полного рабочего времени и необходимого рабочего времени) была высокой. Частично высокая степень эксплуатации компенсировалось социальными благами – общими, доступными и бесплатными – но в целом население находилось в весьма стесненных финансовых условиях. Деньги имели огромное значение, а 50—70 рублей разницы в зарплате условно позволяла человеку подняться на следующую ступеньку социальной иерархии общества. Поэтому у меня и моих ровесников было особое уважение к деньгам и сформировалось устойчивое стремление к материальному благополучию. Наверное, в студенческие годы это и было главной мотивирующей силой и, может быть, даже основной идеей жизни. Не познание печалей мира, не поиск себя, что, на мой взгляд, вообще весьма туманная затея, а конкретная цель – заработать.
Помнится, один важный знакомый, в те годы занимавший пост замминистра цветной металлургии, ставил мне на вид: мол, что же вы с товарищами столь меркантильны – кроме денег, ни о чем и говорить не можете? Все очень просто. Мы были голодные. Ну, не в прямом смысле – на еду денег хватало – а вот нищенство советское утомило! Хотелось быть побогаче. Не ужиматься постоянно, не копить месяцами на новые ботинки. Хотелось искренне и сильно. А материальная мотивация – она, как известно, простая, понятная и весьма мощная.
Глава 2. 3. Попытка покорения термопластавтомата. Упрямое стремление к невозможному
Тогда мы предприняли следующую попытку. Я опять засел за кульман и нарисовал уже многопозиционную форму для изготовления пластмассовых кнопок на станках – термопластавтоматах. На втором курсе, после службы в армии, мой друг Юра и я устроились работать во вневедомственную охрану. Сейчас охранников десятки тысяч, раньше их было гораздо меньше. Весь отдел охраны «Ждановский» был, наверное, человек двадцать. Для устройства на работу потребовалось хитростью получить трудовую книжку по месту производственной практики. Иначе деканат мог отказаться одобрить мое трудоустройство. А раз трудовая на руках, а не в деканате, то я волен сам решать, совмещать работу с учебой или нет. Вопрос с отсутствием прописки я решил, взяв напрокат у приятеля паспорт и переставив страничку с пропиской из его паспорта в свой. И с этим неопровержимым доказательством подделки документов бодро пошел в кадровую службу вневедомственной охраны, где бдительный майор милиции преспокойно меня оформил на работу по «сборному» паспорту. А куда еще было устраиваться, если после армии в голове один устав гарнизонной и караульной службы? С такими знаниями только в охрану и возьмут… Тем более что график работы должен был сочетаться с дневным обучением в ВУЗе.
Так вот, на одном из объектов, которые мы по ночам охраняли, стоял примитивный термопластавтомат. Даже не совсем автомат. Просто станок, способный выпускать изделия из расплавленной пластмассы. На это старенькое и простаивающие оборудование мы и рассчитывали…. Находился станок в одном институте на Таганке, в Дровяном переулке. Мы рассчитывали установить на станок свою собственную оснастку и работать ночную смену себе во благо. Но не сложилось. Никто из наших знакомых не взялся изготовить многопозиционную пресс-форму по моим чертежам. Наверное, это даже хорошо, поскольку, не имея опыта работы с пластмассой, мы вряд ли смогли бы настроить станок и выбрать правильные режимы. Больше потратили бы сил, времени и денег. Но дополнительный курс машиностроительного черчения был мной пройден при интуитивном проектировании пресс-формы. Хорошо мало знать! Не понимаешь сложности задачи и с энтузиазмом берешься за воплощение, не мучаясь никакими сомнениями…
Вся эпопея с одежными кнопками закончилась тем, что я получил некоторый опыт проектирования штамповой оснастки. А еще у нас осталась куча каленого железа в виде пресс-форм. Одной из таких матриц моя мама еще долгое время прижимала цыпленка табака при обжарке ? единственное полезное применение. То есть идея, что называется, не взлетела. Тем более что потихонечку протаптывались тропинки, по которым сюда везли все подряд: бижутерию, швейную фурнитуру и много чего еще. Тот тотальный дефицит, который позволял находить сбыт поделкам, выполненным (ужас, ужас!) на прессах, сработанных из водопроводных задвижек, – этот период подходил к концу, и сегменты рынка постепенно заполнялись привезенными из-за границы вещами. Королями одежных кнопок мы так и не стали.
Глава 2. 4. Лунный трактор и вольные землепашцы. Ожидания от техники всегда отличаются от реальности
Следующей нашей затеей стала покупка двух мини-тракторов у одного из матерых конструкторов института НАТИ. Толковый и деятельный инженер главного тракторного института страны сконструировал и собрал для себя два образца техники. Один более всего подходил под классификацию «мотоблок»: с ломающейся рамой, грузовой тележкой, удивительным плугом со множеством регулировок по глубине, наклонам, отвалу. Полностью готовая, красивая конструкция с двигателем от мотороллера ВП-150 и восьмиступенчатой трансмиссией с реверсом. И блестяще выполнена. Я был уверен, что такая классная техника наверняка хорошо работает.
Второй агрегат представлял собой уже классический трактор. Двигатель – половина «Запорожца» (такие использовались на армейских бензогенераторах), потом последовательно стояла коробка передач от «Москвича-412», за ней коробка и главная передача от «Запорожца». Ведущие полуоси были снабжены компенсаторами несоосностей и соединялись с бортовыми редукторами. Проектировал и строил все это высокий профессионал.
Трактор был уменьшенным аналогом «Беларуси». Что-то похожее с хондовским мотором сейчас производит тот же самый Минский тракторный завод. Но где-то в процессе разработки у автора этих конструкций иссяк энтузиазм, или же просто изменились планы, – и он решил свои детища продать. Одно – в полностью готовом состоянии, второе – в виде комплекта агрегатов для дальнейшей сборки. Цена была заявлена привлекательная – четыреста рублей, и мы с Юрой решили эту технику приобрести в целях дальнейшего коммерческого использования.
Мотоблоком мы планировали вспахивать гражданам огороды за деньги, а трактор довести до ума и тогда уже определить его дальнейшее предназначение. Надо сказать, что огороды тогда были практически у всех. И вся страна дружно трудилась на них после основной работы, стремясь обеспечить себя картошкой. Сейчас это сложно представить, но тогда самостоятельное выращивание картошки имело вполне конкретный экономический смысл и составляло значимую часть бюджета семьи. По этой картофельной традиции можно еще раз косвенно оценить, что степень эксплуатации по Марксу в СССР была достаточно высокой. Примитивной лопатой и тяпкой люди зарабатывали «необходимую часть прибавочной стоимости» (то есть свой доход без доли государства), сопоставимую с их почасовым доходом на основном месте работы: рабочим, врачом или инженером. Я уже говорил об этом. Но не лишним будет и повторить. Пусть советский период нашей истории не очерняют, но и не идеализируют. Важно знать правду.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: