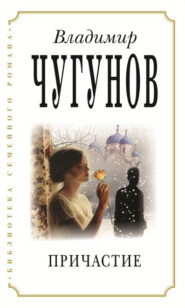скачать книгу бесплатно
– Для очередных приключений… – насилу сдерживая себя, повторил он. – Хорошо. Ты, в таком случае, для чего?
– Я?.. – Она нахмурил брови и на мгновение задумалась. – Вину, может, свою искупаю.
Чего-чего, а этого он никак не ожидал, и это его взорвало.
– Гляди, какая благодетельница! А не наоборот? Я тебе жениться предлагаю! Понимаешь? Жениться! Всё по-человечески. А ты…. ты всё, как бы не прогадать! – не удержался, чтобы не кольнуть он.
Задело.
– Давай ещё поцапаемся! И каждый день цапались бы, выйди я за тебя тогда замуж! Правильно мама сказала: ты одного себя любишь!
– Полина!
– Что, Полина? Ну что? Какая же я всё-таки дура! И всё потому, что тебя люблю, хотя ты этого и не стоишь! Но дело даже не в этом! Жена, говорят, у тебя красавица, так нет, тебе ещё со школы (вспомни!) одних только приключений подавай! Со мной, думаешь, успокоишься? Сомнева-аюсь! В Москве вон и то успел шашни завести.
– Так и знал, что попрекать будешь! Я тебе как человеку рассказал, а ты взяла и всё наизнанку вывернула! Вы все, что ли, такие?
– Нет. Не поэтому. Просто я тебе правду в глаза сказала. Сам ты об этом никогда бы не догадался. Да я на сто процентов уверена, что и той, московской, ты скоро бы наигрался. А то я не вижу, как ты на дежурную смотришь, а она на тебя! Правда, что рыбак рыбака видит издалека.
– Так ты меня ещё и ревнуешь?
– Я глаза тебе на породу твою непостоянную открываю!
– Вот спасибо! А я-то думаю, и что это со мной, а тут вон оно что! Ну, спаси-ибо! Нет, это надо записать! – Он вскочил с кровати, на которой буквально десять минут назад они лежали молча, утомлённые очередной близостью, и как клоун забегал по номеру. – Обязательно, сию же минуту записать! Где моя авторучка с золотым пером? Где моя авторучка? Вот моя авторучка! Так, бумага где? Нет бумаги! Ничего, я на ладони запишу! Чёрт, не пишет! Чернила кончились! Дай, пожалуйста, заколку! Ну, пожа-алуйста! Палец уколю и напишу кровью!
Не обращая внимания на его шутовство, Полина неторопливо поднялась с кровати, оделась, подошла к платяному шкафу, сняла с плечиков светленький плащ, надела, подпоясалась – и тут же превратилась в исчезающую навсегда «таинственную незнакомку». Он подошёл, обнял, для большей убедительности опустился на колени.
– Прости! Ну прости! Только не уходи совсем! Очень тебя прошу!
– Пусти.
– Не отпущу, пока не простишь. Скажи, что простила? Простила?
– Мне пора. Пусти.
– Нет, ты скажи.
– Да простила. Пусти.
Он поднялся с колен. Хотел поцеловать её. Она увернулась.
– Значит, не простила.
– Ну ладно, всё, хватит.
– Когда увидимся, хоть скажи?
Полина нахмурилась.
– Тебе когда на сессию?
– Через неделю.
– Тогда после сессии.
– А не обманешь?
Она в нетерпении покачала головой и, высвободившись из его объятий, избегая встречи взглядом, вышла из номера.
Пока застилал постель, одевался, запирал номер, спускался вниз и отдавал понятливо улыбающейся хорошенькой дежурной ключ, думал. Неужели она права и всё оттого, что с детства привык заглядываться на красивые лица? И тотчас потянуло одно воспоминание за другим. Красавица, плюнувшая ему, отроку, у совхозного клуба в лицо; школьные поклонницы его газетного таланта; рыдавшие над его глупыми рассказами про несчастную любовь «динамовки»; уродливой полноты женщина с завода, в которую влюбился за одно красивое лицо; такая же смазливая санитарка с кривыми, как у кавалериста, ногами; Полина, инопланетянка-Болотова, Танюха, Лариска; старообразная спортсменка и отвергшая его ухаживания Алёнушка из Белогорска; длинноногая красавица Веруня; соседка из села Степнова, последней близости с которой помешал пьяный начальник участка, – и, наконец, Настя. Так неужели же это не поиски единственной? Неужели она права? Да нет же, нет, он по-прежнему любит только её, только Полину, а то было так, от безысходности…
И Пашенька?.. И кто же тогда – судьба?
И только чтобы не думать об этом, сердито отмахнулся: «Да мало ли что в ревнивую женскую голову взбредёт!»
А на сессии чуть было не закрутил с дагестанской княжной, как её звали на курсе. Две сессии подряд казавшаяся гордой и неприступной, всегда подтянутой, одетой с иголочки во всё чёрное, она первая выделила его из остальных «жеребцов». И тут же превратилась в его, книжного червя, глазах в печоринскую Бэлу. Что-то звериное, жуткое, от дикой чёрной кобылицы было во всём её облике, в стремительной походке, порывистых жестах, ослепительном оскале крепких зубов, магическом омуте чёрных глаз, в хищной улыбке. Тем более что Кавказ для него был натуральным средневековьем. И только не понять, что такое с ней, гордой замужней женщиной патриархального востока, могло произойти, что решилась она променять своего джигита на человека презренной равнины. А потом её соседка по комнате шепнула по секрету: муж ей изменил, и она поклялась ему отомстить.
– А почему со мной?
– Ты ей понравился.
– А меня не зарежут?
– Не говори глупости.
Ну почему – глупости? Но если даже не зарежут, сгореть в испепеляющей страсти такой женщины было равноценно кинжалу в сердце. И потом, кто её знает («Восток – дело тонкое»), вдруг привяжется до такой степени, что возьмёт и сама зарежет. А если не сама, так натравит кого-нибудь из многочисленной родни – или женись, или умри, несчастный. Было во всём этом, конечно, больше необузданной фантазии, чем реальной опасности, и всё-таки к стремительно бурному, как горный поток, сближению не торопился, тянул, увиливал, отговаривался мелочной занятостью и всё же не смог увернуться от прощального, как бы дружеского, однако насквозь прожегшего поцелуя в щёчку. Для завершения истории не хватило буквально нескольких часов. А потом, лежа в ночном поезде на верхней полке, он изводил себя соблазнительными картинами преступной близости.
По возвращении домой две недели подряд ездил в почтовое отделение, но Полина молчала, и как это понимать, Павел не знал. Другого вида связи не было, где Полина жила, он не знал. Разыскивать через бывшую подружку-соседку тоже не решился – как бы и то, что есть, не испортить.
А в конце сентября была свадьба Игоря Тимофеева. Как и полагается работнику общепита, гуляли в ресторане, только не в том, где он работал замом, а в другом, поскромнее.
И хотя рядом была жена, хватив лишнего, Павел умудрился прихлестнуть за свидетельницей. Специально исчезая перед началом каждого танца, он дожидался в коридоре, когда Настю кто-нибудь из гостей пригласит, и, войдя, с напускным неудовольствием глянув на танцующую жену, как бы назло, в отместку, шёл приглашать свидетельницу. И заговорил её до того, что она не сводила с него восторженных глаз. Что его к ней, не особо видной, потянуло, объяснить бы не мог. Вернее, мог, но только не своими словами, а их он категорически отрицал. И потом, что тут такого – потанцевать, поболтать, подержаться за чужую талию?
Но этим не кончилось. На следующий вечер избранной компанией кутили на даче. И ему даже самому было стыдно вспоминать, как, опять набравшись, он стал искать удобного случая, чтобы только оказаться наедине со свидетельницей, а когда Настя догадалась об этом и стала выговаривать ему, благородно оскорбился и в знак протеста ушёл бродить по непроглядной тьме обширного садового участка. На крыльце чужого домика, прислонившись головой к перилам, даже уснул. Разбудила Настя. Увела в дом, уложила на кушетку, в знак примирения поцеловала.
На другой день, на трезвую голову, в интимной компании, в мансарде, он читал главы из своей новой повести. Игорь сидел в обнимку с женой на кушетке, Настя – в кресле-качалке, он – на полу. Собственно, Игорь и попросил прихватить рукопись – не всё же вино пить. И, может быть, только им двоим чтение это доставляло ни с чем не сравнимое удовольствие. Сам Игорь так писать не умел, зато имел редкое свойство, которого Павлу явно недоставало, – ценить прекрасное у других, хотя однажды по поводу рассказов Игоря Николай Николаевич выразился, хоть и бледненький язык, да свой. Самому Павлу он никогда ничего подобного не говорил, и его долгое время мучила мысль о том, что он собственного языка не имеет. Как-то в подтверждение его догадки Николай Николаевич даже спросил: «Не писал раньше стихов?» И когда он подтвердил, ответил: «Это заметно». А хорошо это или плохо – не сказал. Положим, он и сам понимал, что каждую новую вещь пишет как бы заимствованным у кого-то стилем, во всяком случае, нельзя было сказать, что говорит собственным языком, в лучшем случае, поёт, и, может быть, даже не свои, не близкие душе песни. Не поэтому ли до сих пор рассказы его заворачивали журналы? Будучи безупречными по стилю, они были вторичны по содержанию. Да он и сам это прекрасно понимал, оправдываясь тем, что до поры до времени бережёт главную тему, на самом деле, имея такой эксклюзивный материал, просто не в состоянии был им пока овладеть. Впрочем, это разговор длинный и не всем интересный, хотя довольно часто они заводили его с Игорем. И нередко доходило до крика, до взаимной неприязни, но чем больше узнавали друг друга, тем больше понимали, что существовать в литературной стихии друг без друга не могут. Тимофеев был первым, с кем свела в литобъединении судьба. Павел хорошо помнил, когда появился этот с иголочки одетый, тщательно выбритый молодой человек, какое жадное любопытство вызвали у него принесённые им для прочтения рукописи. Не успел Николай Николаевич спросить: «Кто возьмёт?», как Павел тут же подскочил: «Можно мне?» А вскоре и другие прозаики появились. Не закрывающая рта, вечно улыбающаяся учительница Задирская, по школьной привычке, казалось, затем только и приезжавшая из района на занятия, чтобы всех учить («Как тебе не стыдно? Да разве так можно? А если детям в руки попадёт?»); работавший под Шукшина строительный прораб Труфанов; перепутавший физику с лирикой радиоинженер Лёвченко. Про Аляпышева, сорокалетнего кочегара школьной котельной, написавшего толстый роман про войну, на которой никогда не был, без улыбки вообще говорить было не возможно. Когда Николай Николаевич однажды устроил встречу со своим первым наставником в литературе, ещё по речному училищу, местным классиком, ввиду разоблачения культа личности основательно забытым и доживавшим последние годы в нищете, хотя один из его рассказов даже вошёл в школьную хрестоматию и назывался «Вешки», Аляпышев задал сразивший всех наповал вопрос, над которым потом долго смеялись: «Скажите, а нет ли у вас таких мыслей (ударение на последний слог), чтобы передать кому-нибудь свой недописанный роман (двадцать лет, по собственному признанию, автор над ним работал и всё никак не мог закончить), чтобы тот довёл его до завершения?» На что, с недоумением глянув на Николая Николаевича (он это серьёзно?), забытый классик ответил: «Я бы тогда уважать себя перестал». И это всё, что смогла произвести из литературных дарований область размером с Францию. И всё-таки, несмотря на все неудачи, кроме очерка о старателях, разумеется, который Павел и за литературу не считал, был у него конёк, который он никому, кроме Трофима Калиновского, пока не показывал, – тайно хранившаяся у родителей, написанная собственной кровью, но ни в жизни, ни на бумаге пока ещё не доведённая до логического завершения повесть о привередливой красавице Полине.
И так прошёл ещё месяц. Полина по-прежнему упрямо молчала.
А десятого ноября случилась история, поначалу развеселившая, а потом заставившая задуматься. В тот день к нему в пожарку, как к писателю, а стало быть, человеку, понимающему народное горе, только догадался он об этом не сразу, заглянула степенная пожилая женщина и, присев напротив на стул, сказала со слезами:
– Брежнев умер.
– И что?
– Война будет.
Он посмотрел на неё в удивлении. И после её ухода некоторое время ухмылялся, пока не понял, почему именно к нему эта совершенно чужая (ни родня, ни знакомая) женщина с таким народным горем пришла. И на писательство своё совершенно с иной точки зрения глянул.
На смену никем и ничем не владевшим в последние годы Брежневу пришёл ортодоксально настроенный Андропов, и по этому поводу у них с Игорем Тимофеевым состоялся любопытный разговор. Игорь показал как-то общую тетрадь с вклеенными вырезками из газет. Под каждой вырезкой рукой хозяина чернилами были подписаны название газеты и дата. Была прослежена официальная информация о скоропостижных (после вспышки внезапной болезни, в результате несчастного случая и так далее) смертях высокопоставленных лиц государства. В 1976 году, например, ушли министр обороны Гречко, секретарь ЦК КПСС Кулаков. Спустя год место секретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству занял некий Горбачёв. В 1980 году в автомобильной катастрофе на сельской дороге погиб Машеров, которого рассматривали как одного из возможных преемников Брежнева. Внезапно умер после прогулки на байдарке Косыгин. В начале января 1982 года скоропостижно скончался Суслов, место которого, оставив должность руководителя КГБ, сразу же занял рвущийся к власти для поправления запущенных государственных дел Андропов. 19 января 1982 года застрелился первый заместитель Андропова Цвигун, женатый на сестре жены Брежнева. Ходили слухи о покушении на члена Политбюро, первого секретаря Московского горкома партии Гришина. Имелись в тетрадке вклейки с информацией о гибели в катастрофах или смещении с должностей по затеянным КГБ делам фигуры более мелкие, руководители краевого и областного масштаба, на что Игорь заметил, что этим, видимо, не кончится, поскольку Андропов серьёзно болен и долго не протянет. Павел сказал, что ребята в литинституте под пьяную лавочку поговаривали даже о новой революции. Однако Игорь категорически эту версию отмёл: «Какая революция? Идёт смена поколений. И это правильно. Нельзя же, в самом деле, чтобы, как в анекдоте, государством правили насельники дома престарелых». «И что по этому поводу думаешь?» – «Думаю, пойдёт в сторону улучшения климата». «В смысле?» – «К расширению свобод». «Перестань!» – «Поживём – увидим». А по большому счёту, в отличие от Игоря, Павлу на всё это было глубоко наплевать.
А потом опять заболела Даша. И ему бы самое время задуматься над словами матушки Олимпиады, что причина болезни дочери – он, а на него очередное умопомрачение нашло, и вовсе не из-за молчания Полины, как он это себе пытался объяснить. На этот раз – на танцах. И вроде бы эту вчерашнюю школьницу он и раньше много раз видел, поскольку жили они в одном совхозе, а тут словно увидел впервые – гадкий утёнок неожиданно превратился в прелестного лебедя. И до половины вечера с высоты эстрады за ней, как ворон, наблюдал, а потом пригласил на танец. Откровенно польщённая вниманием (не кто-нибудь, а сам маэстро из такой огромной толпы выделил!), во всё время танца она перед ним робела. И, хотя прекрасно знала, что он женат, что у него дочь, всё-таки согласилась пойти с ним в драмтеатр. Договорились в пятницу, после занятий в институте, в который она только что поступила, в 16–00 встретиться у входа. Не беда, что начало спектакля в 19–00, посидят в каком-нибудь кафе. Чего ему от неё было надо, догадаться не составляло труда. Нельзя же, в самом деле, жениться на всех подряд или творить беззаконие из одной лишь мести? И тем не менее он в очередной раз попытался обвести вокруг пальца совесть, потому как, если по совести, раз уж не любит жену и окончательно отказалась от него Полина, с самого бы главного и начать разговор, а он опять завёл о литературе. Удивительно, но и на этот раз сработало. И как после этого не хотеть стать писателем? Впрочем, метод этот был испытан им ещё со школы и всегда действовал безотказно.
Однако на сей раз получилось нечто совсем неожиданное. Не дождавшись её у драмтеатра, он вернулся в совхоз и уже в полной темноте, весь продрогший на холодном ноябрьском ветру, перехватил её, идущую от автобусной остановки к дому. На вопрос, почему не пришла, она ответила, что подумала и решила чужую семью не разбивать. Задело. Но совершенно другое место. Гляди, какого она о себе мнения! Да он ещё ничего и не предлагал! Больно надо!
И он бы в очередной раз, как насморком, переболел и забыл, да перед самым Новым годом случайно встретился с ней в Доме учёных, куда, несмотря на данное обещание, в литобъединение всё-таки заглянул, хотя и по делу – очерк о старателях, промурыжив столько времени, всё-таки приняла «Ленинская смена», но понадобилась вступительная статья, и надо было переговорить по этому поводу с Николаем Николаевичем. Так вот после занятий, из любопытства (это ещё что там за шум?) заглянув с Игорем Тимофеевым в соседнюю аудиторию, увидел её в весёлой институтской компании, отмечавшей наступающее торжество. Собственно, никто их сюда не звал, но так уж получилось: стоило им заглянуть, как тотчас нашлись общие знакомые. Тимофеева тут же узнал и пригласил бывший однокашник по институту. К Павлу, разумеется, пьяная, как сумасшедшая, завизжав от радости и выскочив из-за стола, уронив попутно пару стульев, подлетела она, обняла и при всех впервые чмокнула в губы. Ошалевшего от таких нежностей потащила под заведённую магнитофонную запись танцевать, и во время танца, ещё несколько раз, словно хвастаясь перед кем-то или задирая кого-то, порывисто целовала в губы, а потом стала требовать увезти домой на такси.
– Иди, поймай.
– Где я его в такое время поймаю? Если уж так хочется на такси, давай доедем трамваем до вокзала, а там возьмём.
Согласилась. Но стоило им спуститься вниз, в гардероб, следом сбежал молоденький не то аспирант, не то студент с курса повыше, и попросил её отойти с ним на пару минут и что-то убедительно пытался вдолбить в её пьяную голову. Она отчаянно мотала ею, не соглашалась. И тогда он, обронив: «Смотри, пожалеешь!», ускакал через две ступеньки наверх.
Она пошевелила извилинами и стала снимать пальто.
– Я остаюсь.
Павел не очень и огорчился: понятно – спектакль. Ей захотелось – он подыграл. И, дождавшись Игоря, вместе с ним вышли в вечернюю тишину зимней улицы.
Но этим не кончилось. Когда они с Игорем, погуляв по нарядной от новогодних гирлянд, окутанной морозной дымкой Большой Покровке (тогда Свердловке) подошли к остановке трамвая, опять подскочила она, подхватила под руку, стоявшей у фасада ДК имени Свердлова толпе махнула рукой: «Пока!»
– И что это значит?
Спектакль этот стал Павлу уже надоедать.
– А то… а то, что я поеду с тобой!
Он со сдержанной досадой процедил сквозь зубы:
– Ну-ну…
И через пять минут они вдвоём поднялись в подошедший трамвай. Затем он её, засыпавшую на ходу, через всю привокзальную площадь, длинный подземный переход дотащил до вагона электрички, усадил у окна и почти на руках вынес на станции «Доскино».
Однако стоило им спуститься с перрона, её начало выворачивать наизнанку. Чтобы привести её в чувство, он стал растирать ей сухим снегом виски, щёки. Не понимая, что с ней происходит, она пьяно отмахивалась, что-то невнятное буровила, но трезвее не становилась.
Было уже поздно – приехали они на последней электричке, надо было идти домой, а это полтора километра пути по морозу. О том, чтобы оставить её одну в таком состоянии, не могло быть и речи, но и тащить на себе это чучело не то что бы тяжело, а в высшей степени неприлично. Стоит одному увидеть – и тут же разнесут по всей округе, и поди докажи потом, что ничего у тебя с этой идиоткой не было. Однако же и деваться было некуда.
И, подняв её на ноги, закинув одну руку на плечи, другой поддерживая за талию, поволок её, едва переставляющую ноги, сначала вдоль высокой платформы, потом через пути, а затем по освещённой лишь у Горбатовского клуба улице Школьной, той самой, по которой по возвращении с первого сезона шли они когда-то с Полиной.
Возле поворота забора совхозного сада он остановился. Безопаснее всего было идти вдоль сада, но для этого надо было бы идти по сугробам. И тогда, прислонив её к забору, он опять стал растирать снегом её лицо. И на этот раз, хоть и не сразу, добился результата. Она стала приходить в себя. Наконец узнала его. Удивилась. Спросила, осовело глядя по сторонам и ничего не узнавая, где это они и как тут очутились? Когда он втолковал ей, что от самого Московского вокзала волочёт её на себе, виновато выдохнула вместе с винным перегаром:
– Да-а? Спаси-ибо.
– Носи не стаптывай! И кто это был?
– Где?
– На вечеринке.
– Не знаю.
– Не знаешь, а чуть было с ним не осталась, не окажись я на трамвайной остановке.
– А-а.
– Вспомнила? А как меня при всех целовать кинулась, помнишь?
– Я тебя целовала?.. Ах, да…
– И что это значит?
– Ну я не знаю… смотрю – ты… я так обрадовалась, – не подымая глаз, замямлила она.
– И всё?
Она умоляюще застонала:
– Ну ты же всё понимаешь. Давай не будем?
– Хорошо. Только дальше пойдёшь сама. Сможешь?
– Попробую.
Она ступила шаг, другой, пошатнулась, но не упала и так, пошатываясь, пошла. Он, на значительном расстоянии, шёл сзади. И таким образом, с остановками, с падениями, вставаниями и отряхиваниями, дошли до совхоза и, будто ничего между ними не было, разошлись по разным сторонам.
А через два дня наступил новый, 1983 год. Поскольку пришёлся он на пятницу, играли четыре вечера подряд – 31-го, 1-го, 2-го и 3-го. Первый, как обычно, – заказной для рабочих и служащих совхоза по специально подготовленному сценарию, с накрытыми столами; в остальные дни – для всех желающих, но тоже с играми, хороводами, занимательной лотереей. И всё было бы просто великолепно, да очередной волной подхватило его.
4
Для музыкантов и их жён по обычаю выделили два отдельных стола у огромного окна, в которое чуть не до середины вечера глазасто смотрела сквозь неплотно сдвинутые шторы сопливая совхозная детвора. Чтобы не привлекать внимания с дороги и подчеркнуть, что клуб для посторонних закрыт, на протяжении всего вечера в фойе не включали свет, но и того, что проникал с улицы, было достаточно, чтобы не перепутать двери в туалет и найти место для курения. Высоченную нарядную ель после детского утренника с середины зала переместили в угол, и всё равно была она главным украшением и центром внимания на протяжении всего вечера. Под ней, за отдельным столом, расположились ведущие. Напротив высокой эстрады оставили место для танцев. Всё остальное пространство занимали обычные общепитовские столы, за которыми сидели по четыре человека. Во время всего вечера над головами танцующих и сидящих поблёскивали подсвеченные цветомузыкой ёлочные шары, разноцветные блестящие игрушки, серебряный дождь, нанизанная на нити вата, вырезанные из бумаги снежинки. Вместо люстры по стенам мягко светились бра, отчего создавалась такая интимная атмосфера, что не одного Павла подхватило.
Если бы на месте Насти оказалась видевшая его насквозь Полина, она бы сразу обо всём догадалась и, может быть, прямо в глаза, как в последнюю встречу, сказала: рыбак рыбака видит издалека. Но Настя… Видимо, Пашенька была права, когда уверяла, что она любви его больше, чем он думает, достойна, только он этого ещё понимать не хотел. Но была и видимость причины, подтолкнувшая к вакханалии, – вопреки его настоятельной просьбе Настя облачилась в декольтированное платье и туфли на высоченных шпильках. И так-то они были почти одного роста, а тут она вознеслась над ним чуть не на пять сантиметров. Почти как Веруня тогда. Но одно дело свободная, как ветер, длинноногая красавица Веруня, другое – законная жена. Он даже поинтересовался:
– И перед кем красоваться собралась?
Настя, разумеется, огрызнулась:
– Ну ты же красуешься каждые танцы перед всеми.
– Я-а красуюсь?
– Ты.
– Хорошо. Иди. Но танцевать я с тобой не буду. Ещё не хватало народ смешить.
– И не танцуй. Подумаешь. И без тебя охотники найдутся.
– Ну-ну.