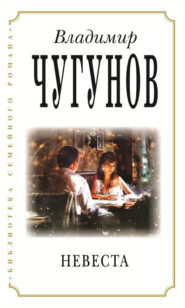скачать книгу бесплатно
– А знал бы ты почему… – Катя выразительно посмотрела на сестру. Пашенька сердито надула губки и отвернулась. Илья в недоумении посмотрел на обеих по очереди. – Но мы умные, – с тою же загадочностью прибавила Катя, продолжая смотреть на сестру. – Так?
С усилием над собой Пашенька кивнула.
6
В прихожей их застал телефонный звонок. Звонил Савва Юрьевич, спрашивал Пашеньку. Катя устрашающе округлила глаза, передала трубку сестре и ушла следом за мужем на кухню.
– Вы знаете, что напечатали в «Правде»? – до таинственности понизив голос, спросил Савва Юрьевич.
– Что?
– Нетелефонный разговор… Шутка! В субботу моя премьера в театре. Придёте?
– Мы в субботу едем в Лавру.
– Это… в Загорск?
– Да.
– И что там – в этой Лавре?
Пашенька ответила.
– А на завтра какие планы?
Пашенька сказала, что намечается визит к матушке Олимпиаде.
– Той самой?
– Да.
– А мне можно?
– Я спрошу.
– Спаси-ибо! Вот спасибо!.. Ну, а в воскресенье?
Пашенька доложила, что намечается на воскресенье.
– И где?
– На Антиохийском подворье.
– В котором часу?
– Пока не знаю.
– Эх, тоже, что ли, сходить?
– Приходите.
– Тогда и увидимся?
– Да.
– А да – это что значит?.. Только поймите меня правильно. Да – это что?
– Не то, что вы думаете. Спокойной ночи, – и положила трубку.
Когда пришла на кухню, Илья с Катей сидели за столом. Илья с аппетитом ел холодец и увлечённо рассказывал:
– Василий Чекрыгин как-то написал Михаилу Ларионову, эмигрировавшему в Париж, что, несмотря на неустроенность, голод и нищету, он всё-таки рад, что дома. И ещё, на мой взгляд, очень важное прибавил: «Жена у меня любимая»… У меня, кстати, тоже! – И в знак благодарности тронул Катину руку. – Была у них дочь, а умер в двадцать пять. В двадцать пять! Представляешь? Был в близких отношениях с Маяковским, Есениным, Натальей Гончаровой, Николаем Чернышовым, Сергеем Герасимовым. Его светоносные листы, на которых бродят какие-то контрасты масс, полны молодой смятенностью чувств, монументальной масштабностью – когда белое пятно бумаги превращается в осязаемый цвет, излучающий рембрандтовское золото. А сколько лет будоражат сердца его фоны, где что-то такое копошится, рождаясь, формируясь и выдвигаясь на зрителя, образуя массы, а затем и образы! И вот что я по этому поводу думаю. Погоня за цветом порою доводит до абсурда художественных решений. Если провести аналогию со словом, Кожинов в одной из своих статей называет поэзию Рубцова «стихией света», уверяя, что его северные пейзажи характерны неуловимым скольжением солнечных лучей откуда-то с края земли, и утверждая, что Рубцов в наши дни – это прежде всего откровение о свете. Чёрное и белое выступают у него не как цвет, а как свет, как постижение природы тьмы и света. Понимаешь? Белый, например, – это сияние какой-нибудь звезды… «В комнате моей светло. Это от ночной звезды». И белизна церквей. «Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей». Даже грусть у него светлая. «Светлеет грусть, когда цветут цветы, когда брожу я многоцветным лугом один или с хорошим давним другом, который сам не терпит суеты». Удивительно!
– Хорошо ты говоришь, – вздохнула Катя. – Сидела бы да слушала, но что-то доченька наша разбуянилась. И ворочается, и ворочается! Извини, пойду. А вы посидите, поговорите, – прибавила она не без цели.
– И я бы легла, Кать, да… – глянула Пашенька на груду грязной посуды в раковине.
– Идите-идите, я приберу, – тут же заверил несообразительный Илья. – Спокойной ночи!
Перед тем как разойтись по комнатам, Катя не упустила случая напомнить:
– Я на тебя надеюсь, слышишь?
Пашенька послушно кивнула и, пожелав Кате спокойной ночи, ушла к себе.
Однако, войдя, свет включать не стала – и так всё было видно (уж эти первые этажи!), – а, подойдя к окну, долго смотрела на тихий пустынный двор. Думала. И, конечно же, о Павле, а также о том последнем письме, которое «отправила» ему вчера. Как и все остальные (довольно много накопилось их за столько лет), лежало оно теперь в подаренной бабушкой Таисией старинной, запиравшейся на ключ шкатулке. Пашенька никогда их не перечитывала. И вовсе не потому, что не хотелось, а просто дала слово, когда придёт время, будет читать их вместе «с ним».
Чтение это она представляла себе чем-то вроде счастливого семейного досуга. И воображала примерно так: в их уютном домике (почему-то всегда воображала свой дом) по-вечернему тихо, на улице бушует вьюга, а у них тепло, потрескивают в печи дрова, и они, сидя в креслах, читают её письма. Время от времени она дополняет их своими рассказами, и ему, как в той песне, которую пел на прощальном вечере перед отъездом в Белогорск, «трудно рассказать, как до этих дней жил на свете» он «без любви» её, и самым ужасным, конечно, было то, что все эти годы «с кем-то проводил дни и вечера». Да, это было ужасно и даже очень обидно, но всё это она ему заранее простила… И вдруг так прозаично рухнула её мечта.
Пашенька отошла от окна, разобрала постель. Затеплила лампадку и, опустившись на колени, кратко помолилась. Она не удивилась тому, что в молитве не было прежней сердечности. Столько всего пережить – какая может быть после этого сердечность? И если бы не эти странные, а может быть, специально произнесённые «вроде как», наверное, было бы совсем тяжело.
По окончании молитвы Пашенька разделась и легла. И лежала без движения долго. И долго не могла уснуть. Ни о чём вроде бы уже не думала, а сон всё не шёл. И когда наконец, поднявшись, подошла к письменному столу и глянула на стрелки будильника, ужаснулась – было без четверти три. И это притом, что завтра (вернее, уже сегодня) она собиралась ехать на службу, а тут ещё выяснилось, что и будильник не завела.
Закрутив до упора барашек пружины зуммера, Пашенька забралась под одеяло и закрыла глаза.
7
Первое, о чём спросил себя Павел, войдя в комнату студенческого общежития, – что произошло?
Впервые был в церкви? Пожалуй… Если не считать того праздного любопытства, с которым во время венчания двоюродного брата Серёжи Кашадова (того самого, что некогда считал дурами всех без исключения, как выражался, «баб», и тем не менее женившегося) он рассматривал иконы и фрески небольшой Карповской церкви – одной из трёх чудом уцелевших некогда за чертой города, а теперь вошедших в городскую черту церквей. В трапезной как на армейском плацу, в три шеренги выстроили около сорока пар, и хор до умопомрачения долго повторял и повторял одно и то же: «Исаие ликуй! Дева име во чреве. И роди сына Эммануила. Восток имя ему…» И Павел всё не мог понять, какое дело до происходящего какому-то Исаии и почему какого-то Эммануила называют Востоком? А одна невеста даже упала в обморок. Но главное даже не в этом. Какою-то гоголевскою жутью опахнуло его при входе в храм и не отпускало всё время венчания.
Тогда, по-прежнему упорно продолжая ничего не писать и не читать, он не отвечал и на всё реже приходившие письма от Пети с Трофимом и, чтобы унять сосущую сердце тоску, все вечера напролёт пропадал в совхозном клубе, стараясь поднять на должную высоту исполнительское мастерство так и не решившегося без него начать своё самостоятельное шествие вокально-инструментального ансамбля «Пульсары». Церковь в его сознании тогда ассоциировалась исключительно с одними если не выжившими из ума, то совершенно безграмотными, вроде бабушки Фроси Кашадовой, старушками. Бабушка Поля, похоже, была не религиозной. Во всяком случае, при посещении Мариуполя-Жданова никаких признаков её религиозности они с Аркашей не заметили. И погибший в политруках дедушка, и его умерший недавно брат, председатель облисполкома, Герой социалистического труда (в честь него была даже названа улица в городе), были людьми партийными, а стало быть, убеждёнными атеистами. Об отчимовой, умершей, когда ему было лет десять, бабушке Павел тоже ничего определённого сказать не мог. Вроде бы остались после неё какие-то хранимые в фамильном сундуке иконы, но что они из себя представляли, не только не знал, но даже никогда не интересовался. Да и разговоров на эту тему между родителями никогда не заходило. Крашение же яиц и повальное хождение на Пасху на кладбище за совхозной механбазой было до того обычным явлением, что, кроме очередного удовольствия покатать с шиферных обломков яйца, ни с чем иным в сознании праздник этот не ассоциировался.
И так было тогда. Казалось, ничего не изменилось и потом, когда наконец всё кануло в безвозвратное прошлое и вроде бы навсегда улеглась сердечная боль, и он считал себя совсем другим человеком: пишущим, думающим, постигающим глубинный смысл русской культуры.
Что же произошло сегодня, когда, всего лишь за компанию войдя с ребятами в храм, продолжая видеть, казалось, уже ничего не видел?
И в этом странном ослеплении прошёл целый день.
Затем – мастерская, разговоры, бурные откровения Щёкина, когда, попрощавшись с остальными, они шли пешком безлюдными узкими улицами и переулками. И так дошли до бывшего Рождественского монастыря, вошли в арку, по искрящемуся снежному пуху пересекли слабоосвещённую пустынную территорию с обезображенным собором, через пролом в монастырской стене, по скользкой лестнице спустились к Сретенскому бульвару и, поднявшись вверх, очутились у занесённых снегом Чистых прудов. Тех самых, кстати… Но теперь не об этом…
За белокаменным остовом ещё одной приспособленной под что-то «полезное» церквушки повернули налево и вскоре вышли к Садовому кольцу. Пересекли его и мимо подсвеченного фонарями действующего храма Ильи Пророка, как заметил, быстро перекрестившись, заранее переложив в другую руку гитару, длинноногий Щёкин, вдоль нескончаемого ряда витрин, вывесок, полуподвальных окон, мимо погасших ларьков «Союзпечати», спящих аптек, заваленных снегом скверов с чахлыми низкорослыми клёнами и высокими тополями добрались наконец до Елоховской церкви (где, оказывается, крестили Пушкина, а Щёкин ещё раз перекрестился), и только у «Бауманской» расстались.
«И что?» – с недоумением спросил он себя.
За окном в окружении серебряной вязи звёзд рубиново тлели дежурные огни Останкинской башни – той самой, откуда неделю назад транслировали «Новогодний огонёк», на котором Мулявин впервые исполнил задевшую за живое песню. Идя сквозь нарядно одетую толпу с дорогой акустической гитарой на шее, маэстро знаменитых «Песняров» пел:
Не обижайте любимых упрёками,
Бойтесь казаться любимым жестокими:
Очень ранимые, очень ранимые
Наши любимые.
Казалось бы, ничего особенного? И тем не менее даже после стольких лет жизни «без неё», «с другой», слова эти отозвались душевной болью.
«Буде лучше меня найдёшь, позабудешь, если хуже меня найдёшь, воспомянешь».
На этот эпиграф из «Капитанской дочки» Павел наткнулся совершенно случайно. Сидел как-то, перелистывая синенький томик уменьшенной копии академического издания пушкинской прозы, и над одной из глав прочёл это. Сначала машинально. Потом задумался. И, наконец, понял всё…
Почему, спрашивается, тогда не воспользовался случаем, который представился на одной из свадеб, где играли они с ансамблем, и гуляла вместе с мужем Полина? На что, как не на возможность возобновления отношений, намекнула она, когда, выдернув его из-за стола, куда присели они с ребятами перекусить, потащила под заведённую магнитофонную запись танцевать? И всё не о том, бесстыдно прижимаясь к нему в медленном танце, говорила. И говорила до тех пор, пока между ними не вклинился пьяный муж. Пришлось знакомиться…
Постой, как же его звали? Николай? Василий? Семён? Да не всё ли равно? Разговаривать с ним было не о чем, драться вроде бы тоже пока не из-за чего. Твоё сокровище? Да забери.
И только когда очутился за столом, понял, на что намекала, о чём так сумбурно говорила Полина. Муж у неё заводской начальник («весь в работе – совещания, заседания, командировки»), она домохозяйка («он настоял, незачем, говорит, тебе работать, дома сиди») и…
Даже если ничего предосудительного в этом наборе бытовых фраз не было, чем объяснить её поведение, когда, выйдя на улицу с ребятами покурить, как сумасшедшая, вдруг выбежала следом за ними она (якобы от страха, куда пропал муж) и пьяная, а значит, откровенно бесстыжая, изливая свою безосновательную тревогу, всё припадала и припадала в темноте к его груди головой, как бы ища у него утешения?
И, казалось бы, только и стоило шепнуть: «Где и когда?»
Так нет, не сделал этого! И даже знает, почему. Возможно, нет ничего нелепее подобного утверждения, но это была – не она. Той, которую он когда-то любил, в ней не осталось и помину или было так мало, почти ничего, что не из-за чего было начинать весь этот сыр-бор…
Почему же тогда так поразил, да что там, насквозь прожёг первый взгляд, когда, входя с мужем в фойе столовой, они на секунду замерли друг на друге глазами? Всего лишь мгновение, а он, почти как в день их первой встречи, как наверху буровой вышки замер от страха пред неизбежным падением в бездну. И всё же хватило самообладания не взглянуть «в ту сторону», как в автобусе тогда, больше ни разу, хоть и валилась куда-то во время пения душа. «Сижу тихонько я в стороне. Кричат им горько, а горько мне». Тем бы, наверное, и кончилось, кабы не взбеленилась, выбежав за ними на улицу, она.
И хотя ничего не произошло (тогда он не знал, что будет ещё одна, прошедшей осенью, встреча в школе), случай этот, засев в памяти, при очередной семейной ссоре бередил. А ссорились они последний год, с тех самых пор, как он стал ездить в литобъединение, постоянно.
– Я выходила замуж не за писателя! – в минуты гнева кричала Настя.
– А за кого – за музыканта?
За музыканта, оказывается, не выходила тоже.
– Неужели за старателя? – ехидно изумлялся он.
И тогда, заливаясь обидными слезами, Настя начинала некрасиво кричать:
– Ты до сих пор любишь свою Полину, а на нас тебе наплевать!
– Ананас – вещь прекрасная, но, уверяю тебя, он тут ни при чём. И если бы в том была необходимость, я бы женился на Полине, а я женился на тебе и думаю, этого достаточно, чтобы навсегда закрыть тему.
– Уж не хочешь ли ты сказать, что любишь меня?
– А ты в этом до сих пор сомневаешься?
– Клоун несчастный, у-у-у!
А вообще, ревновала она его ко всему на свете: к танцам, которые затеяли сразу же после того, как он, вернувшись в 1978 году с последнего сезона, в конце января следующего года женился, к концертной деятельности, до которой они, благодаря его настойчивости, всё-таки доросли, к свадьбам, на которые исключительно ради денег ездили играть практически каждую неделю по пятницам, и, наконец, к литобъединению, в которое, не удовлетворяясь игрой в ансамбле, но более из-за непреодолимой тяги к творчеству, он каждое воскресенье стал ездить в верхнюю часть города, в Дом учёных.
После пронзительного шума эстрады занятия в литобъединении казались чем-то вроде вожделенной дачной прохлады после угара раскалённых летним зноем городских улиц. А вскоре с радостью отметил, что не разучился, оказывается, писать. Мастерства, правда, как и прежде, и даже более, чем прежде, не хватало, но это же дело поправимое.
И каждую свободную минуту Павел читал или писал, сравнивал, снова принимался писать. Иначе, бился как рыба об лёд, а во время ссор выходило, что «у всех мужья как мужья, в выходные семьями в гости к друзьям ходят, детей в цирк возят, а она как мать-одиночка». В рукописи его, однако, заглядывала – нет ли чего про ту, прежнюю, – а порою ехидничала:
«Не понимаю только, как может такой плохой человек так хорошо писать?» И, пытливо заглядывая ему, как будущей знаменитости, в глаза, спрашивала: «Ты меня правда любишь? Нет, ты скажи – правда?»
И надо было сто раз заверить, что да. А ещё время от времени убеждать в правильности выбранного пути, иначе, мол, и жить не стоит, он, во всяком случае, не видит смысла.
Какой, спрашивается, в писательстве был смысл? В житейском понимании действительно – никакого, поскольку в большинстве случаев – это выпавшие зубы, испорченный желудок, несчастная жена, брошенные дети… Можно перечислять и дальше, но разве одного этого недостаточно, чтобы однажды взять и сказать себе: «Ну всё! Хватит!» – и, поломав карандаши (а он по-прежнему писал карандашами), заняться каким-нибудь «общественно полезным трудом»? Увы, не получалось. Взять хотя бы ту повесть, которую второй год не мог закончить. Только из-за одного начала, из-за одной фразы пришлось исчеркать практически три страницы, пока не вывел наконец:
«Сидя в пустом купе, они наслаждались сказочной тишиной совершенного одиночества».
И далее:
«И так всю короткую июльскую ночь до рассвета, залившего ярким солнечным светом купе. И весь оставшийся путь у обоих было такое впечатление, что едут они не в обыкновенный таёжный посёлок, а в какое-то волшебное царство, где всё не так, как на всей остальной планете.
И это впечатление не умалилось даже после того, как они вышли на низкий перрон с жалким обшарпанным деревянным вокзалом.
– Вот это да! – невольно воскликнул он, в восхищении оглядываясь вокруг.
Тайга была всюду, тайга была рядом, и притом такая, какую они и не видывали ещё. У подножия сопки ослепительно сверкала меж стволов лиственниц ленточка стремительной горной речушки.
– Я тебя так люблю! – сказала она, прижимаясь к его сильному плечу и, робко заглядывая снизу вверх в глаза, прибавила с извиняющимся вздохом: – Правда. Очень-очень!
Он бережно обнял её свободной рукой, как ребёнка поцеловал в голову и сказал, указывая на черневшую у берега крышу старого покосившегося барака:
– А там мы будем жить.
До обеда обихаживали жильё. Вынесли на улицу для просушки засаленный ватный матрас, валявшийся посередине комнаты среди смятых окурков, пустых водочных бутылок и пивных пробок с табачным пеплом. Обмели обернутым влажной тряпицей веником невысокие потолки с мотавшимся пустым патроном, протёрли выкрашенные грязно-зелёной масляной краской стены, вымыли рамы, подоконник, стёкла, вытертые до древесины полы. На окна повесили привёзённые с собой беленькие задергушки. На единственный стол выгрузили из огромного рюкзака посуду, кое-какие продукты. На электрической плитке в кастрюле вскипятили воду, принесённую из ручья, заварили чай, перекусили.
Когда высох матрас, застелили сколоченный им из старых досок, раздобытых в открытом настежь ничейном сарае, топчан. Ввиду отсутствия мебели комната больше походила на заброшенную гостиницу, чем на жильё новобрачных, а табуреты были такие ветхие, что на них страшно было сидеть.
– Ничего! – сказал он, легко поднимая на вытянутой руке за ножку табурет. – Я тут быстренько всё починю и налажу!
– Ты ведь меня не бросишь… здесь… одну, правда? – робко улыбнувшись, спросила она и прибавила, будто сама не могла в это поверить: – Ты даже не представляешь, как я счастлива!»
И так фраза за фразой, абзац за абзацем… И, спрашивается, в чём тут смысл? Абсолютно же никакого. А он всё шлифовал и шлифовал, оттачивая каждую фразу. Садился, например, в половине шестого после работы (когда ещё в механбазе шоферил) за письменный стол в свой уголок творить и до половины двенадцатого, а то и больше из того, что творилось вокруг, не слышал. И это в барачной четырнадцатиметровке, когда за спиной – детская кроватка, с хлопающим тебя по спине погремушкой младенцем, справа – окно в полстены, за ним – разложенный диван, сзади, через дощатую перегородку, – вдвое меньших размеров кухня, которая была и прихожей, и раздевалкой, с простецким умывальником за работающим, как трактор, холодильником. Туалет для взрослых находился на улице, вода – тоже. И это ещё не всё. У разведённой соседки слева под «Шизгару» чуть не каждые выходные отплясывают индийские слоны, отчего дребезжат стёкла и вздрагивает под локтями стол, а в длинном коридоре пролетарские дети визжат так, как будто за ними гоняется истопник совхозной бани дядя Вася Сакла. И как в такой обстановке… жить – понятно, а творить? Разве не настоящее это безумие? И притом добровольное?
Утешало, правда, что не один он такой, «не от мира сего», хотя от тех, кто пришёл на первое занятие литобъединения, за полмесяца не осталось и четверти. Поэты отсеялись сразу – руководителем оказался прозаик, а стало быть, в поэзии «ни бум-бум». И не только поэтому. Начал он (Николай Николаевич, по имени-отчеству) с того, что в первую очередь отбил совершенно естественное желание у молодых гениев (а молодые – все гении) хватать звёзды с небес. Так что вместо ожидаемых лавров выходил один кропотливый труд, а далеко не все к этому были готовы. Ради чего, собственно, труд? А жить когда?
Однако, как было сказано, нашлись товарищи и по вожделенному несчастью. Такие же одержимые. И одни писали много и неутомимо, другие – по чуть-чуть, по две, три странички. И если первые, приходя на занятия, не закрывали рта, вторые скромно сидели в сторонке и по большей части слушали, чем говорили. Так постепенно определялось, кто есть кто и что в литературном смысле из себя представляет. А вообще, любой пишущий вызывал у Павла жгучее любопытство и прямо-таки Робинзонову радость, встретившего Пятницу, ещё со школы. Но, к сожалению, и в литобъединении чаще встречалось либо продолжение той же школьной забавы – писание без определённой цели и смысла (хочу – и пишу или пишу, потому что нравится), либо более или менее сносное подражание очередному кумиру.
Параллельно текла порядком поднадоевшая эстрадная жизнь. Занятия музыкой «в свободное от работы время» радовали только на первых порах, когда вроде бы сносно стали получаться первые пьесы, когда же был отточен до автоматизма репертуар, захотелось гораздо большего, чем пьяные свадьбы и танцы, на которых проходила любая «лажа».