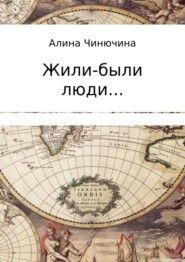скачать книгу бесплатно
Все четыре военных года мы с мамой прожили в небольшом городке, затерянном в удмуртских лесах. Нас эвакуировали из Москвы в октябре сорок первого – как раз тогда, когда ушел на фронт отец, врач-хирург, работавший в одном из военных госпиталей Москвы. Мама моя, терапевт, тоже получила повестку. Но девать меня было некуда, обе бабушки наши остались в захваченном Минске, и мама пошла к военкому. Подробностей я не знал, конечно, да и не интересовался по малолетству. Мне тогда все было игрой – и тяжелая, холодная дорога в санитарном поезде до Ижевска, и чужой город, и новое жилье. Только письмо из воинской части о том, что отец пропал без вести, разбили эту игру, превратили ее в жизнь, а слезы мамы навсегда развели в моем понятии слова «война» и «игра». С той поры я перестал играть во дворе с мальчишками «в войнушку».
В памяти остался песок под ногами, в который вгрызались приземистые березы и карагачи; высокое, бледно-голубое небо; улочки, ныряющие то вверх, то вниз – город наш лежал в долине меж двух холмов; крик воробьев в марте.
И голод.
Я быстро привык к маминым почти круглосуточным дежурствам в госпитале, к самостоятельному житью-бытью, к очередям, в которых мне надо было отоваривать карточки. Но привыкнуть к голоду не мог. Желудок постоянно сводило, и я тянул в рот все, что только попадалось на дороге – кислые яблоки-падалицы в городском саду, щавель у пруда, крошки на выцветшей кухонной клеенке… Впрочем, крошки эти чаще меня успевали слизать Лидка и Соня, соседские девчонки-погодки.
Нас с мамой подселили в деревянный двухэтажный дом, к тете Тоне Зайцевой. Дом был очень старым, за водой приходилось ходить едва ли не на край света – через две улицы, к колонке. Принесенных двух ведер хватало только сварить обед и ужин. Правда, невеселая эта доля легла сначала только на маму, но потом и я, подросший, подключался по мере сил к водным походам.
На втором этаже были четыре квартиры. Чтобы попасть в нашу, нужно было пройти по длинному скрипучему коридору до самого конца. Из трех комнат одну тетя Тоня отдала нам, в другой ночевала сама с погодками, а в третьей спал Вовка, старший ее сын. Сказать по совести, я сначала его побаивался – очень уж злым показался мне этот тощий хмурый мальчишка, старше меня аж на целых три года. Когда мы только поселились в доме, Вовка уже закончил третий класс, а потому смотрел на меня, дошколенка, с недосягаемой высоты своих почти десяти лет и школьной премудрости. Только потом я узнал, что на нем держится все хозяйство тети Тони, что он может и за девчонками приглядеть – Лидке тогда было два года, а Соне – три; что он добр и застенчив, и от застенчивости нелюдим. Но все-таки мы не смогли с ним подружиться – три года, незаметные во взрослой жизни, тогда, в детстве, барьером разделили нас.
А вот мама и тетя Тоня ладили отлично, несмотря на всю их несхожесть. Тетя Тоня работала штамповщицей на механическом заводе, эвакуированном в город, кажется, из Тулы. Невысокая, полная, краснолицая и белобрысая, она была внешне полной противоположностью моей худенькой, черноволосой маме. Тетя Тоня была шумной и залихватской, все наружу – смех ли, горе ли. Мама же все держала в себе, и даже о тяжкой ее усталости после суточных дежурств можно было догадаться лишь по запавшим глазам. Впрочем, обе они сходились в умении помочь кому угодно по первому слову да по горькой судьбе, обычной тогда у любой тыловой женщины.
Редкими свободными вечерами мама и тетя Тоня мирно возились в тесной кухоньке, опровергая известную поговорку о двух хозяйках у одной плиты, то есть печки. Мама ставила уколы часто болевшим хозяйским девчонкам, тетя Тоня в первую же весну оделила нас мешком семенной картошки, когда горсовет выделил эвакуированным участки под огороды. И очень часто, когда мама задерживалась в госпитале или оставалась на ночное дежурство, тетя Тоня кормила меня и укладывала спать, не отличая от своих детей.
Впрочем, обо всех этих взрослых делах и заботах я стал догадываться много позже, по маминым рассказам, по собственному опыту. Тогда, сказать честно, мне не это было важно. Большой старый двор, где летом можно было прыгать в классы, а зимой заливать замечательную горку. Озеро в центре города, в котором с мая по сентябрь бултыхалась вся местная ребятня. Парк, где так хорошо играть в прятки. Замороженные стекла окон – на них расцветали такие замечательные зимние узоры. Герань на подоконнике у тети Ани, соседки из квартиры справа. Злой и сварливый инвалид дядя Толя, муж тети Гали из первой квартиры. Свирепый пес Полкан, которого я потом приручил. А еще – школа, букварь, карандаши и непроливашка-чернильница, друзья-приятели, среди которых, увы, так и не нашлось одного настоящего, единственного друга. А еще – черная тарелка радио, сначала горько-жгучая, а потом все чаще взрывающаяся радостными залпами салютов. А еще – сверкающий солнцем и слезами отчаянный майский день сорок пятого. Вот что было тогда мне важно, а вовсе не взрослые заботы.
Одно только было общим для всех – голод. Судороги в желудке преследовали нас даже по ночам. И самым страшным событием? после, конечно, похоронки, была потеря продуктовых карточек.
Однажды утром тетя Тоня вернулась из ночной смены и не стала, против обыкновения, ложиться вздремнуть на час-полтора, а пошла на рынок. Кто-то сказал ей, что там с утра меняют женское белье на пять килограммов муки. Тетя Тоня уже три года бережно хранила подаренный ей перед самой войной мужем «гарнитурчик» – не поднималась рука продать, мужа ждала. Но, видно, не выдержала. Уже стоял июнь, старые запасы картошки подходили к концу, новых было еще ждать и ждать, и пять килограммов муки оказались бы весьма ощутимым подспорьем. Вовка, помнится, отправился в долгий поход за водой, а Лидка и Соня, уже пяти– и шестилетние, оставались на моем попечении. Мама моя вторую ночь дежурила в госпитале, и я втайне надеялся, что вот вернется Вовка, я оставлю на него девчонок, а сам сбегаю к ней. И, может быть, госпитальная повариха Клавдия нальет мне щедрой рукой миску такого замечательного, обжигающе горячего, ароматного кулеша.
Мы с девчонками вымыли оставшуюся от скудного завтрака посуду и решили пойти во двор поиграть. Конечно, мне было скучно с малявками, но все девчонки и мальчишки моего возраста с утра помогали по хозяйству или на огородах. Вольные дни школьных каникул в действительности бывали вольными далеко не всегда. Впрочем, мы привыкли к этому и иной жизни просто не знали.
Я расчертил мелом классы, Соня кинула камешки, и девчонки увлеченно запрыгали, шлепая босыми пятками по асфальту. Меня классики не интересовали, я остановился поодаль и лениво обозревал хорошо знакомые окрестности – сарай, в котором мы хранили дрова, пару хозяйственных построек неизвестного назначения, оставшихся, видимо, от прежних хозяев, три чахлых карагача, не дающих защиты от летней жары. Скучно. Вот вернется Вовка… задаст нам работу… или, что случалось гораздо реже, предложит мне пойти с ним на пруд. Скрипнули ворота, пропуская низенькую тети-Тонину фигуру. Девчонки заметили мать и с радостным визгом кинулись к ней. Подошел и я.
– Нету, – пожаловалась она, ероша волосы девчонок. – Вчера, оказывается, меняли, а сегодня – только на матерьяльчик. А где ж я матерьяльчик возьму, сами пообносились все.
Соня решила, что хочет пить, и ускакала вслед за матерью. Подумав, за ней ушла Лидка. Вернулся Вовка, опустил на землю налитые доверху ведра, пробурчал:
– Все руки, проклятые, оттянули…
– Пойдем на пруд? – предложил робко я.
– Не, – ответил Вовка, – огород полоть надо.
– А потом?
– Потом – посмотрим.
Он поднял ведра и тоже скрылся в подъезде.
Я пнул ногой камешек и подумал, не уйти ли в госпиталь прямо сейчас.
Страшный крик прорезал вдруг утреннюю непрочную тишину. В первый момент я даже не понял, что это крик человеческий, женский. Но он повторился, и я, похолодев, кинулся в дом. Одним прыжком взлетел по скрипучей лестнице, промчался по коридору. Крик доносился из нашей квартиры. Я толкнул незапертую дверь и ворвался в тесную кухню.
Тетя Тоня каталась головой по столу и стучала кулаками по коленям. Лицо ее, безобразно распухшее, корежилось плачем, черные провалы глаз сочились слезами, некрасиво морщился раскрытый рот, выталкивая из глубины придушенный голос:
– Кар-точ-ки… Карточки украли… Боже… карточки…
Вокруг тети Тони кругами ходил Вовка, тыча ей под нос кружку с водой и повторяя, как заведенный:
– Мам… ну мам… ну мам….
Лидка и Соня испуганно жались к стенам.
Хлопнула внизу входная дверь, проскрипела лестница. В кухню вошла моя мать, замерла на мгновение. И, сразу все поняв, бросилась к тете Тоне, сжала ее плечи, резко тряхнула:
– Тоня… ну-ка успокойся! Перестань! Володя, дай воды.
Тетя Тоня подняла разлохмаченную голову и закричала с ненавистью:
– Успокойся?? Как успокойся? Карточки! Все карточки! Месяц только начался, чем я их кормить буду, чем? Как жить будем? – она снова захлебнулась рыданиями. – Сумку порезал, гад, сволочь, я даже рожу его запомнила, фашист, подлюга!!
– Мам, – умоляюще сказал Вовка, – ну не надо, мам. Я работать пойду… – и, угловатый, неуклюжий, положил свою худую ладонь на раскосмаченную материну голову.
Тетя Тоня обхватила его обеими руками, прижала к себе и завыла – тяжело, уже без слез.
Мама торопливо шагнула в нашу комнатку, быстро вернулась с пузырьком – остро и сладко запахло валерьянкой.
– Вставай, – приказала отрывисто, жестко. – Пойдем в милицию, заявление напишем. Поймают они его, не плачь.
Тетя Тоня вскинула голову, и надежда полыхнула в ее глазах. Но тут же простонала:
– Как же, поймают! Жди. Ищи ветра в поле.
Все-таки она подчинилась, дала поднять себя, умыть, покорно причесалась и, вцепившись, как ребенок, в руку мамы, вышла с ней вместе
Тишина повисла в кухне. Соня и Лидка все так же жались друг к другу. Вовка сел на стул и вдруг выругался – тяжело, грязно, как взрослый.
Все мы, даже пятилетняя Соня, понимали, что значит потеря карточек. И никто не знал, что же теперь делать.
– Ладно, – сказал, наконец, Вовка и поднялся. – Пойду.
Он сменил рубаху на чистую, расчесался у обломка зеркала, достал из ящика комода свидетельство о рождении, а из шкафа – тяжелые осенние ботинки.
– Куда? – пискнула Лидка.
– На завод, – ответил он коротко и загрохотал ботинками по ступенькам.
Я молча сидел на полу. В голове билась только одна мысль: «Не со мной. Не с мамой». Стоило подумать, что мама могла бы вот так же биться головой о столешницу, как из меня начинали сочиться потоки слез, а горло забивало песком.
Сколько мы так сидели, я не помню. Соня и Лидка молчали. В раскрытое окно влетела огромная муха и с утробным жужжанием принялась носиться вокруг лампочки.
Снова застучали шаги на лестнице. Я втянул голову в плечи. Но это были не мама и не тетя Тоня. Шагнула в дверь почтальонша Надя, оглядела нас, спросила:
– Девки, мать где?
Девки дружно заревели.
– В милицию она пошла, – сипло объяснил я. – Карточки у них украли.
– Господи, – охнула Надя. Но – показалось ли мне или вправду в глазах ее мелькнуло облегчение? – Вот… Саш, письмо им. Отдай сам, ладно? – она вдруг всхлипнула и выскочила за дверь.
Я повертел в руке грубый прямоугольный конверт. Номер полевой почты был дяди Андрея, мужа тети Тони. Но фамилия отправителя стояла чужая, В таких конвертах приходили обычно похоронки.
Заледеневшими пальцами я положил письмо на стол. Внизу снова скрипнула дверь, слышен стал голос мамы. Я втянул голову в плечи и, закрыв уши ладонями, кинулся вон.
Ночью я проснулся от нестерпимой духоты. Сел, спустил ноги с кровати, помотал головой. Во рту было мерзко, голова болела. Прислушался. В квартире было тихо, но тихо как-то по-мертвому, даже сопения девчонок почти не было слышно.
Весь вечер в доме нашем царила суматоха. Тетя Тоня, увидев похоронку, упала в обморок. Мама не могла привести ее в себя минут пятнадцать. Девчонки, увидев желтое, застывшее материно лицо, дружно заревели. Вернулся с завода Вовка – злой, подавленный, его не взяли, конечно, лет не хватало. Одна за другой возвращались с работы соседи, узнавали, в чем дело. Тетя Аня принесла два килограмма пшена. Тетя Валя – огурцов с огорода. Даже прижимистый дядя Толя вынес из закромов с полкило сала, покрытого коркой соли. Мама отсыпала половину оставшейся у нас картошки. Тетя Тоня словно не видела всего этого. Она сидела на табурете, раскачиваясь из стороны в сторону, словно деревянная кукла, и по осунувшемуся лицу ее непрерывно текли слезы.
Я помотал головой и побрел в кухню. Глотнуть бы воды, умыться. Душно. Включил свет, дотопал до ведра с водой, зачерпнул от души. Мелкими глотками выпил степлившуюся воду, урча от наслаждения, присел к столу. На линялой клеенке лежал листок бумаги. Я развернул его.
– «Люди, простите меня, – ударили в глаза неровные строчки. – Все одно с голоду помирать. А так хоть детей в детдом возьмут, кормить-одевать станут. Деточки мои, простите меня. Так будет лучше. Антонина».
Я заорал и кинулся в комнату. Мне вдруг показалось, что это мама написала мне это письмо. Я схватил ее за плечи, затряс бешено. Мама проснулась, села на кровати, сонно спросила:
– Санькин, ты чего?
Тетя Тоня повесилась в сарае, где хранились дрова. Когда всполошенные моим криком соседи, обыскав двор, вынули ее из петли, она еще, хоть и слабо, дышала. Нас, детей, туда не пустили. Спустя какое-то время носилки с вытянувшимся на них телом затолкали в карету «Скорой помощи». Соня и Лидка выскочили во двор и с плачем кинулись за машиной. Вовка перехватил их у ворот, обнял, прижал к себе, спрятал лицо в их светлых легких волосенках.
Я дотянулся до шкафа, в котором мама хранила крупу и хлеб, достал горбушку, предназначавшуюся мне на утро. Медленно спустился во двор, чувствуя, как наполняется слюной рот, подошел и спросил тихо:
– Жрать хотите?
Соня и Лидка перестали плакать, одновременно кивнули «Да». Вовка, в один такт с ними, покачал головой: «Нет». Я протянул им горбушку.
Вовка мотнул хлеб на ладони, вздохнул и ловко и умело разломил на три совершенно равных части. Две протянул сестрам, одну мне. А сам аккуратно и быстро слизал с ладони несколько оставшихся на ней крошек.
19.02.2007.
Иван да Марья
Ох, и красивая же была это пара – Иван да Марья. Точно из русских сказок пришедшая, из тех далеких времен, где древняя Русь водила хороводы вокруг своих костров. Они и похожи были на картинки из детской книжки: высокий, синеглазый, широкоплечий Иван с льняными кудрями и маленькая сероглазая Марья с толстой русой косой, предметом зависти и ровесниц, и женщин постарше.
Ее так и звали все – Марья. Не Маша, не Манька и не Маруська. Даже девчонкой она выделялась среди сверстниц – спокойствием каким-то, немногословностью и рассудительностью, совсем не детской прямотой. Как глянет на тебя огромными глазами – всю душу, кажется, вывернет, все до глубины поймет, до донышка. Недаром мачеха ее ведьмой звала, но не ударила ни разу, даже не замахивалась. Боялась.
Мать у Марьи умерла, когда девочке минуло двенадцать, – утонула. Речка наша, Калинка, хоть и неширокая, а глубокая, и тонули в ней, бывало, даже в августе, в жару, когда обнажались берега и отмель на середине реки становилась видна. А в июне, после бурных весенних дождей, и вовсе не редкость. Хорошо женщина плавала, да, похоже, ногу судорогой свело; ее только на другой день нашли под мостом, тело отнесло течением. Отец Марьи на похоронах стоял совсем черный, а на другой день запил. И пил беспробудно три месяца. А через полгода привел в дом новую жену. Та девчонку невзлюбила сразу, хоть и старалась виду не подавать. Не обижала вроде, даже ругалась не сильно, не ударила ни разу – а все ж не приласкает никогда и кусок получше, как родная мать, не поднесет. Диво ли, что Марья после свадьбы перебралась в дом мужа. Свекровь-то, Софья Ильинична, приняла и полюбила ее сразу. Да и мудрено было ее не полюбить.
Как Марья пела! За эти песни ей все можно было простить. Откуда взялся в рабочем городе такой сильный, редкостный по красоте голос – загадка. На всех девичьих гулянках первый запев – Марья. Иван так и говорил, что сначала песню услышал, а потом увидел Марью. Ей было семнадцать тогда, и еще целый год, пока невесте восемнадцати не исполнилось, они ходили рядом, не смея друг друга за руку взять. Как же, мачеха Марью в строгости держала; да и родители Ивана – люди старой закалки, порядочные, с чего бы и сыну баловником расти?
Наша улица Краснознаменная одним своим концом упиралась в гору и принадлежала, строго говоря, не городу, а поселку Петровскому, ставшему городской окраиной перед самой войной. Это теперь поселок находится в черте города, его окружают многоэтажные кварталы, и только роза ветров не дает городу расти и дальше на запад. А тогда за ним лежала степь, куда поселковые ребятишки бегали за диким луком, и отвалы – туда свозили отходы с большого нашего завода.
Краснознаменная, начинаясь прямо от горы, спускалась вниз, сливалась с улицей Менделеева и выводила к центру поселка, к магазину, а от него – к шоссе, ведущему в город. Речка Калинка делила Петровский на две части, Западную и Восточную. Поселок уже тогда был довольно большим, имел даже свою школу, и с городом его соединяли автобусы, ходящие пять раз в день до заводской проходной. Улица наша сплошь заросла черемухой и сорняками; а вот яблонь, которые в таком изобилии растут сейчас во дворах, тогда не было. Дичка, дикая яблонька прижилась непонятно откуда только во дворе у Семеновых, и Иван мальчишкой бдительно охранял ее ветки от набегов соседских ребятишек. Впрочем, никто особо не покушался: Иван считался заводилой и был уважаем в ребячьей компании – наверное, потому, что никогда не жульничал, в играх, если выбирали водящим, судил по справедливости, а еще хорошо учился. Среди пацанов того времени это считалось в плюс, а не в минус.
Иван да Марья выросли на соседних улицах, но друг друга почти не замечали – до того дня, когда Иван проходил мимо веселой компании девчат, поющих у реки. Полоскала Марья белье и пела песню про соловушку, свою любимую. Откуда она ее взяла, неизвестно – эту песню вообще до нее никто не знал в поселке. То ли мачеха привезла из далекой Белоруссии, откуда была сослана вместе с семьей, то ли по радио Марья услышала – Бог весть. Но полюбила ее и пела очень часто. Чаще других, тех, что все тогда пели, и советских, новых, и старых, бабкиных, про рябину да лучинушку. Соловушкой прозвали Марью подруги.
Иван к тому времени работал в первом механическом. Туда же после восьмилетки и Марья пришла. Учиться дальше ей мачеха не позволила, а отцу было все равно. Ну, Марья и не возражала, а уж когда с Иваном ходить начала, и подавно. И ведь что странно: росли-то на соседних улицах; играли на заросших ковылем и одуванчиками холмах, всей гурьбой на речку за щавелем ходили да купались оравой – а друг друга до той встречи словно не видели. Три года разницы – разве много? Впрочем, в Марье тогда было-то – коса да голос. Малявка малявкой, веснушчатая и голенастая, глазами зыркает, языкатая, как все они, девчонки-подлетки. Она расцвела в одночасье, как будто уснула тощей лохматой нескладехой, а проснулась девушкой, крепкой, стройной и сильной, свежей, как эта сирень, ветви которой клонились от тяжести цветов над их свадебным столом.
Вот так шел Иван с работы, услышал песню и остановился. Спустился к реке. Посмотрел на стайку девчат, полощущих белье, увидел Марью. Подошел, взял за руку…
Больше они не расставались.
Свадьбу играли в мае, и белое платье Марьи было усыпано лепестками сирени, в изобилии растущей во всех дворах. Столы вынесли во двор, сдвинули и накрыли вышитыми скатертями. На всю улицу пахло печевом. Немудрящим было угощение, но его с лихвой возместили и смех, и песни, и танцы под гармошку, на которой так весело играл старик Федосьич, азарт и беззаботность молодежи и радость родителей Ивана; даже отец Марьи, хоть и выпил ради свадьбы, сидел непривычно причесанный, в свежей рубашке и солидно поздравлял молодых.
Гуляли всей улицей, и даже у самых отъявленных сплетниц не повернулся язык хоть в чем-то очернить эту пару. Бабы любовались, тайком утирали глаза. Слишком сильным было их счастье, слишком откровенно и явно сквозила любовь в движениях, в голосах жениха и невесты, в том, как они смотрели друг на друга. Многие девчата хотели бы оказаться на ее месте; многие с Ивана глаз не спускали. Но ни у кого не нашлось черных слов, когда смотрели люди на эту любовь.
Одно только заставило перешептываться, одно слегка омрачило общую радость. Утром треснуло зеркало, перед которым причесывали невесту. Райка, портниха, признанная всей улицей мастер, заметила недоуменно среди общей тишины:
– Ой, чего это? Не к добру, говорят. – А потом махнула рукой: – А ну их, бабкины сказки.
А мачеха Марьи только губы поджала.
За свадебным столом пели девчата, пели женщины постарше, пели все вместе. Голос Марьи выделялся в общем хоре. А потом она запела одна. И пела вроде бы для всех, но видно было – для него одного, для своего Ивана, для того, кто один для нее на всю жизнь, и в радости, и в горе. Пела все ту же, свою любимую, про соловушку. Притихли люди; такая тоска и горечь звенели в голосе Марьи, точно вот-вот придет черная беда и заберет с собой любимого, а у нее не хватит сил его спасти. Софья Ильинична, с этой минуты – свекровь, смотрела на невесту и только головой качала.
Но даже самые завистливые и недобрые, если они еще оставались за столом, прикусили языки, когда высокий, крепкий, сильный Иван на руках понес невесту от стола до входа в дом. Маленькая Марья прижималась к нему, обвила руками его шею, и казалось – всю жизнь он так ее пронесет, от любой беды защитит и убережет.
…Вот так и жили они. На работу вместе и с работы вместе. В огороде вместе и в гостях вместе. Иван часто просил Марью спеть для него одного, и, бывало, вечерами они уходили на берег, на мостки, с которых бабы белье полоскали. Иван садился на песок и, обхватив руками колени, смотрел, смотрел на жену. А она стояла у воды, глядя вдаль, и лицо ее становилось строгим, отрешенным и словно нездешним. И голос летел, звенел над водой. Шли мимо люди, замедляли шаги, притихали…
Дом у Семеновых был большой, очень светлый и чистый. Софья Ильинична всюду в комнатах повесила белые, украшенные вышивкой занавески, на пол сплела из старых тряпок половички. Только тряпок-то было немного, обносились люди после революции, это уж потом, как она говорила, «на свет смотреть стали». В низеньких, но уютных комнатах всегда пахло цветами, свежим деревом и чем-то неуловимо домашним, добрым, родным.
Марья, работящая, скромная, приветливая, пришлась Семеновым по сердцу. Свекровь любила ее песни слушать. Марья поначалу стеснялась при ней во весь голос петь, потом привыкла. Пела и в доме, прибираясь или стряпая, и во дворе, и в огороде, собирая вишню. Даже свекор слушал, посмеиваясь в усы. А Иван, большой, сильный, молча смотрел на Марью – и улыбался. А уж она-то, после вечно недовольной мачехи да отца-пьяницы, после попреков и неласкового, грязноватого родительского дома попав в дружную, работящую семью, расцвела, похорошела. Улыбка не сходила с ее губ, в голосе звенело счастье.
Месяц они так-то миловались, ходили, держась за руки, никого вокруг не замечая, смотрели друг на друга. А через месяц война началась.
Марья провожала на вокзал сразу троих: отца, мужа и свекра. Софья Ильинична старалась держаться, не выла в голос, как многие женщины, но глаза, опухшие, красные, даже не прятала. А Марья слезинки не проронила. По-бабьи повязанная платком, вцепилась в руку мужа и не отпускала до той самой минуты, как объявили посадку. Иван ее пальцы, стиснутые, побелевшие, по одному разжимал. Поцеловал ее, потом мать и в вагон прыгнул уже на ходу. А отец Марьи, уходя, шепнул что-то ей на ухо. Кто рядом стоял, говорили: прощения попросил. Марья кивнула – и поцеловала его, в первый раз за несколько лет. А мачеха опять только губы поджала.
Вот и остались Марья со свекровью вдвоем в большом – на две семьи строили – деревянном доме. Жили и ждали. Марья с тех пор так и не снимала повязанного по-бабьи платка. И на посиделки девичьи больше не пришла ни разу. Работа, дом да свекровь. А вот петь – пела. Если воскресным утром на улице слышится песня – гадать не надо, это Марья мужу удачу привораживает.
Смех смехом, а так и стали бабы говорить: привораживает. То одна, то другая, приходили к Семеновым по вечерам, просили:
– Спой, Марья. Ту, про соловушку. Что-то от моего долго писем нет, живой ли?
Марья не отказывала, пела. Про соловушку, который весной возвращается в родной сад. Вроде и песня как песня, ничего особенного, а смотришь – через день-два письма приходили, да все треугольнички, от живых.
Только себе счастья наворожить не смогла. В январе сорок второго сразу две похоронки пришли Семеновым, одна за другой, с разницей в полмесяца. Сперва свекор Марьи, отец Ивана, а потом и сам Иван. Смертью храбрых. А где могилы их, никто не знал, потому что наступление и все в одной куче.
Софья Ильинична только и сказала:
– Что ж ты… себе не наворожила, Марья! Что же ты…
И повалилась в беспамятстве.
Вот с тех пор Марья петь перестала совсем. Как бабка отшептала. Сколько ни просили ее женщины – никому ни разу. У свекрови, говорят, прощения просила, хоть и понимала, что та не со зла – с горя. А потом и просить стало не у кого – умерла Софья Ильинична через месяц. Марья осталась одна в опустевшем доме и больше черного платка уже не снимала.
Первые пленные немцы появились у нас в сорок пятом. Город наш тогда не имел еще статуса закрытого, несмотря на большой завод, и поэтому пленных стали присылать к нам едва ли не самым первым. Селили их в бараках на окраине, и попервости на них люди смотреть как на диковинку ходили. Как же: вроде звери – а две руки, две ноги и голова, как у всех. Мальчишки на улицах бросали камнями, когда колонну оборванных, угрюмых людей в серо-зеленых шинелях вели на работу. Бабы только что пальцами не показывали. Марья смотреть не ходила ни разу. Что, дескать, я там не видела – горя чужого?
Их водили на работу почти через весь город и почему-то всегда пешком. Много чего сделали пленные в нашем городе; до сих пор стоят кварталы, построенные ими. Странная, причудливая архитектура, неуловимо средневековый стиль; смешение культур – в облике этих вроде бы обычных домов можно уловить и черты лютеранской церкви, и облик милых, добропорядочных европейских буржуа, и русский климат накладывает на фасады свой суровый отпечаток. Первый наш поселковый кинотеатр построен пленными, и даже первые афиши рисовали, говорят, тоже они.