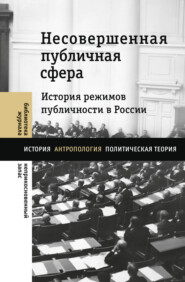
Полная версия:
Несовершенная публичная сфера. История режимов публичности в России
С 1872 года это правило было изменено и касалось теперь уже только династии Романовых. В остальном цензоры руководствовались весьма неопределенными критериями – запрещалось, например, изображать в дурном свете Ивана Грозного, как в пьесе А. Н. Островского «Василиса Мелентьева» (1867). В облике царя должны были присутствовать достоинство и добродушие, и Николай II позже разрешил ставить в публичных театрах оперу Альберта Лорцинга «Царь и плотник» (1837), так как в ней была показана любовь Петра Великого к своему народу и России. Последний пример, кроме того, свидетельствует о том, что власти с особой осторожностью относились к представлениям в Народных театрах, созданных после 1882 года, и часто пьесы, одобренные для постановки на публичной сцене, впоследствии запрещали. Если цензору казалось, что та или иная тема может спровоцировать недовольство и мятежные настроения среди широкой публики, бóльшую часть которой составляли рабочие, он накладывал на постановку запрет. Поэтому «Женитьбу Фигаро» Моцарта сочли неподходящей для народной сцены: в ней было показано, насколько сомнительны права, на которые аристократия претендует в отношении своих слуг, а сами слуги изображены умнее хозяев. Главной задачей всегда оставалось насаждать патриотизм и национальную гордость. Когда начались волнения 1905 года, цензура стала еще строже и запретила шиллеровского «Вильгельма Телля», поскольку считалось, что публика не сможет правильно оценить пьесу[341].
ТЕАТР КАК ИСКУССТВО ДЛЯ МНОГИХ, А НЕ ДЛЯ ИЗБРАННЫХОтменить театральную монополию посоветовал новый министр Императорского двора Илларион Воронцов-Дашков, назначенный Александром III в 1881 году; он же дал указание Ивану Всеволожскому, директору императорских театров, не взимать с частных лиц сборов за театральные постановки. 24 марта 1882 года царь распорядился в Сенате об отмене привилегий императорских театров[342].
Именно благодаря отмене монополии оказалось возможно ставить пьесы, рассчитанные на зрителей из все более многочисленного среднего класса, людей умственного труда. Эта публика, для которой оперы в имперских театрах были попросту недоступны из‐за системы абонементов и высоких цен, постепенно становилась все более обширной. В 1905 году в статье для «Театральной России» критик Платон Краснов указывал на эту проблему, говоря, что право слушать оперу в имперском театре превратилось в привилегию узкого круга государственных чиновников и состоятельных петербуржцев[343]. В Мариинском театре ставились оперы, созвучные духу императорского двора, представители которого считали себя частью европейской культуры. Поэтому «западные» Вагнер, Мейербер, Россини, Гуно и Верди в основном расценивались как безопасные. Однако оперы, содержавшие хоть малейший намек на радикальные или революционные настроения, как, например, «Дон Карлос» Верди, запрещались. Исключение делалось лишь для опер, в которых видели художественное достоинство или патриотический смысл, таких как «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, «Борис Годунов» Модеста Мусоргского и «Рогнеда» Александра Серова.
Сотрудничество Римского-Корсакова с Мариинским театром началось благодаря стремлению Мамонтова заполнить серьезный пробел в музыкальной культуре. Композитор постоянно наталкивался на препятствия со стороны императорских театров, неприятие царя и непонимание ограниченного и ориентированного на западное искусство репертуарного комитета Мариинского театра. В своей автобиографии он часто говорит о недостатке организованности, которая позволила бы довести постановку до конца, о нехватке или отсутствии полноценных репетиций, о самонадеянности актеров, невнимании к деталям и неумении сосредоточиться. Но больше всего он досадовал на постоянные сокращения текста: «…никакие слова и запрещения ничему не помогут, если за нарушение условий нельзя притянуть к суду. Дирекцию же императорских театров притянуть к суду нельзя, а потому следует быть смирным и кротким. Задал бы знать всем и каждому в Германии Рихард Вагнер, если бы с ним проделали такую штуку!»[344]
Но в целом, несмотря на все сокращения, которым подверглась его «Снегурочка» в Мариинском театре, он признавал: «…где же в другом месте опера может быть еще поставлена, как не на императорском театре?»[345] Учитывая, сколько огорчений Римскому-Корсакову приносила Дирекция императорских театров, неудивительно, что начиная с «Садко» премьеры большей части его опер стали проходить в Мамонтовской опере в Москве.
Не приходится сомневаться, что Мамонтов и Римский-Корсаков ставили перед собой схожие цели. Оба хотели найти сцену для опер «Могучей кучки»[346], так как в императорских театрах к русским операм в целом относились не очень благосклонно. Само представление Мамонтова о театре как о красочном зрелище основывалось на операх-сказках Римского-Корсакова – ему особенно нравились «Садко» и «Снегурочка». Как и Павел Третьяков, Мамонтов верил в значимость искусства и в то, что оно должно быть независимым. Поскольку широкая публика далеко не всегда могла посещать императорские театры, чтобы открыть ей и молодому поколению доступ к «высокому» искусству, требовалось ввести более низкие цены и, например, дать возможность бесплатно посещать утренние спектакли[347].
Как раз незадолго до отмены монополии императорских театров актриса Анна Бренко из Малого театра и Александр Островский одновременно ходатайствовали о разрешении открыть частный театр. Бренко добилась того, что смогла на полулегальных основаниях вместе с труппой основать Пушкинский театр, не приносивший, однако, стабильных доходов из‐за высокого налога, который ему приходилось платить Дирекции императорских театров[348]. В 1880–1881 годах Островский написал три ключевые критические статьи: «Клубные сцены, частные театры и любительские спектакли», «Записка о положении драматического искусства в России в настоящее время» и «О причинах упадка драматического театра в Москве». Во второй из них он утверждал, что монополия является причиной упадка сценического и драматического искусства в России, потому что императорские театры не интересуются русской драмой и боятся конкуренции. Кроме того, он полагал, что национальный театр нужен, чтобы «возбуждать народный патриотизм», и что московское купечество должно выделять на него средства частным образом. Городу нужен был театр, чтобы «цивилизующее влияние драматического искусства» благотворно сказывалось на его меняющемся населении, отражая его историческое и национальное самосознание[349]. Эти мысли были близки и Римскому-Корсакову.
После отмены государственной театральной монополии возникло три типа театров: частные театры, основанные состоятельными предпринимателями, такими как Мамонтов, коммерческие театры, которые можно сравнить с варьете и/или ночными кабаре, и народные театры. Народные театры, как правило, открывали владельцы фабрик и общества трезвости, которые вели борьбу с пьянством и в то же время пытались предложить какое-то другое времяпрепровождение, поэтому такие театры выполняли важную социальную функцию. Их репертуар при этом тщательно контролировался. В качестве примера можно привести Народный дом императора Николая II, открывшийся в 1900 году и вмещавший три тысячи человек. Вечерами здесь часто давали русские оперы, в том числе «Князя Игоря» и «Снегурочку», чтобы познакомить публику с более серьезными и сложными произведениями, которые вошли в местный репертуар наряду с более легкими постановками. И Римский-Корсаков, и Ястребцев упоминают, что в сентябре 1906 года в Народном доме исполнялась опера «Садко»[350].
РОЛЬ СТАРООБРЯДЧЕСКОГО КУПЕЧЕСТВАКогда речь идет о русском театре и опере конца XIX века, важно понимать коренные различия между Петербургом и Москвой. Петербург был центром империи, но именно в Москве появились дальновидные предприниматели, которые не только способствовали индустриализации в России, но и оказали существенное влияние на искусство. Среди них можно назвать Козьму Солдатёнкова, который финансировал перевод иностранной литературы на русский язык, семью Бахрушиных, Савву Морозова и Павла Третьякова, деятельность которых была связана с текстильной промышленностью, и Савву Мамонтова, занимавшегося строительством железных дорог. Третьяков и братья Рябушинские, кроме того, были заметными фигурами в банковском деле[351]. Объединяло их то обстоятельство, что в большинстве своем они происходили из старообрядческих семей, между членами которых, что также немаловажно, часто заключались браки[352]. Многие из них путешествовали по разным европейским странам, освоили иностранные языки и узнали не только о новейших промышленных достижениях Запада, но и о западной демократии. К концу 1850‐х годов они достаточно разбогатели, чтобы вести образ жизни, какой прежде могли себе позволить только аристократы и помещики[353]. У староверов часто возникали конфликты с царскими чиновниками из‐за торговых и религиозных вопросов. Морозовы впоследствии активно участвовали в большевистском движении – в частности, финансировали издание политической газеты «Искра». Важно, что Римский-Корсаков выразил свою признательность этим меценатам своей предпоследней оперой «Сказание о невидимом граде Китеже», либретто которой было отчасти основано на романах Мельникова-Печерского о старообрядцах[354].
Уже тогда Иван Дмитриев выступил с критикой Академии художеств в своей статье на страницах сатирического журнала «Искра», выходившего в 1859–1873 годах, подчеркивая, что «искусство должно быть благом народа, потребностью народа, а этих результатов оно, очевидно, не достигнет своими бесполезными, старинными замашками»[355]. Эта мысль нашла отклик у московских меценатов, в особенности у Третьякова. Воспитанные в старообрядческом духе, они считали своим нравственным долгом заботиться о благосостоянии и образовании своих работников[356].
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ И МАМОНТОВ: ДОЛГОЖДАННЫЕ ПЕРЕМЕНЫВ 1885 году, после отмены театральной монополии, Мамонтов открыл собственный оперный театр – Московскую частную русскую оперу. (Некоторое время располагавшаяся в театре Солодовникова, мамонтовская опера была известна под разными названиями, в том числе как Театр Кроткова в 1885–1887, Театр Винтер в 1896–1899, Товарищество частной русской оперы в 1899–1904 годах.) В первый год было поставлено девятнадцать опер, лишь две из которых принадлежали русским композиторам: «Жизнь за царя» и «Снегурочка». Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что над декорациями к большинству постановок работали Виктор Васнецов, Константин Коровин и Василий Поленов. Однако Мамонтову пришлось учесть, что, когда речь идет об опере, музыка по качеству не должна уступать художественному оформлению. В газете «Театр и жизнь» было отмечено, что молодые певцы неопытны, а сцена, хор и оркестр слишком малы. «Правда, что во всем соблюдается гармония… но не знаешь, что происходит перед тобой: сценическое ли представление, разыгрываемое взрослыми людьми, актерами, певцами, либо это детское времяпрепровождение»[357]. В конце концов публика должна была утратить интерес. Театр не приносил прибыли и закрылся в 1887 году после окончания сезона.
Благодаря вмешательству Семена Кругликова, в прошлом ученика Римского-Корсакова, в театре Мамонтова прошла премьера «Садко», что особенно примечательно, если учесть, что царь отверг эту оперу, сказав: «Пусть вместо этой оперы дирекция подыщет что-нибудь повеселее»[358]. Кругликов писал композитору:
Вы ведь знаете, что в Москве есть Савва Иванович Мамонтов – большой поклонник Ваших «Снегурочки» и «Псковитянки», человек с большим вкусом, давно окруженный такими людьми, как Репин, Васнецов, Поленов и т. д. ‹…› Мамонтов просто молится на Вас, Бородина, Мусоргского… мечтает и о Вашей новой опере. Вы будете правы, если отнесетесь с доверием к Мамонтовской опере, к самому Мамонтову. ‹…› Отчего бы Вам не попробовать здесь и «Садко»?[359]
В ответном письме Римский-Корсаков подчеркнул, что в опере главное – музыка: «Он не щадит своих средств на декорации и костюмы… а между тем в опере первое дело музыка…»[360].
Римский-Корсаков заметил, что в мамонтовской опере певцы, постановщики и дирижеры тесно сотрудничали друг с другом. Участники созданного Мамонтовым Абрамцевского художественного кружка взяли на себя функцию оформителей, которые стали играть важную роль в творческом процессе. Публика и пресса встретили «Садко» с восторгом, а Мамонтовская частная опера получила статус полноценного театра, сделавшего первые шаги для популяризации долго остававшихся в тени русских опер. Русские либералы видели в успехе «Садко» торжество частного начинания над государственной бюрократией, то есть, по сути, победу современного капитализма над отжившим феодальным строем, что в каком-то смысле составляло и тему самой оперы[361].
И Мамонтов, и Римский-Корсаков хотели напомнить зрителям о народной русской легенде, поэзии и музыке того времени, и им это удалось. Этот пример показал также, что профессиональная частная опера при правильном управлении и руководстве может успешно конкурировать с императорскими театрами с точки зрения как репертуара, так и популярности у публики. Мамонтовская опера вскоре смогла расширить свой репертуар и отвечала духу времени и запросам своей потенциальной публики. В ноябре 1896 года газеты «Новости дня» и «Новости сезона» отметили как высокое качество постановок мамонтовской оперы, с которой редкий оперный театр в России, частный или даже имперский, мог соперничать[362], так и то, что императорские театры неохотно брались и за русские оперы, и за те из зарубежных опер, которые казались им слишком сложными, предлагая зрителю лишь приевшиеся и тривиальные постановки[363]. Ни один московский или петербургский критик, писавший о премьере «Садко», не смог не заметить, что в Мариинском театре ставить оперу отказались, а Мамонтовская частная опера за два месяца распродала все билеты на пятнадцать спектаклей[364]. В мамонтовской опере было возобновлено и исполнение «Снегурочки»: за сезон 1896–1897 годов этот спектакль здесь прошел большее число раз, чем всего на сцене Большого театра на тот момент[365].
В сентябре 1897 года газета «Новости сезона» опубликовала статью, в которой приветствовался интерес к национальному искусству и в связи с мамонтовской оперой было отмечено, что москвичи наконец перестали слепо восторгаться всем иностранным и что, пусть у некоторых еще остаются сомнения в достижениях русских композиторов, большинство теперь убедилось, насколько прекрасна и многогранна русская опера[366].
А после премьеры «Псковитянки» с Федором Шаляпиным в роли Ивана Грозного Кругликов, писавший теперь критические статьи для «Новостей дня», обрушился на Большой театр с градом насмешек, подчеркнув, что первая опера Римского-Корсакова долго ждала постановки, но ее премьера состоялась не на сцене Большого театра. Кругликов язвительно заметил, что Большому театру не до таких пустяков, поэтому он предоставляет исполнение всяких «Князей Игорей» и «Псковитянок» частным операм[367].
Весной 1898 года Мамонтову удалось организовать гастроли своего театра в Петербург, где он представил «Садко» на сцене Консерватории; репетиции проходили под руководством Римского-Корсакова. Кроме того, были исполнены «Майская ночь» и «Снегурочка».
Огромный успех ждал его и в следующий приезд годом позже, когда были исполнены «Псковитянка», «Боярыня Вера Шелога», «Садко», «Моцарт и Сальери» и «Борис Годунов» с участием Шаляпина. К тому времени цены на билеты в мамонтовской опере были на одном уровне с ценами в императорских театрах[368].
КРИТИЧЕСКИЕ ОПЕРЫ РИМСКОГО-КОРСАКОВА НА ПУБЛИЧНОЙ СЦЕНЕПосле восшествия на престол Николая II Римского-Корсакова все больше волновало положение дел в России. Именно заявление царя о том, что он намерен укреплять самодержавие, побудило композитора к сочинению «Царской невесты». В опере есть прямое указание на возраст царя, а его ум вызывает сомнение, как и его стремление подавить радикальные слои русского общества, включая раскольников:
МалютаЕго еще на свете не бывало,А юродивый старец ДоментьянУж провещал о нем самой княгине:«Родится Тит – широкий ум».ОпричникиШирокий ум – по царству!‹…›Малюта‹…›Мы выметем из Руси православнойВесь сор![369]Так как запрет на изображение царя на сцене все еще действовал, Римский-Корсаков обошел его, введя неназванное действующее лицо без слов, появление которого, однако, сопровождалось вариацией на тему песни «Слава», часто указывавшей в русских операх на присутствие царя. Опера, премьера которой состоялась в 1898 году, свидетельствует о том, что ничем не ограниченная власть может перерасти в страсть к разрушению и вылиться в террор, когда человеческое общество не в состоянии противопоставить ей твердые нравственные правила[370].
Утратив иллюзии относительно возможных перемен политической обстановки, композитор обратился к Пушкину, в произведениях которого присутствовала завуалированная критика в адрес царей. С этой точки зрения можно рассматривать оперу «Сказка о царе Салтане», премьера которой состоялась в 1900 году. Николай II был человеком слабохарактерным и ограниченным, к своим министрам относился почти как к прислуге и советовался с людьми, которые мало что понимали в государственных делах. Константин Победоносцев, который преподавал императору законоведение и, кроме того, занимал пост обер-прокурора Святейшего синода, говорил, что Николай II понимает лишь значение отдельных фактов, не видя их связи с другими фактами, событиями, тенденциями, и при этом упрямо держится за свою ограниченную точку зрения[371]. Н. Рязановский описал происходившее следующим образом: «Разные, часто не заслуживающие доверия министры принимали важнейшие решения, которым монарх был не в состоянии дать правильную оценку»[372]. Здесь можно провести параллель с царем Салтаном, который руководствуется в своих действиях преподносимыми ему лживыми слухами.
Если мы вспомним слова Победоносцева о способностях императора, едва ли вызовет удивление, что из‐за него страна оказалась втянута в войну с Японией, обернувшуюся катастрофическим поражением. О неумении царя здраво оценивать обстановку свидетельствует и его реакция на беспорядки в стране, начавшиеся с «Кровавого воскресенья» 9 января 1905 года. Не говоря уже о том, что по всей России прошли забастовки и студенческие протесты, в марте все научные учреждения были закрыты.
«КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ»: ПОЛИТИЧЕСКИЙ СМЫСЛВсе музыканты середины XIX века были любителями, располагавшими значительными средствами. Поскольку их не признавали как «свободных художников», они не принадлежали ни к какому чину, который давал бы им определенные права[373]. В 1859 и 1862 годах соответственно великая княгиня Елена Павловна, невестка императора Николая I, учредила Русское музыкальное общество и Петербургскую консерваторию. Именно влияние Русского музыкального общества и «немузыкальной» дирекции Консерватории в марте 1905 года привело к конфликту: статус Общества, исторически связанного с царской фамилией, был не вполне ясен.
После «Кровавого воскресенья», одним из следствий которого стало закрытие Консерватории, газета «Наши дни» опубликовала письмо, подписанное тридцатью девятью московскими композиторами и музыкантами, к которым позже присоединился и Римский-Корсаков. Этот документ был напечатан и в «Русской музыкальной газете» (№ 7, 1905) и явно носил политический характер:
…Когда по рукам и ногам связана жизнь, – не может быть свободно и искусство, ибо чувство есть только часть жизни. Когда в стране нет ни свободы мысли и совести, ни свободы слова и печати, когда всем живым творческим начинаниям народа ставятся преграды – чахнет и художественное творчество. Горькой насмешкой звучит тогда звание свободного художника. Мы не свободные художники, а такие же бесправные жертвы современных ненормальных общественно-правовых условий, как и остальные русские граждане, и выход из этих условий, по нашему убеждению, только один: Россия должна, наконец, вступить на путь коренных реформ…[374]
10 февраля студенты Консерватории устроили собрание, на котором решили продолжать забастовку и проголосовали за прекращение занятий. Требования студентов касались преимущественно профессиональных вопросов. Римский-Корсаков, как и другие преподаватели, поддерживал эти требования[375]. В своем открытом письме директору Консерватории от 16 марта, опубликованном в «Русских ведомостях» и перепечатанном в газете «Русь» (№ 70 от 19 марта 1905 года), он выступил с критикой руководства Консерватории:
Возможен ли какой-либо успех художественно-музыкального дела в учреждении, где постановления Художественного совета не имеют значения, в учреждении, в котором, согласно уставу, музыкальные художники подчинены дирекции, то есть кружку любителей-дилетантов, в учреждении, в котором директор выбирается, согласно тому же уставу, не на срок, а представляет собою начало несменяемое, наконец – в учреждении, совершенно равнодушном к участи своих учеников в вопросах воспитания?[376]
«И вот из‐за этого письма весь сыр-бор загорелся, да и как еще ярко!»[377] – но оно стало и причиной увольнения Римского-Корсакова.
На распоряжение о его увольнении композитор откликнулся в открытом письме от 24 марта: «Факт же увольнения меня помимо Художественного Совета еще раз доказывает справедливость моей мысли о вытекающей из устава ненормальности отношений между Художественным Советом, директором консерватории и дирекцией»[378].
В это время студенты Консерватории репетировали оперу «Кащей Бессмертный», премьера которой состоялась 27 марта в частном театре актрисы Веры Комиссаржевской. Либретто, написанное самим композитором в 1901–1902 годах, звучало как нельзя более злободневно в период, когда не только государство ужесточало контроль над университетами и вмешивалось в их дела, но то же происходило и на уровне местного управления. Подтекст заключительных слов оперы: «Вам Буря дорогу открыла! На волю, на волю!» – был совершенно прозрачен[379].
В свете последних событий это представление стало поводом для громкого выражения композитору всеобщей поддержки, в которой преобладала политическая окраска. Она объединила либеральных представителей образованного общества, а внимание прессы привлекла речь Владимира Стасова[380].
Но ведь у вас, Николай Андреевич, – сказал Стасов, обращаясь к Римскому-Корсакову, – как и у всех вообще истинно великих людей, – великая душа, а потому вам всего приличнее, всего чудеснее сказать про врагов по-христиански: «Прощаю их, сами не ведают, что творят». Но, кроме этих великих слов, есть еще другие слова, сказанные большим человеком, нашим Пушкиным: «Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат» – это сказано словно про вас[381].
Именно благодаря представителям театральной среды и прессы случай Римского-Корсакова привлек к себе внимание и стал предметом обсуждения. Разговоры о нем достигли, например, Юрьевского уезда Владимирской губернии, и группа местных крестьян написала композитору письмо, в котором выражала одобрение его действий: «Из газеты узнали мы, какую с Вами сделали несправедливость»[382]. Кроме того, важно помнить, каким влиянием пользовалась в России того времени сатирическая пресса, которая не только критиковала царя и попытки правительства пресечь радикальные настроения, но и подчеркивала тот факт, что видный композитор лишился занимаемой должности. Уволив Римского-Корсакова и запретив его произведения, правительство просчиталось – оно лишь показало, что неспособно признать трезвую оценку социальной и политической обстановки, исходившую от представителей нового общественного слоя, людей умственного труда.
«ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК»Масштабные беспорядки заставили правительство пообещать провести реформы, после чего прошел Земский съезд, добившийся признания за представителями всех сословий основных гражданских прав, была учреждена Дума и подписан Манифест 17 октября 1905 года. Однако в конечном счете царь не сдержал своих обещаний: в 1907 году самодержавие было полностью восстановлено в своих правах, сопротивление жестоко подавлялось, снова усилилась цензура[383].
Политика нового царя выглядела все менее последовательной, и композитор вновь обратился к Пушкину и его «Сказке о золотом петушке». Возможно, что Римского-Корсакова вдохновило и опубликованное в 1906 году стихотворение Александра Блока «Сказка о петухе и старушке», в котором упоминаются алые костры перемен, разгоревшиеся на месте, «где гулял и клевал петушок»[384].
Многие фрагменты оперы вызвали возражения у цензуры. В прологе звучало почти прямое обращение к царю: «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». Была в опере и отсылка к неудачной русско-японской войне. Когда армия выступает в поход, воевода Полкан сообщает царю Додону, что запасов хватит на три года («Есть запасы? На три года»). Эти слова должны были напомнить публике о Порт-Артуре, где, как считалось, запасов было на три года, а хватило только на семь месяцев. Ближе к финалу, когда Додон убивает Звездочета, он размышляет: «С ним беды лишь не нажить бы накануне-то женитьбы? Кровь на свадьбе не к добру»[385]. Здесь прочитывается намек на трагедию на Ходынке 30 мая 1896 года, когда во время торжеств по случаю коронации Николая II погибло 1389 человек.



