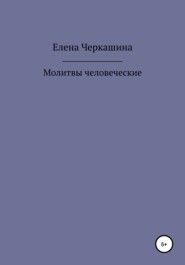скачать книгу бесплатно
– Весы Вселенские – не шутка! Одним словом их можно качнуть. И как часто это бывает мерзкое и страшное слово!
Тут Ангел рукой взмахнул, словно прощаясь, и отчеканил:
– Свои весы ты милосердием качнула.
И, опять упираясь кулаками в землю, покатил.
– Да ты бы в гости зашёл! – растерявшись, крикнула Анна.
– В другой раз, в другой раз. Мне ещё в несколько домов нужно зайти. Не одна ты у меня.
Долго стояла женщина. Подняв голову и устремив взгляд в небо, она представляла громадные весы, на которые день и ночь, день и ночь складываются добрые и злые дела. Весы мудрости, весы справедливости. И кто знает, в какую минуту качнутся они в сторону милости или сурового наказания?
Святой
День едва занимался, когда Серафим вышел во двор. Холодный воздух окутал голову, проник сквозь ветхую ткань поддёвки. Но он только вздохнул.
– Господи Иисусе Христе, – привычно зашептали губы, – помилуй мя, грешного. Господи Иисусе Христе…
Молитва лилась и лилась, согревая сердце и всё тело, а руки соскребали с поленьев примёрзший снег. Набрав небольшую охапку, он нёс дрова в дом, складывал у печурки. Топить он станет потом, когда начнут приходить люди, и не потому, что жалел для себя, а просто, молясь, уже не чувствовал ни холода, ни жара.
Келья отца Серафима была больше, чем бедной: старый стол, чугунок с варевом, две табуретки. Мешковина вместо шубы, на плечах – видавший виды подрясник. Спал он мало, а потому и постели не держал. Прислонится, бывало, к печи – и дремлет, а губы всё повторяют: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя…»
Свет разгорался, взошло солнце. Серафим вымел мусор, достал чугунок и поел холодной похлёбки, которую варил из травы снить. Сладкая травка! Он сушил её впрок, запасаясь на зиму, и приходившим к нему монашкам говорил: «Я сам себе кушанье готовлю. Нарву снитки, в горшок водицы налью – и славное кушанье выходит». До весны лишь этой травой и питался.
Келью себе отец Серафим построил в лесу, в глухом месте, неподалёку от речки, и долго наслаждался тишиной и отшельничеством. Но случилось раз, – а дело ночью было, – слышит голоса, музыка играет, будто целый табор цыганский мимо идёт. Удивился Серафим, слушает, как только вдруг резко раскрылось окно, и огромное бревно влетело прямо в избу, чуть его не убив. Увернулся отшельник, а наутро стал бревно на куски пилить да складывать. Сам в себе дивился: такой ствол и восьмерым не поднять, а нечистая сила – вот, и подняла, и в дом забросила.
Всяко бывало… Как-то люди недобрые на него напали, перевернули всё вверх дном, денег искали да требовали. «Ты монах, к тебе приходят, много накопил!» Отвечал Серафим спокойно, готовясь даже смерть принять: «Не беру я денег, а богатство моё – здесь, горшок в печи». Избили его до полусмерти и ушли. Насилу очухался. Долго болел, но простил, зла не держал. Только Бог Сам, Своею волею, наслал на людей тех пожар: сгорели дома их дотла.
…За дверью раздался шорох. Кто-то стоял на крыльце и не решался побеспокоить, не зная, проснулся ли Серафим. А потому хозяин встал и, перекрестившись, открыл дверь для первого посетителя.
Раньше он жил в затворе, и какое доброе то было время! Дверь плотнее прикроет – и молится целый день, а то книжки читает, Евангелие. А порою так хорошо становилось, что думал: как на небесах! Во всех членах тепло, душа поёт и Бога славит. Да только кончились те времена. Сама Пречистая Богородица в тонком видении явилась и велела прекратить затвор и отныне людей принимать. Свет – он должен светить, а благочестному наставлению и цены нет.
Морщась от боли в колене, он широко отворил свою дверь, впустил мужика – небольшого росточка, худощавого, с испуганными бегающими глазами.
– Батюшка Серафим, отче, благослови! – и бухнулся на колени.
Серафим любовно поднял беднягу и, уже зная, о чём тот хотел попросить, поставил перед собой.
– Лошадок твоих украли? – тихо спросил.
Мужик онемел.
– Не бойся, – продолжал Серафим, – а пойди ты в деревню, что у реки, да отсчитай пятый двор с края. Там своих лошадей и найдёшь. Не болтай, ни с кем не ссорься, а просто отвяжи да иди.
– А ну как забьют?
– Не забьют, помолюсь о тебе.
Мужик кинулся было из избы, да вспомнил и положил на стол узелок.
– Мзды не беру, – отозвался Серафим, – а вот капустки мне надо. Принесёшь?
– Принесу, батюшка, принесу!
– Ну и с Богом!
Как на крыльях улетел мужик, а Серафим улыбнулся и громко спросил:
– Что ж не заходишь, радость моя? Входи, входи. Рад, что к убогому Серафиму тропу не забыл.
На пороге стоял генерал. Лицо смущённое, плечи согнуты виновато, но на устах – улыбка.
– Видно, рано поднялся, чтоб ко мне придти.
– Чуть свет встал, батюшка. Да уж благословите.
О чём беседовал святой со своим давним другом – неведомо, только вышел пожилой генерал со светлым челом, кликнул возничего – и покатил прочь с лёгким сердцем. А Серафим затеплил свечу и трижды поклонился образам.
Народ собирался, уже и на крыльце не стало места, и очередь растянулась до самых ворот. Одного за другим принимал Серафим, для каждого находя слово поддержки и утешения. Кого-то просфорой угощал, кому-то святой водицы испить давал. И выходили от него со слезами умиления на глазах, с дрожащими губами.
– Радость моя! – приветствовал Серафим каждого, будь то отрок, старик или вдовица.
Но больше всего любил, когда приходили дети.
– Сокровища, сокровища мои, – так говорил, обнимая с любовью, и угощал, чем мог.
Ближе к обеду внесли на носилках помещика.
– Давно ли болеешь? – спросил Серафим.
– С прошлой зимы, батюшка, – еле слышно отвечал помещик. – Ноги совсем отнялись.
– Ничего, ничего, жив будешь.
И начал молиться.
– А что ж сестрица твоя, Елена, замуж не идёт? – вдруг спросил.
Удивился помещик прозорливости старца и ответил с почтением:
– Да она думает в монастырь.
– В монастырь – хорошо, да в какой попадёшь. А вот пусть приходит ко мне, я её к своим сироткам определю, в мельничную общину. Там её не обидят.
– Да, батюшка, передам.
– Передай, что ждать её буду.
– Непременно, непременно.
– Вот и ладно. А ноги твои здоровы будут. Останься в монастыре, поговей да причастись Святых Христовых Тайн. А как причастишься – так и встанешь.
Уехал помещик окрылённый, ничуть не сомневаясь в правдивости слов Серафима и силе его молитвы.
А батюшка Серафим прикрыл свою дверь со словами:
– Простите меня, чада, да только сегодня уж принимать не буду: утомился я.
А когда посетители разошлись, стал на колени и долго углублённо молился.
Короткий зимний день подходил к концу. Серафим бросил полено в печку, сел и прищурился на огонь. Тихо и благодатно было в сердце. Он словно взял на себя часть того груза, что несли эти люди, а помолившись, сбросил его с себя, доверив каждого человека Богу.
– Слава Тебе, Господи, слава Тебе! – шептали иссохшие губы.
А душа повторяла: «Слава!»
Затем он придвинулся ближе и прислонился к печи головой. Сейчас он вздремнёт, а затем опять встанет на молитву, чтобы обнять тёплым покровом тех людей, что приходили к нему сегодня, своих близких и весь мир.
Монах
Становилось холодно. Резкий ветер порывами забивался под шубу, пробирался сквозь поддёвку до тела: сухого, измождённого, синего от мороза. Небо серело, и наступающая ночь предвещала вьюгу.
Монах не спешил. Неторопливо запахнулся, крепко затянул ремень и огляделся. Деревня раскинулась перед ним рядом приземистых хуторов, стоящих друг от друга на значительном расстоянии, казавшимися чёрными в синеющих сумерках. Оставалось ещё несколько домов, куда он не успел зайти, и теперь они манили его тёплыми глазами окон.
В каждом из этих домов шла жизнь – мирное, неспешное течение семейного быта с разговорами, игрой детей на лавке, поскрипыванием половиц и потрескиванием дров в печи. Монах любил эту жизнь, но и знал, что не принадлежит ей, а она никогда не будет принадлежать ему. Словно гонимый ветром, идёт он от дома к дому, протаптывая дорожку в снегу, стучась в потемневшие двери, здороваясь, кланяясь в пояс хозяевам, а затем долго сидя гостем в красном углу, ведя почтительную, полную достоинства беседу; иногда оставаясь на ночлег, а иногда, получив на прощание рюмку горькой, снова отправляясь в путь, с чувством гордого удовлетворения встряхивая мешок, в который добрая хозяйка положила вволю сухарей.
Покидая эту жизнь, монах не думал о том, хотел ли он остаться и что заставляет его двигаться дальше, он просто шёл. А уходя, предвкушал те приятные моменты, которые сулит ему возвращение в обитель. Григорий, лучший друг и брат Божьей милостью, охоч до сала, вот и несёт ему хороший кусок, завёрнутый в тряпицу. И Семён, того келья сбоку, тоже обрадуется: ему – яйца, сваренные вкрутую, которым Семён большой любитель. Остальное в трапезную, среди всех братьев поделить. Понемногу и будет, а всё же прибавка к скудной монашеской пище.
Огонёк в ближайшей избе замигал и погас. Устали хозяева, пораньше спать легли: видно, тоже на ярмарку ездили. Ярмарка эта принесла монаху много хлопот, но и радости: не все были дома, но те, что успели вернуться, одарили монаха особо. День-то праздничный, люди навеселе: кто просто от яркого морозного солнца, кто от удачной покупки, а кто и от крепкого штофа. Не все дома, но с утра уже и сыт, и согрет монах, и сумка до отказа набита припасами. А всё же – зайти в тот дом, что с краю, хоть и небогат он с виду, а всё же не помешает.
У окна, затянутого парусиной, постоял монах, прислушался. Вроде тихо, ну да ладно, уже пришёл. Негромко постучал. Никто не отворил, а потому толкнул дверь, сразу окунувшись в тёплую мглу избы, почти не видя ничего из-за полутьмы. А потом, вглядевшись, различил нескольких ребятишек, сидящих на полу с полуоткрытыми от страха и удивления ртами, да слабо чадящую свечу на столе. Больше никого в хате не было.
– А где же мамка? – спросил монах.
Ребятишки застыли. Слабый, тоненький, дрожа-щий голосок ответил:
– В чулане, яблоки набирает.
Монах постоял, плотнее прикрыл дверь, привык глазами к темноте. В эту минуту, неся в руках лу- кошко с ароматно пахнущими яблоками, вошла женщина, вскрикнула, увидев монаха, но тут же и разглядела, засуетилась:
– Входи, входи, брат, гостю завсегда рады.
Он прошёл неторопливо к столу, но перед тем как сесть, перекрестил лоб и низко поклонился вправо, на едва различимую икону. Женщина застеснялась, потянулась подбавить масла в лампадке. Поставила хорошую свечу. Ребятишки уже не пугались, а с любопытством разглядывали гостя. Он подхватил маленького, совсем худого, лёгкого, посадил к себе, поиграл с ним. Хозяйка тем временем загнала детишек на печь и уже вынимала хлеб из полотна, ставила на стол миски, крошила яблоки.
– Да ты не суетись, не голоден я, – сказал монах, и голос его в дымном полумраке прозвучал совсем не сурово.
Женщина замерла на мгновение, а потом села напротив, устало подложила руку под подбородок, глянула на монаха:
– Одна я, вожусь с ребятишками. Никого больше нет.
Он ничего не спросил, но внезапно поднял мешок, развязал узел и достал тот кусок сала, что приготовил для Григория. Она застеснялась.
– Бери, – сказал монах, – и мне люди дали.
Дети жадно смотрели с печи. Хозяйка взяла нож, аккуратно, бережно разделила сало на части, порезала помельче, позвала детей. У монаха тепло стало на сердце, когда увидел дружно жующих малышей и маленького, которому мать, откусывая понемногу, вкладывала в рот кусочки.
Уходить не хотелось. Разморило, расслабило в тепле. Монах вытянул ноги, сбросил с плеч ставшую тяжёлой шубу. За окном вьюжило. Женщина подвинула лавку к лавке, сделав широкой лежанку, и чем-то накрывала сверху. Полусонный, монах следил за нею глазами. И по тому, как она составляла лавки, как делала постель мягкой и удобной, вдруг понял и задрожал мелко коленями.
Почему он не встал, почему не вышел? Словно вдруг мёртвый груз навалился на плечи, и все эти долгие дни, когда он брёл и брёл от деревни к деревне, от хутора к хутору, сейчас обессилили его. Невыносимая усталость придавила к скамье. Он хотел заставить себя, но не смог убежать в морозную ночь, опять стучать в уснувшие окна и, возможно, так и не найти ночлега. И тогда он отвернулся и больше не смотрел.
Свечу потушили, монах снял обувь и лёг. Но, удивительно, уже и не ждал, а словно бы точно знал, что она придёт, что сама только ждёт, чтобы крепче уснули ребятишки на печи…
Она соскользнула неслышно и прошлась по избе. «Сестра», – вдруг подумалось ему. И тёплым наполнилось сердце, захотелось прижать её к себе, но о грехе не думалось, а просто чтоб обняла. Она и обняла, склонившись над ним и уткнувшись в густую бороду, обняла так нежно, словно всю любовь собрала в этом объятии. Гладила по вискам, волосам, жарко переводя дыхание. Он положил её рядом, прижал к себе всю, не думая, не сомневаясь ни в чём, и целовал, целовал, целовал…
Монах остался. Просто остался, потому что, едва проснувшись, почувствовал, что эта жизнь, которая, как раньше казалось, ему не принадлежала, теперь может быть и его жизнью. Остался, потому что уже с утра она заполонила, захватила его бурной волной яркого шумного быта со звонким стуком пустых вёдер, мычанием коров, вознёй ребятишек. С голосом той, что согревала его ночью… И то, что ещё вчера казалось невозможным – что он не вернётся в монастырь, к братьям, вдруг стало простым и доступным. Он не засобирался утром, а вышел на просторный двор, огляделся и, громко ухая и смеясь, наколол дров на неделю, распарился, разгорелся на солнце, затем выскоблил начисто пахнущую несвежим бочку, наполнил её водой, выманил ребятишек на воздух. Женщина сновала тут же, молча, не говоря ни слова, но он все время видел её спину, и как она наклонялась, и сладкие воспоминания бередили сердце. Монах остался, потому что вдруг что-то открылось в нём самом, спали оковы, перестали давить им же самим наложенные на себя обеты. Освобождённый, он почувствовал себя счастливым и лёгким, как птица, и понял, что никуда не пойдёт, а вот тут и останется и будет мужем этой женщины.
Неделя прошла незаметно. В обыденной суете позабыл монах, кто он и куда стремился, а казалось, что вот тут и жил изначала, в этом доме, среди этих детей, рядом с этой женщиной. Легко и отрадно было ему, и не вспоминались, словно никогда и не существовали, монастырь, и перезвон колоколов, и тот особый, неповторимый стиль жизни, к которому он привык и который, как думал, никогда и ни на что не променяет. Перемена произошла так внезапно, что захватила его полностью, даже удивиться не успел, а уже весь влился в крепкий быт крестьянского дома.
Раннее утро будило его перекрёстным криком петухов, он спохватывался, вскакивал, спешил кормить, чистить, поить. Мужицкая сила его, невостребованная ранее, была теперь – ой, как нужна, и он чувствовал это и гордился собой. Всё его нутро, до этого спрятанное, жёстко заклёпанное в рамки суровой дисциплины, теперь распахнулось и ожило. Он и сам чувствовал, что живёт, и умилялся, думая об этом, и ещё более смягчался, глядя на детей и на женщину.
Она же, сама того не ведая, сводила его с ума ночными ласками, тихими, заводящими в омут такого блаженства, о котором он и не мечтал. Он и ждал этих ночей, предчувствуя тайное, трудясь рядом с ней, почти не разговаривая, потому что и слов было не нужно. «Сестра, Марьюшка!» – шептало сердце. Он так и любил её: как сестру и как возлюбленную, не умея понять и разделить.
Всё было хорошо, и вопрос «что дальше» не волновал, не тревожил монаха. Он ни о чём и не спрашивал, просто жил.
Перед воскресением женщина принесла ему новую одежду: штаны, рубаху. Улыбнулась, положила на лавку, ушла. Взялся монах переодеваться. Скинул подрясник, и вдруг оборвалось что-то в душе. Переодевается, а руки дрожат. Не обеты вспомнил, а что-то в нём самом затрепетало, запрыгало. «Как же это? Что же я делаю?» Почуял монах, что вместе с одеждой от чего-то в себе отрекается… Встал, по избе прошёлся, опять подрясник надел. Легче стало. Сел он тогда в угол, тот самый, в котором в первый вечер сидел, и задумался. О том, кто он и куда забрёл. Не понятно как, только увидел вдруг, что чужое всё, не его. Как же это? Огляделся. Дом как дом, стол, лавки, икона в углу… Вот оно! Икона! Лик Божий смотрит на него, в глазах – смирение. А у него нет смирения, нет и не было, потому что если бы смирение было, то радовался бы он той жизни, которую сам выбрал и о которой Богу обет дал. Нет, однако, другого захотел, запретного. И дело не в том, что нельзя ему жениться и семью иметь, а в том, что силы нет идти по пути, который изначала сам на себя взял. Нечестность, нечистота перед Богом получается. Не перед людьми: люди поболтают и забудут, и не перед собой даже, ведь себя всякий оправдает. Перед Ним, Всевидящим…
Плохо стало монаху. Закручинился он. Наклонился, достал свою сумку из-под лавки, встряхнул: пустая ли? – и пошёл. Не скрываясь, не прячась от женщины, а просто вышел из избы и направился прямо к дороге. Она не кричала, не плакала, не держала. Смотрела в спину остановившимися глазами. Любила. И он любил. И деток, и её саму, и весь этот дом, ставший ему родным. Но сильнее этого вдруг выросла в нём верность и стыд за то, что верность эта колеблется, и крепкое желание следовать за верностью до конца.
Он шёл и шёл, удаляясь от хутора. Дорога кружила, петляла, развозила под ногами жидким месивом. Но твёрже шагал монах. Особая духовная сила поднималась из глубин его существа и разливалась по всем членам. Он словно бы вспоминал её, эту силу, присущую ему всегда и составляющую его истинное «я». Потерянная в последние дни, она вновь возвращалась, и монах ликовал, ибо только сейчас узнавал себя настоящего, каким был всегда и каким привык себя ощущать. Распрямлялись плечи, глубже вдыхался острый предвесенний воздух. Хорошо становилось на сердце. И уже не стыд и горечь, а радость крепла в нём: радость, что понял свою ошибку и что хватило мужества исправить её.
Конечно, грех – он и есть грех, но главное, понимал монах, было не в женщине, – о ней он думал с теплом, – и не в том, что остался и жил там неделю. А в том, что в самом себе, в духе своём, изменил собственному пути. И потому сейчас, набирая шаг и устремляясь вдаль, ощущал себя монах вдвойне сильным, готовым всё преодолеть во славу Божью.
Уже вечер надвигался, когда присел монах отдохнуть. Просветлевшими глазами оглядел поля и окрестности. Не много человеку и надо, подумал. Малым обходится человек. Но пуще всего, важнее всего на свете – идти, не меняя шаг, по своей дороге!
Лодочник
Утро накрыло реку густой полосой тумана. Неживые, стояли камыши. Река застыла, и всё вокруг стало казаться мёртвым.
Он отвязал лодку от причала, бросил ветхую верёвку под сиденье и взялся за вёсла. «Кто первый сегодня?» – подумал вяло, и вгляделся в пустующий берег. Туман рассеивался, внезапный легкий ветерок понёс клочья облаков прочь.
На берегу показалась фигура: унылый длинный балахон, согнутые плечи. Лица не видно: многие из приходивших прятали свои лица, словно стесняясь лодочника, – последнего свидетеля их страданий. Приходили молча, молча садились в лодку и молча покидали её.
Но этот человек уже издали начал улыбаться, и это насторожило лодочника. «Сейчас начнёт торговаться, – догадался он, – станет просить, умолять, будто что-то зависит от меня». И досадливо поморщился.
Человек приближался. На его лице виднелись следы искупления – тех последних минут, когда он понял, что смерть неизбежна, и по-настоящему испугался. Словно полосы боли изрезали все черты, они исказились, и было трудно понять, молод или зрел человек.
– Здравствуй, лодочник! – поприветствовал он и согнулся, желая прыгнуть в лодку. – Перевезёшь на тот берег?