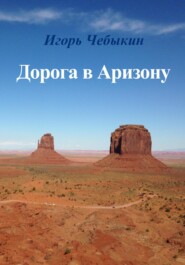скачать книгу бесплатно
Дорога в Аризону
Игорь Чебыкин
Главные герои: советские школьники и учителя, жители советского городка в Подмосковье; в конце книги – бывшие одноклассники, выросшие и изменившиеся, встретившиеся через много лет в изменившейся стране.Место и время действия: СССР, 80-е годы XX века; Россия, 90-е годы XX века (последние главы).
Игорь Чебыкин
Дорога в Аризону
Часть I
Глава 1
Город был маленьким и неприметным – один из тех городов, городков, деревень и поселков, что плотной стаей рыбешек-прилипал теснились вокруг исполина с рубиновыми глазами-звездами. Стая именовалась Подмосковьем. Неприлично близким соседством с прекрасным чудищем, которое держало на себе одну шестую часть суши, татуированную аршинными буквами "СССР", стая вызывала тяжелую зависть и досаду у прочих рыб, больших и малых, плескавшихся в отдалении – в не менее густонаселенных, но менее изобильных водах. По недалекому разумению далеких завистливых существ, соседство это позволяло шустрой подмосковной мелюзге ловчей и проворней хватать сладкие крохи и сочные куски, оставшиеся от царской трапезы. Да что там хватать, коли куски сами в рот падают, знай не зевай – рот подставляй. Натянутые струны рельсов и истерзанные асфальтовой проказой автотрассы, словно пуповины, связывали прожорливых малышей с кормящим их телом. По этим пуповинам сновали, вздрагивая на ухабах, автомобили. Тащились чадящие автобусы со скрипучими дверями-гармошками. Хулигански посвистывая, носились разбитные электрички. В этих автомобилях и электричках сидели люди, которые везли из Москвы пахучие колбасные торпеды с морщинистой шкурой; пузатые жестяные шайбы с утыканной перьями головой надменного индейца в профиль и надпиcью CAFE на загорелых боках; туго набитые бумажные пакеты с конфетами, неизменно рвущиеся по дороге и роняющие в недра сумок и карманов россыпи карамели "Раковая шейка" и чудных батончиков "Рот Фронт", чья податливая плоть вводила в искушение даже ответственных товарищей и безответственных диабетиков; богемские хрустальные вазы, коих само сокрытое в них слово "Бог" обязывало издавать райский перезвон. Тем же курсом следовали их хмельные толстозадые соплеменники – расфранченные, будто деревенщина в праздник, бутылки с чешским пивом, то ли вякающие, то ли звякающие при встрече друг с другом что-то глупое, но доброе; любезные мужскому глазу крохотные белые коробочки с прорезью, как в почтовом ящике, откуда, повинуясь властному движению большого пальца, выскакивали нарядные конвертики со сменными лезвиями Wilkinson Sword и Feather; бирюзовая кафельная плитка с лазоревыми прожилками; жеманные польские духи, отчаянно пытающиеся подражать французским; стянутые резинкой для волос упаковки анальгина; драгоценные томики Пикуля и Дрюона… И много других красивых, вкусных и нужных вещей везли советские люди из Москвы в свои дома, где людей встречали их близкие, тихо восторгаясь приносимыми дарами.
Нельзя сказать, что люди не могли прожить без этих вожделенных вещей и вещиц, нареченных в ту пору дефицитом и объявленных в розыск. Напротив, жители находящейся под присмотром рубиновых глаз страны в большинстве своем давно научились довольствоваться в повседневной обыденности тем, что им было доступно и дозволено. Некоторые обходились и без дефицитных лекарств, а кое-кто – и без книг. И ведь не просто выживали, но, как и многие из их более требовательных к телесному и духовному корму соотечественников, ухитрялись, тем не менее, ощущать всю полноту и прелесть своей внешне скромной жизни и испытывать моменты подлинного счастья. Даже если не всегда хотели себе в том признаться или просто не могли того постичь. Люди работали, рожали, растили, любили и предавали, спасали и убивали, заводили врагов и бросали друзей, делали глупости и великие открытия, накрывали стол и преломляли хлеб, зимой исступленно желали лета, а летом расслабленно мечтали о белом и чистом, словно ангел, снеге. В общем, жили так же, как жили люди во все века, попеременно прикладываясь к сладостной и горькой чашам бытия, которые предусмотрительно меняла чья-то невидимая сильная рука.
Что, впрочем, не мешало людям, как и во все времена, желать лучшей, по их мнению, доли и гнаться за ней, не разбирая дороги и не жалея сил. Не была исключением и погоня за дефицитом в те времена и в той стране, о которых пойдет речь. Находились среди людей те, кто посвящал жизнь этой погоне – лихорадочной, неустанной и ненасытной. Но были и те, кому дефицит перепадал время от времени, обычно – по воле случая, и кто радовался этому, как радуется охотник редкой диковинной добыче – не столько ее сочному мясу и мягкой шкуре, сколько собственной удачливости и расторопности.
Для удачной охоты за ускользающим дефицитным зверем мало было иметь честно заработанные деньги и жилистые ноги марафонца, незаменимые в длинных очередях. Мало было жить под боком у Москвы, а то и, страшно сказать, в самой Москве. Всего этого было явно мало. При таких исходных данных шансы претендента на главный приз были, как у всех. То есть, не выдающиеся. Гораздо выше ценились умение подобраться к потаенным пещерам с дефицитными сокровищами и завоевать расположение стражей-товароведов знанием имен-паролей, открывающих доступ к заветным сундукам, которые в соответствии с духом времени приняли причудливые формы коробок, стеллажей и холодильников.
Золотая жила дефицитных товаров выходила на поверхность кое-где и в других городах огромной страны, но лишь Москва имела славу волшебного места, где при условии благосклонности небес и наличия влиятельных знакомых можно было достать все. Абсолютно все. Даже оленьи язычки – полумифическое лакомство, о котором ученик подмосковной школы Перстнев по прозвищу Перс как-то поведал своим приятелям-одноклассникам. После уроков компания развалилась на траве у школьного футбольного поля, скрытая от посторонних глаз лохматой стеной кустов. Перс курил стянутую у отца сигарету "винстон" и рассказывал про то, как его родитель – далеко не последний человек в местном горкоме партии – принес на днях домой несколько жестяных коробчонок с маринованными оленьими язычками. Теми самыми, про которые по телевизору трепались два комика из Одессы: один – высокий, носатый, важный, с лицом директора всего на свете, другой – маленький, похожий на мартышку. Гастрономическое диво Перс-старший раздобыл в Москве в одном из тех былинных закрытых буфетов, куда простым смертным вход был заказан, как богатеям – в Царствие Небесное.
"Ну, и как они, язычки-то?", – спросил Перса-младшего один из парней, лелея надежду, что ему оставят немного "винстона".
Перс с удовольствием выдохнул табачный дым прямо в лицо вопрошавшему, ухмыльнулся своей фирменной нагловатой ухмылкой и ответил: "Язык проглотить можно!".
Глава 2
Отец Персу попался, конечно, отменный. Для своего отпрыска он был одновременно и солнцем, ясным и благодатным, и звездой, под которой посчастливилось родиться, и твердью земной, на которой Перс-младший стоял, широко расставив ноги в импортных джинсах, и беззаботно глядел в светозарную даль. Там, вдали, по мере приближения выпускных экзаменов все более явственно виднелись золотая школьная медаль и студенческий билет одного из тех знаменитых столичных вузов, чьи магические аббревиатуры, как и полагается всему магическому, включали в себя буквы М и Г. Одним словом, Перс-старший был для Перса-младшего всем – настоящим и будущим.
Толик Топчин, он же – Тэтэ, главный остряк класса, называл отца и сына Перстневых Дарием и Ксерксом. Впервые услышав этот пассаж, юный вспыльчивый Перс обозлился, ибо счел его очередной дерзкой насмешкой классного шута. Но, уразумев, что речь идет о достославных персидских царях, состоявших в прямом родстве, остыл и впредь воспринимал монархические прозвища более благосклонно.
Хотя царственного в облике Перса-старшего было немного. Алексей Павлович Перстнев, энергичный толстяк с потными кляксами, в любое время года украшавшими спину и подмышки его тесных сорочек, был одинаково со всеми обходителен и одинаково малодоступен для всех. Кроме начальства, разумеется. Только начальство могло часами наслаждаться обществом товарища Перстнева в своих тронных залах с обитыми малиновым кожзаменителем вратами. Коллегам же, равным Перстневу по статусу, не говоря уже о подчиненных, оставалось лишь ловить вечно куда-то спешащего Алексея Павловича в коридорах или на порогах кабинетов. Пойманный Алексей Павлович послушно притормаживал, но не в силах противиться напору своего неутомимого тела, продолжал маленькими шажочками, медленно и упорно продвигаться вперед, на ходу внимая собеседнику. Собеседник, чувствуя себя ничтожеством и репейником приставучим, торопливо излагал суть дела. Алексей Павлович, слушая эту ерунду, напряженно-недоумевающе всматривался в лицо человека, ворующего у него время, мелко и часто кивал, угукал, как игрушечный филин, и, вырвавшись, наконец, из пут навязанной беседы, со словами "Я все понял! Решим!" возобновлял свой резвый бег. О только что состоявшемся разговоре он, как правило, тут же забывал.
Перс-старший относился к той распространенной категории средней руки начальников, которые и в состоянии полной амнезии способны помнить в мельчайших деталях приказы руководства и просьбы так называемых нужных людей, но при этом никогда не захламляют свою память просьбами людей маленьких, зависимых, бесполезных, которых Алексей Павлович называл гарниром. Именно это свойство взыскательной натуры горкомовского деятеля и сгубило в итоге старика Васяткина – убеленного сединами инструктора из возглавляемого товарищем Перстневым отдела пропаганды и агитации. До пенсии Васяткину было ближе, чем президенту Рейгану до геенны огненной, причем скорейшего наступления первого из этих двух событий работники горкома желали сильнее. Ветеран идеологического фронта Васяткин, несмотря на груз прожитых лет, имел прямую спину и твердый голос, полагая себя по-прежнему опасным для женского пола, лукаво пошучивал с молодыми сослуживицами, два раза в день заваривал себе индийского чаю I сорта в тусклом граненом стакане и любил рассказывать коллегам об одном из поучительнейших эпизодов своей насыщенной пропагандой и агитацией жизни – о разговоре с товарищем Хрущевым. Этот яркий, как столкновение двух комет, случай произошел в ту пору, когда товарищ Хрущев был первым человеком в Кремле и строил коммунизм на вверенной ему территории, а товарищ Васяткин, бригадный парторг и редактор стенгазеты, – стадион на десять тысяч мест в подмосковном райцентре. Васяткин и тогда был таким же статным и звонким, только более молодым, вихрастым и невыносимо притягательным для женщин. Женщины обожали его за отсутствие робости и умение поразить собеседника. Именно этими качествами молодой Васяткин и блеснул в разговоре с Никитой Сергеевичем, который однажды пожаловал на стройку, дабы встретиться с народом. Обсудив будущие трибуны красавца-стадиона, Никита Сергеевич и народ плавно перешли к высоким трибунам международной политики. Вот тут-то наш отважный Васяткин и вышел на авансцену истории, заявив, что лично он, как парторг и советский человек, полностью поддерживает и недавнее выступление Никиты Сергеевича в ООН, и ботинок в его руке. Более того, полагает, что для вящей убедительности этим крепким советским ботинком не мешало бы еще и запустить в воющую стаю западных политиканов – кого-нибудь из них это наверняка заставило бы замолчать. Партийно-хозяйственная челядь за спиной у товарища Хрущева на этих словах обмерла, Никита же Сергеевич лишь хмыкнул и широко улыбнулся. "Горячий хлопчик! – сказал он рабочему люду, одобрительно кивая взмокшей лысиной в сторону Васяткина. – Нет, дорогой товарищ, я понимаю и разделяю ваши гневные чувства, но нельзя швыряться ботинками в президентов на глазах у всего мира. Иначе это будет не международная политика, а какой-то вертеп". "Политика Запада и есть вертеп", – резонно ответствовал Васяткин, вызвав дружный смех у строителей и Хрущева и облегчение у его свиты. Прощаясь, Никита Сергеевич, по словам Васяткина, пожал ему руку и заметил: "С такими, как ты, парторг, мы точно коммунизм построим!".
Коллеги без пяти минут пенсионера Васяткина, в Бог знает какой раз слушая сию байку, не верили ни одному слову из нее, но старались этого не показывать. В конце концов, Васяткин был хоть и несуразным, но безобидным и, к тому же, преданным своему бумажному делу кротом: всю плановую и отчетную макулатуру он сдавал точно в срок и единственный из всего отдела не заискивал перед Перстневым с момента назначения того заведующим. Так бы и дожил Васяткин благополучно до пенсии, если бы на старости лет не потянуло его на заморские лакомства. Узнав как-то, что товарищ Перстнев отправляется на днях с партийной делегацией на южные рубежи социалистического лагеря, старик, просидев в засаде не один час, поймал-таки шефа на повороте горкомовского коридора. "Алексей Павлович, дорогой, я слышал ты во Вьетнам едешь, – смущенно улыбаясь и покашливая, молвил Васяткин. – У меня к тебе просьба, так сказать, частного характера. Если тебя не затруднит, будь добр – привези мне манго, хоть пару штучек. Уж больно вкусная, я слышал, вещь. Не подумай – не для себя прошу: внучат хочу порадовать. А деньги я тебе потом сразу отдам – сколько скажешь".
Слово "манго" старик произносил так, как индусы поют священные мантры, как мужчина шепчет имя любимой женщины: нежно сдавив губами звук "м", отчего тот начинал вибрировать и наполняться страстью, в следующий миг старик выпускал все слово на волю, и в воздухе таял шлейф горячего выдоха. Несомненно, Васяткину очень хотелось манго.
Перстнев ласково пожал плечо старика, ответил: "Все понял, привезем!" и скрылся за поворотом. Общаясь с маленькими людьми, отвечая на их маленькие вопросы и раздавая им немалые обещания, Алексей Павлович постоянно оперировал глаголами в форме первого лица множественного числа – "привезем", "сделаем", "работаем", "подумаем", "решим". Будто говорил не от собственного имени, а от имени группы товарищей. Неизвестно, был ли в этом какой-нибудь умысел со стороны Алексея Павловича, но просителю становилось приятно: у него появлялось ощущение, что его вопросом будет заниматься не один человек, а много больших и умных людей, которые, конечно, решат его проблему.
Однако из Вьетнама товарищ Перстнев вернулся без всяких манго-обманго, сославшись на невероятно напряженный график поездки, и в утешение подарил огорченному Васяткину календарик с видом дельты Меконга. Торжественно пообещав, тем не менее, исполнить наказ в следующей же подобной командировке. Следующим тропическим пунктом назначения в программе партийных вояжей реактивного завотделом пропаганды и агитации значилась чарующая Куба. Уже обжегшись на молоке легковесных обещаний начальника, на сей раз Васяткин дул на воду, усердно раздувая щеки: перед поездкой он несколько раз хватал Алексея Павлович под уздцы в разных закоулках горкома и, смущаясь и ненавидя себя все сильнее, напоминал ему о своей стариковской просьбе. Алексей Павлович ронял ободряющее "Помним, не волнуйся!" и, в конце концов, отбыл в западное полушарие, оставив своего ветхозаветного подчиненного в состоянии относительного душевного покоя.
Первым, кого Перстнев увидел по возвращении с острова социалистических сокровищ в родную горкомовскую обитель, был, как несложно догадаться, все тот же Васяткин: назойливый старец поджидал патрона на ступенях у входа. При виде долгожданного Перстнева лицо его осветилось счастливой улыбкой и, стараясь смотреть в глаза Алексею Павловичу, а не на портфель и пакеты в его руках, где, заметим, покоились подарки для начальства и нужных людей, но уж никак не для постылого Васяткина, партийный ветеран всем телом радостно подался навстречу завотделом, став похожим на отца, встречающего блудного сына. Узрев этот слюнявый восторг, Перстнев в долю секунды вспомнил о своем обещании, благополучно забытом на кубинских широтах. Можно было, конечно, опять отделаться от старика торопливыми извинениями и сетованиями на тяжкий удел командированного номенклатурного бойца. Однако Алексей Павлович, чувствуя, как в нем поднимается раздражение к этому допотопному пугалу у входа, решил одним молодецким ударом разрубить гордиев мангов узел, отбив впредь у старика охоту лезть к нему со всякой плодово-ягодной чепухой. Пожав сухую длань Васяткина, Алексей Павлович сменил приветливое выражение лица на удрученное, безнадежно махнул рукой, вздохнул и сказал: "Извини, старче, – неурожай". После чего скрылся за гостеприимными дверями горкома.
Васяткин несколько минут ошалело мигал, уставившись в засаженную бархатцами узорчатую клумбу. Затем, как-то внезапно одряхлев и впервые в жизни сгорбившись, развернулся и побрел на свое рабочее место. Лицо у него при этом было белым и серым одновременно – словно муку смешали с пылью. В течение всего дня Васяткин оставался непривычно тихим и отрешенным, не пил чай, не шутил с женщинами, смотрел не в бумаги, а как бы сквозь них, на вопросы теряющихся в догадках коллег о самочувствии отвечал односложно-отрицательно, уходя домой, забыл в шкафу зонт и, что уже совершенно непостижимо, не то, что не простился по обыкновению с каждым из коллег лично, но и вообще не сказал никому "До свидания". Тем же вечером дома у него случился обширный инфаркт. В больнице Васяткин пробыл почти до ноябрьских праздников. Сослуживцы думали, что он не выживет, и даже позвонили на кладбище, отдав необходимые распоряжения относительно участка под могилу, но старик выжил. Однако в горком уже не вернулся. После выписки его отправили дожевывать предпенсионный хлеб в один из районных собесов, где Васяткин, в конце концов, и истлел.
Глава 3
Брешь, которую сгинувший Васяткин оставил после себя в сплоченных рядах работников отдела пропаганды и агитации, пустовала недолго. Перстнев быстро заполнил ее бойким молодым человеком из горкома комсомола, чье левое ухо постоянно горело, как семафор, тревожным красным светом. "Это вас, Жорик, кто-то хорошо вспоминает, – кокетливо говорили молодцу горкомовские матроны. – Вот если у человека горит правое ухо, значит, о нем кто-то плохо думает. Примета такая".
Перстнев не просто так облагодетельствовал красноухого: он вообще ничего не делал просто так. Молодой человек обладал ценными качествами, которые не могли остаться незамеченными искушенным горкомовским царедворцем. Во-первых, отец Жорика работал директором местного мясокомбината, и дружба с таким человеком была не лишней даже для привычных к мясным деликатесам партийных дожей города. Во-вторых, что более важно, этот самый отец-мясник, как выяснилось, имел хороших знакомых не где-нибудь, а в кругах, близких к руководству московским зоопарком. Товарищ Перстнев и члены его семьи уже вышли из того золотушного возраста, которому присущи грезы о бесплатном и беспрепятственном доступе к зоопаркам, каруселям и кино. Однако прочные связи в боготворимом детворой всего Советского Союза зоопарке товарищу Перстневу представлялись, несомненно, необходимыми и полезными. Какую именно пользу могли принести товарищу Перстневу зебры, жабы, красные волки и белые медведи, он пока не знал. Но догадывался, что у их наделенных руководящими полномочиями человеческих собратьев, конечно, имеются свои хорошие знакомые в престижных учреждениях и высоких кабинетах города Москвы. И не только Москвы. У влиятельных людей не может не быть влиятельных друзей – твердо помнил завотделом пропаганды и поспешил свести через подмосковного владыку филейных частей и печенки знакомство с многоклеточным зоопарковым начальством. Дальновидный и основательный человек был Алексей Павлович Перстнев. Не только служебную карьеру, но и всю жизнь свою он уподоблял лестнице, где ступеньками были люди, на которых можно было опереться и подниматься все выше. Если бы Алексея Павловича спросили: "А что там – на самом верху этой лестницы? Пустота, звездная бездна или, может быть, зеркальный потолок с дефицитным югославским плафоном?", он бы ответил: "А вот поднимемся – и узнаем. Главное – подниматься".
Обладателю разноцветных ушей Жорику, в чьей благодарной преданности Перстнев не сомневался, в этой лестнице была уготована роль одной из нижестоящих ступенек, призванных поддерживать своего покровителя в необходимые минуты. А ступенькой повыше был тайный покровитель самого Алексея Павловича – матерый вельможа из московского обкома, уже не первый год обещавший перетащить перспективного Перстнева в столицу к себе под крыло. Надо было лишь дождаться, пока представится удобный случай и освободится согретое тучным партийным задом кресло. Алексей Павлович был готов ждать, сколько потребуется, тем паче, что столичный благодетель заботливо скрашивал ему томительное время ожидания и, словно господин, балующий любимого лакея, регулярно баловал своего подмосковного протеже греющими руки и душу подарками, в том числе – загранпоездками в братские страны в составе всевозможных партийных делегаций. Причем, бескорыстный обкомовец в таких случаях не всегда покидал пределы Родины вместе с Перстневым и в отсутствие Алексея Павловича навещал его жену – молодую еще женщину с начинающей расплываться фигурой и холодным скучающим взглядом. Все дни напролет она обычно предавалась одному из двух любимых занятий, что составляли существо ее жизни: сплетничала в горкомовской парикмахерской вместе с другими партийными женами либо, листая журнал "Советский экран", пила чай с "птичьим молоком", пока домработница, которая, как говорили, на самом деле была дальней родственницей Перстнева, прибиралась в их раздольной четырехкомнатной квартире.
Алексей Павлович, конечно, не знал о визитах, которые наносит его супруге обкомовский покровитель. А, может, и знал, но, как человек мудрый и интеллигентный, Отелло из себя не строил. Не собирался Алексей Павлович ради такого абстрактного понятия как "честь", придуманного болтунами из канувшего в Лету никчемного дворянского сословия, самолично топтать любовно взращиваемый и оберегаемый им розан карьерного благополучия, которому суждено было в итоге расцвести, как гоголевскому папоротнику, дивным жарким цветом и озолотить своего хозяина.
К тому же, признаться откровенно, Алексей Павлович и сам не был агнцем непорочным. Частенько склонял он усталую голову на античную грудь своей горкомовской любовницы – румяной хохотушки Вали из общего отдела. Которая, в свою очередь, щедро делилась с верховным начальником Алексея Павловича – первым секретарем горкома – всей интересующей того информацией о товарище Перстневе. Да только, если б и хотела Валя, все одно не смогла бы запятнать сверкающие доспехи перстневской репутации: Алексей Павлович слыл не только образцовым служакой, но и в высшей степени осторожным существом – лишнего не болтал, душу свою никому не открывал, и о том, что гнездилось в этой душе, знал только Бог, в которого Перстнев не верил. Не верил он и в ту пропагандистскую заумь, которую подотчетный ему отдел проповедовал пастве. Он верил только в свои силы, талант и изворотливость, гарантирующие персональное светлое будущее самому Алексею Павловичу и его сыну, Персу-младшему, – единственному на свете человеку, которого товарищ Перстнев любил и с которым связывал все свои надежды после того, как самым трагическим и непредсказуемым образом потерял старшего сына от первого брака.
Старший сын Алексея Павловича, красавец и умница, в школьные годы с легкостью покорял сердца девушек и математические олимпиады. Со сверстниками он держался, как с ровней, ничем не проявляя перед ними ни своего партийно-аристократического происхождения, ни звания отпетого отличника, за что его уважали и сами сверстники, и учителя. После школы перед юношей были радушно распахнуты неприступные двери элитного столичного института. Распахнуты они были стараниями отца, чей горкомовский титул тогда еще был снабжен наростом в виде приставки "зам" – замзавотделом. От сына-медалиста требовалось лишь сдать на "отлично" один-единственный экзамен, что, учитывая несомненные способности парня и надежные страхующие связи отца в деканате, было делом практически решенным. "Алексей Павлович, считай, что он уже зачислен", – говорили отцу плешивые ангелы-хранители из приемной комиссии.
Одним словом, все шло строго по заданной программе, все системы и приборы функционировали нормально, пилоты и автопилоты полностью контролировали ситуацию, впереди, надвигаясь и увеличиваясь в размерах, сияли теплые огни приветливого аэропорта. Катастрофа случилась в самый последний момент, за считанные дни до вступительного экзамена. Не известив отца, сын внезапно забрал документы из столичной альма-матер и уехал поступать в артиллерийское училище. Причем, не в какое-нибудь престижное, а в обычное, рядовое (хоть и командное), куда поступали обычные сыновья обычных отцов. Возможно ли было более смачно плюнуть в душу члена партии, блестящие номенклатурные перспективы которого слепили глаза сослуживцам?!
Когда Алексей Павлович узнал о демарше сына, у него закололо сердце. До этого момента если что и кололо орошаемое неиссякаемым потом гладкое тело товарища Перстнева, так только маленькие булавочки, неосмотрительно забытые в его новых импортных рубашках. Целую неделю Алексей Павлович, выехавший на место происшествия, умолял сына одуматься и вернуть все на круги своя. Его мольбы были так страстны, искренни и убедительны, что могли бы разжалобить памятник Ленину, воздвигнутый перед входом в училище. Стенания Приама, умоляющего Ахиллеса вернуть тело павшего сына, показались бы на этом фоне невнятным бормотанием. Однако юный упрямец оставался непреклонен. Алексей Павлович сменил мольбы на угрозы, поклявшись здоровьем всех членов ЦК КПСС использовать свои могущественные связи для того, чтобы сына завалили на вступительных экзаменах. Хотя, напомним, еще совсем недавно намеревался использовать эти же самые связи в прямо противоположных целях. На ультиматум сын ответил контрультиматумом, пообещав в таком случае отправиться техником на метеостанцию в Заполярье. Или на Командорские острова. Или в туркменские пески. Или наняться на торговое судно и двинуть хоть к черту в глотку – лишь бы сбросить с себя ярмо отцовской воли.
Алексею Павловичу пришлось смириться и отступить на запасный путь. Свою бронебойную энергию он употребил на то, чтобы подготовить сыну по окончании училища уютное место где-нибудь в штабе в Москве или Ленинграде, откуда впоследствии намеревался протолкнуть его в военную академию имени Фрунзе. Однако неблагодарный сын срубил под корень и это дерево надежды, посаженное отцом. Получив лейтенантские погоны, сынок вновь явил миру неуместный гонор и по собственному почину вместе с женой, выпускницей пединститута, уехал в таежную глухомань на 54-й параллели, где медведей водилось больше, чем людей. В нечастых, но регулярных письмах оттуда сын, продолжая вонзать иглы в истерзанное сердце отца, с глуповатым умилением описывал прелести своего нынешнего дремучего существования: комнату в барачного вида офицерских хоромах, благодарность от командования за безупречно проведенные стрельбы, сказочную 11-метровую ель, которую они бэтээром притащили из тайги и установили перед клубом на Новый год. А еще писал про то, как искрится звездами заиндевевшее ночное небо, а по утрам горячее золото восходящего солнца растекается по хвойной глади таежного океана и окрестным горным склонам. Назвать все это жизнью, тем более, хорошей, Алексей Павлович, разумеется, не мог. Он считал это изнанкой жизни, а место службы сына – изнанкой страны. Алексей Павлович понял, что потерял старшего наследника. Вину за это он целиком и полностью возлагал на его мать, с которой развелся за несколько лет до вероломного побега сына-абитуриента из столичного парадиза в ощетинившийся пушками артиллерийский тартар. Причем, бывшей супруге с ее идиотским романтизмом Перстнев вменял в вину не то, что она воспитывала сына неправильно, а то, что она воспитывала его слишком правильно. Глубинного смысла этого парадокса, как и своего собственного вклада в дело воспитания сына, который после развода родителей остался с отцом и молодой мачехой, Перстнев предпочитал не касаться.
Иногда сын-артиллерист, звездочки на погонах которого множились неохотно, а волевая складка на переносице становилась все глубже, наведывался к отцу в отпуск. И всегда делал это неожиданно, без предварительного звонка или письма. Но почти всегда ухитрялся заставать дома неуловимого на работе родителя. Встречи были короткими и неловкими. Сын уверенными движениями еще трезвого Деда Мороза из профкома выкладывал на стол таежные гостинцы – кульки с кедровыми орехами и крупнокалиберной голубикой, банки с солеными грибами и медом цвета темнеющей бронзы. Перстнев и сын пили чай и коллекционный армянский коньяк, улыбались друг другу и старательно пытались соорудить какое-то подобие родственного разговора, однако улыбки были слишком широкими, а беседа – слишком натянутой. Не помогал даже коньяк. Наверное, отцу помимо груза былой ссоры мешало присутствие невестки – худенькой большеглазой девушки, которой Алексей Павлович за всю жизнь не сказал ничего кроме "Тапки наденьте, пожалуйста, – у нас паркет". А сыну, тяжело переживавшему в детстве развод родителей, мешало присутствие второй жены отца, чье лицо заметно оживлялось при виде оборотившегося добрым молодцем пасынка. Только с единокровным младшим братом гость держался естественно и свободно: шутливо тыкал его кулаком в живот, проверяя пресс, расспрашивал об учебе, рассказывал о нагрудных знаках у себя на кителе. Допив чай, но не коньяк, старший сын смотрел на запястье с "Командирскими" часами и поднимался из-за стола: "Извини, пап, не хочется расставаться, но пора. Мы спешим". Отец никогда не пытался его удержать: он знал, что сын, действительно, торопится повидать оставшихся в городе школьных друзей, а затем уехать к матери, вернувшейся после развода в родной Ярославль. Там сын с невесткой и проводили весь отпуск. Деньги, которые Перстнев интимным, смешанным с коньяком полушепотом предлагал сыну перед уходом, тот никогда не брал.
Глава 4
Из русских сказок Алексей Павлович знал, что дураком обычно бывает младший сын, но не сомневался, что в его сказке, обязанной стать былью, все будет наоборот. Младший сын, которого Алексей Павлович в домашней обстановке в шутку называл цесаревичем, не должен повторить кошмарных ошибок старшего. Алексей Павлович не позволит ему этого. Не позволит, как старшему, вырасти романтичным голодранцем, плюнуть в уготовленный ему мраморный колодец личного благополучия, опозорить отца в глазах знакомых и начальства, наконец. Поэтому воспитание младшего сына товарищ Перстнев с самого начала прочно взял в свои цепкие пухлые руки.
"Человек должен заботиться о себе, о собственной сохранности и комфорте, – наставлял он младшего отпрыска. – Если, конечно, он умный человек, а не китайский болванчик. Вот вам в школе говорят о коллективизме, товариществе, один за всех и все за одного?.. Говорят?". – "Говорят". – "И правильно говорят! Совершенно правильно! Но что это означает? В чем тут суть – вот что важно понять, дружочек. А это означает, что человек, думая о коллективе, должен, в первую очередь, думать о себе. Потому что коллектив – это не бесформенная масса, не каша с изюмом. Коллектив – это конкретные люди. Как в песне: "Я, ты, он, она, вместе – целая страна!". Советский человек не может, не имеет права безответственно относиться к себе, своей жизни, здоровью, к тому, что позволяет ему жить хорошо и удобно. Потому что потеря каждого конкретного человека – это потеря для всего коллектива и, в конечном итоге, для всей страны. А если все перестанут думать и заботиться о себе, если все начнут бросаться на амбразуры, что будет, а? А ничего не будет! Ничего и никого! Армия разбита, коллектива нет, задача не выполнена, страна беззащитна". "А Матросов? – озадаченно вопрошал Перс-младший. – Ведь он бросился на амбразуру… Значит, он не герой? Значит, он подвел коллектив?". – "Что ты!.. Никогда так не говори, глупый! Конечно, Матросов – герой! Всем героям герой! Но герои потому и герои, что их не может быть много. Их единицы – тех, кто должен принести себя в жертву ради других. В этом их предназначение, сын, их исключительность. А теперь представь, что в том бою на амбразуру бросился не Матросов – зеленый солдат, для которого тот бой, между прочим, был первым в жизни (вам это говорили на уроках?), а командир батальона, перед которым была поставлена задача выбить немцев из укрепления. Что тогда было бы? А тогда наши солдаты остались бы на поле боя без начальника, что могло привести к их массовой гибели, предрешить исход боя и позволить фашистам перейти в контрнаступление. Видишь: поступок один и тот же – человек закрыл своим телом дзот, а какие разные последствия. В первом случае человек совершил подвиг, во втором – должностное преступление, забыв о своей ответственности перед коллективом.
Каждый человек должен знать свое предназначение. Вот ты, например, не можешь, не смеешь жертвовать собой ради других, запомни. Потому что у тебя другое предназначение. Ты другой. Я всегда это тебе говорил и говорю. Ты будешь командиром, большим командиром, очень большим, не то, что твой упертый братец. И потому ты должен беречь себя и во всем слушаться меня. Только никому не говори о том, что я тебе рассказываю, ладно? Я говорю это только для тебя. Чтобы ты понял".
Младой Перс схватывал отцовскую науку, как голодный птенец – долгожданную снедь. Он рано понял, что он особенный – лучше, чем его ровесники. И принял это как непреходящую закономерность окружающего мира – такую же, как смену дня и ночи или победы сборной Советского Союза по хоккею. Приняли это и его сверстники, хотя Перс, надо отдать ему должное, именем своего ясновельможного отца козырял редко, ябедой не слыл и без особой нужды спеси ходу не давал. Да и вообще он был славным, добрым мальчиком. Приятелей, которые иногда приходили к нему в гости (отец не возражал, так как знал, что в квартире всегда есть кто-то из взрослых – жена или домработница), Перс так самозабвенно поил пепси-колой и "фантой", не переводившимися в его монументальном холодильнике, что приятелей после этого можно было выкатывать из квартиры, как переполненные пивные бочонки, булькающие и пенящиеся внутри. Столь же щедро Перс осыпал одноклассников вожделенными обертками и вкладышами от жвачек Bubble Gum, хранящими божественный заокеанский аромат и сцены из жизни полоумной голливудской утки. Эти обертки мальчишки хранили месяцами и годами с таким трепетом, которому могли бы позавидовать священные свитки Торы и шедевры живописи из собраний Лувра и Эрмитажа. Иногда Перс милостиво дарил друзьям и сами жвачки, которые в младших, а порой и средних классах переходили из уст в уста вместе с рассказами о широте души одноклассника.
Еще в начальной школе Перс был единодушно признан сверстниками неофициальным лидером класса. Этот заслуженный венец он уверенно и с достоинством нес на протяжении неполных девяти лет вплоть до своего Ватерлоо зимой 1984 года. Конечно, одного лишь влиятельного отца и дареных жвачек для завоевания истинного авторитета у пацанов было явно недостаточно. Во все времена самые грозные и всесильные отцы в глазах пацанов были, по большому счету, плевком на асфальте в сравнении с крепкими кулаками и дерзостью одноклассника. И того, и другого у рослого импульсивного Перса был полный боекомплект. Если он дрался, то дрался остервенело и безжалостно, ибо сама мысль о том, что кто-то осмеливается употреблять против него физическую силу, представлялась ему невыносимо оскорбительной. Впрочем, и заядлым драчуном он тоже не слыл, боясь получить от отца нагоняй и штрафные санкции в виде временного отлучения от велосипеда, а позднее – от мопеда. К тому же, устраивать мордобой без особого повода стремительно мужавшему Персу становилось все более лениво. Зачем, если все и так признают его неоспоримое верховенство? Включая учителей.
Сказать, что учителя безбожно завышали сыну товарища Перстнева оценки и за шкирку вытягивали его успеваемость на уровень неизменно отличных оценок в каждой четверти и по итогам года, было бы преувеличением. Знания у Перса были вполне пристойные: сказывалась работа репетиторов, которыми отец истязал его с малолетства. Однако в тех случаях, когда ответы, контрольные и диктанты Перса чуть-чуть, может быть, самую малость не дотягивали до справедливой четверки или пятерки, ему все же ставили четверки и пятерки. Язвительный Тэтэ в таких случаях говорил в кулуарах, что Персу опять подложили гирьку – как продавцы на рынке кладут на весы чугунные гирьки, укрощая взбрыкивающую стрелку. Другим ученикам на такие гирьки рассчитывать приходилось гораздо реже: законы в специализированной, с углубленным изучением английского языка школе, лучшей по всем отчетным показателям школе при гороно (хотя гороно располагалось на соседней улице) были суровые.
Более того, в это трудно поверить, но Персу была доступна и самая главная привилегия, какой только мог пользоваться мальчик в стенах советской школы – свободно разгуливать по коридорам и классам в кроссовках. Не в нелепых комнатных тапках с люмпенскими дырами на носах и стоптанными задниками, и даже не в кедах, а в шикарных кроссовках, этих крылатых сандалиях Гермеса с надписью Adidas, которые зимой служили Персу сменной обувью, а весной и осенью – просто обувью, единственной и незаменимой. Другие мальчишки тоже, случалось, попирали школьный паркет кроссовками и кедами, но лишь – до первой встречи с учителями, после чего вновь покорно всовывали ноги в ненавистные колодки-тапки и получали в дневник карающую запись. Перса же с его кроссовками учителя не прессовали. Или не персовали.
Какие-нибудь непосвященные и не в меру ретивые дежурные на входе в школу, в чьи обязанности входило следить за соблюдением ритуала переобувания перед началом уроков, пытались было преграждать путь непереобутому Персу. Но тот спокойно отстранял их и со словами "Убери культяпки свои, козел, а то вломлю сейчас!" триумфально и с достоинством, словно Цезарь – в Рим, входил в здание.
Все эти поблажки и привилегии, несущественные для стороннего человека, но весьма ценные в глазах школьников, вкупе с меткими кулаками Перса и нескончаемой вереницей дефицитных трофеев, коими была насыщена жизнь сына партийной шишки и которые не могли укрыться от зорких глаз сверстников, служили залогом неприкосновенности его статуса классного лидера. В младших и средних классах этот статус был неоспорим исключительно для представителей мужского сословия с его потребностью в вожаках стаи и жесткой иерархии. Когда же с течением времени за дело по-хозяйски взялась мать-природа, приоритет Перса начали признавать и девочки, прежде гневно-саркастически воспринимавшие всех без разбору дураков-мальчишек. Теперь же слабый пол все чаще украдкой, а то и открыто задерживал взгляд на ладной высокой фигуре Перса, все чаще его густые кудри и его глаза – светло-серые с голубоватым отливом и янтарными бликами в глубине – вызывали у одноклассниц незнакомые доселе беспокойные ощущения.
Да, этот пижон, и без того обласканный жизнью, еще и внешность имел дефицитную и роскошную, как японский магнитофон JVC со стереоколонками, подаренный ему отцом после успешного окончания восьмого класса. Воистину судьба – взбалмошная тетка, не знающая удержу и чувства меры ни в расточительности, ни в омерзительной жадности своей. Одним она дает все, другим же, как острил Тэтэ, все не дает и не дает. Перса судьба холила с упоением. Видимо, тоже попала старая шельма под обаяние его наглых светлых глаз. Что уж говорить о взрослеющих девочках. Всем известно, какую силу имеют над девушками, а то и вполне себе зрелыми женщинами наглые светлые мужские глаза. Парень с такими глазами всегда на пороге женского сердца, всегда под окнами резного терема с царевной у окна. Он может и не сдвинуться дальше порога ни на шаг, как ни пыхти. Может получить от ворот поворот. Но только себя должен будет корить за неуклюжесть и упущенные возможности, которых у него всегда несравнимо больше, чем у его скромных темнооких сотоварищей, пусть те и идеальные в умственном и морально-нравственном отношении юные существа, как Ленин в детстве.
Глава 5
Тэтэ не был ни скромником, ни тихоней, смотрел на мир глазами цвета майского неба, но в тайной и пока невидимой для окружающих схватке за девичье сердце уступал Персу на всех фронтах. Силы были определенно не равны. Начнем с того, что Перс был вторым по росту в физкультурной шеренге, а Тэтэ – только пятым, и это была единственная из полученных им в школе "пятерок", совершенно его не радовавшая. Кроме того, соперник имел солидное преимущество в тяжелой технике (магнитофоны, видеомагнитофоны, мопед "Верховина", а также служебная "волга" и личная "лада" папы, на которых сына иногда привозили в школу) и был лучше экипирован. Сквозь железные прутья строгой школьной униформы Перс протискивал помимо убийственно неотразимых кроссовок еще и ворох заграничных рубашек с накладными карманами и щеголеватыми погончиками, бешено дефицитные брючные ремни с двумя – понимаете, с двумя рядами дырочек, которых не было больше ни у кого из подростков в городе, белоснежную сумку с эмблемой московской Олимпиады, смеявшуюся в лицо грузным угловатым портфелям одноклассников.
Даже пионерский галстук и комсомольский значок у него были особенными, фирменными. Тонкую шею Перса-пионера обнимал плотный на ощупь, приятного вишневого оттенка галстук, а не один из тех огненно-рыжих лоскутков, которыми душили себя другие ученики. Комсомольский знак с мускулистой головой вождя, пришедший на смену пионерскому атрибуту, у Перса вместо обычной булавки был снабжен так называемой закруткой, благодаря чему не болтался на лацкане подобно слабеющей полуоторванной пуговице, а, ввинтившись в него, прижимался к ткани страстно и нежно, щека к щеке.
1 сентября 1983 года на соседнем лацкане персова пиджака проявился лик Фиделя Кастро. Круглый, величиной с пятак значок с изображением команданте Перстнев-старший принес в клюве из очередной загранкомандировки. Ильич и Фидель смотрели друг на друга с разных половинок синего ученического пиджака, как из разных полушарий Земли, по-товарищески тепло и прямо. Покрытый выпуклым линзообразным стеклом портрет кубинского бородача пускал солнечных зайчиков во все стороны, довершая блестящий образ новообращенного девятиклассника Перса. "Пламенные революционеры, как мухи, слетаются на сюртук к нашему наследнику Тутти, – вполголоса заметил Тэтэ во время торжественной линейки на плацу перед школой. – И так же, как мухи, не могут отличить мед от говна. (Перс стоял поодаль и не мог по достоинству оценить дружеские репризы одноклассника). Не лацканы, а прямо какое-то лацкаво просимо! Следующим он прилацкает, видимо, какого-нибудь Патриса Лумумбу или Хо Ши Мина. Тогда будет полный интернационал". За спиной у Толика кто-то неуверенно прыснул. Тирада не имела шумного успеха: за лето публика отвыкла от своего штатного комедианта, который и сам, к тому же, немного подрастерял форму. Преисполненная извечного оптимизма директриса, тем не менее, в своей приветственной речи выражала прочную, непонятно на чем основанную уверенность в том, что и Толик, и все прочие ученики подотчетной ей школы быстро наберут форму после каникул и с новыми силами примутся за учебу. (Как будто им не на что больше силы потратить!..). "С таким же успехом можно было сказать коровам, нагулявшим бока на летних пастбищах: "А теперь добро пожаловать на бойню!", – Тэтэ продолжал разминать затекшие за время каникул мышцы остроумия.
Плац из-за обилия белых передников, бантов и букетов в хрустком целлофане напоминал одновременно бальную террасу и цветочный рынок, торгующий, в основном, астрами и гладиолусами. Немилосердно наглаженные, накрахмаленные и причесанные первоклашки с огромными испуганными глазами, огромными ранцами и цветочными факелами в руках казались особенно маленькими и беспомощными. На балконе соседнего дома старушка в халате и шлепанцах, надетых прямо на шерстяные носки, наблюдала за церемонией в театральный бинокль.
Мальчишки-старшеклассники и без биноклей видели многое, хотя ничего не понимали. Озадаченными взглядами они скользили по лицам своих боевых подруг, по их локонам и челкам, по фигурам, чей преимущественно равнинный доселе ландшафт чудесным образом изменился, по униформенным нарядам, скрывающим то, что скрыть уже было невозможно. Таинственные метаморфозы сбивали мальчишек с толку. Девчонки были те же самые, что и три месяца назад, – свои, привычные. И в то же время – чужие, другие, новые. Сквозь истончавшую подростковую оболочку все приметней проступало великое чудо, имени которого мальчишки еще не знали, и которое называлось женственностью. У изумленных ребят оно уже начинало вызывать смутное благоговение и робость, которую они пока маскировали старыми проверенными способами – грубостью и похабными шутками. "Толян, а мощные буфера рыжая себе отрастила", – задушевно шепнул на ухо Тэтэ Славик Ветлугин. – "Директриса?". – "Сам ты директриса!.. Я про Соньку Киянскую. Глянь, как у нее сиськи гуляют, – как живые!..". – "Ерунда. Так себе горки-холмики – средненькие, вроде Урала. Вот у директрисы – настоящие Гималаи! Да что там Гималаи: марсианские кручи просто! А они, брат Славян, чтоб ты знал, на Марсе достигают 25 километров в высоту". – "Ну, ты нашел, что с чем сравнивать!". – "Подмышки старухи – с дыханием младенца?". – "Вроде того!". "Ветлугин, Топчин, перестаньте болтать!", – стрела гневного шепота прилетела с другого конца строя, от их классной руководительницы Таисии Борисовны, она же – Тася-Бася, она же – ТаБор, как и весь ее теперь уже девятый класс.
Ветлугин был лучшим футболистом класса, играл в юношеском чемпионате области за сборную городской спортшколы. Как многие физически одаренные люди, он не отличался тонкой душевной организацией и вообще несколько одичал на своих футбольных плантациях. Но в главном Славик был прав: выросшие, словно волшебное бобовое дерево, девичьи груди бесцеремонно и бесповоротно вторглись в их повседневную школьную жизнь, сломав ее стройные целомудренные конструкции и поставив мальчишек перед фактом своего существования. Как теперь жить и учиться с этим фактом, было непонятно.
…Директриса добралась, наконец, до финала своего напутственного воззвания. Финал был встречен бодрыми хлопками и придурашливым ревом не нарезвившихся за лето парней. Бизоноподобный Долбодуев, самый здоровый десятиклассник и знаменосец школы на майских и ноябрьских демонстрациях, посадил к себе на плечо, как на парту, крохотную девчушку. Девчушка взмахнула зажатым в кулачке стадным колокольчиком, оглашая плац и окрестности пленительным звоном. "Вперед, на штурм Зимнего!", – крикнул кто-то из неуемных весельчаков-старшеклассников. Стройные шеренги в мгновение смешались, и школьники галдящей карнавальной толпой двинулись в здание. Там внутри галдеть было особенно приятно. Поросшие за время каникул мхом тишины коридоры и классные комнаты, пробуждаясь от летней спячки, охотно откликались на веселые голоса и звуки. В воздухе еще витал запах летней школы – запах непросохшей краски и мыльной воды. Новый учебный год 1983/1984 начался.
Для девятиклассников это был особый год. Последний год перед судьбоносным десятым классом с его выпускной нервотрепкой, слезами и концом детства. Последний год относительно беспечной жизни. Беспечной, но уже такой взрослой жизни, столь разительно отличающейся от прежнего малолетнего бытия. На смену курточкам и фартучкам пришли пиджаки и юбки; узкие чемоданчики-дипломаты, хищно щелкающие сияющими никелированными замками, вытеснили надоевшие сумки и портфели; на подбородках ребят тонкими поросячьими хвостиками проросли предвестники будущей щетины; девочки уже узнали, что такое "первая кровь" и чем она отличается от первой крови у мальчишек.
Все это будоражило, кружило голову, иногда вызывало необъяснимую тревогу, но чаще – приступы беспричинного ликования. 1 сентября к этому фонтану эмоций добавилось жгучее, неодолимое, всепоглощающее желание поболтать с друзьями и приятелями, да хоть бы и с заклятыми врагами, лишь бы поболтать. Слова и чувства распирали взволнованных старшеклассников, грозя взорвать их изнутри еще до конца уроков. Три летних месяца и раньше казались вечностью, теперь же, после тех захватывающих дух превращений, которым подверглись сверстники, лето и вовсе представлялось далекой планетой, где из детей делают взрослых.
Перемены между уроками, обычно могучими волнами вымывающие из кабинетов все живое, сегодня были бессильны. Соскучившись по аудиториям, которым совсем скоро суждено было снова стать ненавистными, сегодня школьники не спешили покидать их, будучи не в силах оторваться друг от друга и унять разговорный зуд. Во время первой же перемены, после урока мира, классная комната превратилась в птичий базар в ясную погоду. То тут, то там громоздились группы желающих излить на одноклассников ушаты летних впечатлений и воспоминаний и послушать рассказы других. Самую многочисленную группу составляла публика, с любопытством и ужасом внимающая Сереге Змейкину. Змей нынешним летом вместе с отцом и его друзьями, заядлыми туристами и охотниками, сплавлялся на плотах по рекам Восточной Сибири. Кипящая ледяная лава горных рек отступила перед бесстрашными путешественниками. Главное испытание ждало их на суше. Там туристов настойчиво преследовал снежный человек. По ночам было слышно, как кто-то громадный и мощный, тяжело сопя и ломая ветки, ходит вокруг лагеря, и стенки палаток, казалось, трепетали от его горячего плотоядного дыхания. Самым кошмарным было то, что снежный человек, демонстрируя нечеловеческую ловкость и ухитряясь оставаться незамеченным, время от времени дерзко пробирался и в сами палатки, откуда воровал продукты у сморенных сном и походом туристов. Причем, не брезговал даже молотым перцем и водкой, взятой в поход под видом дезинфицирующего средства.
"А с чего вы решили, что это снежный человек? – спросил у Сереги Тэтэ. – Почему не медведь?". – "Так дядя Паня однажды ночью схватил его за руку! То есть, за лапу. Прикиньте, ночью проснулся и слышит, как кто-то в рюкзаках роется. Ну, дядя Паня сдуру и хвать его рукой! Нет, чтобы топором садануть или прикладом – он его прямо рукой!". – "И что?..". – "Да ничего!.. Тот хоть и человек, а все же зверюга – здоровья-то немеряно! Вырвался, конечно, и убежал. Хорошо хоть, дядю Паню не разорвал. У того только клок шерсти в руке остался. Черная такая, густая, кучерявая. Отец сказал, не бывает у медведей такой шерсти. Ну, и потом – следы же были на земле возле палаток! Нечеткие, правда, но все равно заметные. Гигантские такие следы и как бы овальные!.. (Возбужденный Змей очертил в воздухе внушительных размеров эллипс). Понимаете, пацаны, по следам, по тому, как трава примята, было видно, что он ходит все время на двух лапах. То есть, на двух ногах. Медведь или другие звери какие все время так ходить, понятное дело, не могут. Ну, точно, думаем, снежный человек!.. Да я сам в "Науке и жизни" читал, что Сибирь – одно из тех мест на планете, где снежного человека чаще всего видели! Свидетельств – уйма!".
После инцидента с дядей Паней покорители сибирских рек всполошились не на шутку: а ну как пресытившегося полуфабрикатами йети потянет на человечину?.. Или на женщин (среди участников похода были аппетитные во всех смыслах слова женщины)? Решено было до утра выставлять в лагере вооруженных часовых. Часовые, сменяя друг друга, под треск костра и шорох транзистора без устали вглядывались в бездонные глаза таежной ночи, но так никого и не углядели. А наутро выяснялось, что из палаток продолжает бесследно исчезать провиант. Чудовище явно бросило людям вызов, и этот вызов был принят. Утихомирить косматого черта должна была выкопанная и заботливо накрытая хворостом глубокая яма, над которой туристы подвесили кусок ароматного, нашпигованного чесноком сала. Однако снежный человек не пожелал ложиться в уготованную ему могилу: смышленая тварь непонятно каким образом аккуратно вынула сало из петли и была такова. А в яму, в точном соответствии с известной пословицей, свалился один из путешественников, отлучившийся ночью по малой нужде. Падение закончилось для него закрытым переломом ноги, после чего товарищи два дня волокли его на себе по тайге, пока, наконец, не выгрузили в поселковой больнице.
Поставить на место зарвавшегося снежного монстра удалось лишь с помощью медвежьего капкана. Среди ночи туристы были разбужены диким ревом, в котором угадывались боль, ярость и обида на людей. Любопытно, что попавшись в капкан, неуловимое доселе существо неожиданно обрело способность изъясняться на чистом русском языке, точнее – на его нецензурном диалекте. Фразы вроде "Йети твою мать!" прямо указывали на то, как именно йети собирался отомстить туристам за их подлость и коварство. Однако когда мужчины с оружием и фонариками примчались на место события, в капкане их ждал только обагренный кровью грязный кирзовый сапог 46-го размера.
…Тэтэ, вполуха слушая окончание рассказа Змея, не отрывал глаз от стоящего подле окна Перса. Девочки роились вокруг него, как пчелы – вокруг цветка, рассматривая значок с Кастро. Низко склоняясь к лацкану, подобно паломникам, целующим святые мощи, юные плутовки краснели, щурились, поджимали губы, преувеличенно долго и внимательно всматриваясь в значок, словно в образ суженого. Кончики их волос в этот момент задевали шею Перса, смешиваясь с редкими жесткими волосками на его груди чуть ниже ключиц. Было понятно, что сам значок девочек интересовал мало. Их влекла и волновала близость Персова лица, возможность хоть на минуту почувствовать теплоту его кожи, исходящие от нее флюиды и запахи. ОНА стояла рядом с Персом и улыбалась. При мысли, что и ЕЕ лицо почти касалось персидской физиономии, Тэтэ почувствовал, как виски его стиснул жаркий бешеный спазм. Надо было срочно что-то сделать, чтобы прекратить это кубинское идолопоклонство. Оставив товарищей, Тэтэ небрежной походкой матроса, спустившегося на берег, направился к Персу и его одалискам. Стараясь унять пузырящуюся в крови ненависть, лицу и голосу он придал максимально сардоническое, как ему думалось, выражение.
"Ты отстал от моды, мой персидский друг! Украшаешь свои персидские перси каким-то архаизмом. У меня сестра учится в Москве в химическом институте, так ее однокурсник-чилиец рассказывал, что сейчас в ходу совсем другой вариант значка – Фидель с сигарой в зубах. (Сестра-студентка существовала в действительности, все остальное было чистейшей фантазией). Дымок сигары, заметь, направлен вверх, то есть, на север – к американским берегам. Композиция символизирует, как товарищ Кастро выкуривает империалистов из их осиного гнезда". – "Ты это только что придумал, Тотоша?". – "Не веришь? Спроси у папы – он должен знать". "А, по-моему, ты просто завидуешь, – неожиданно сказала ОНА. – Завидуешь, как маленький ребенок завидует чужой игрушке".
Девушки еще никогда не били Толика по лицу: ему только предстояло познать сладость первых поцелуев и боль первых пощечин. Однако сейчас у него было такое чувство, будто ОНА влепила ему затрещину, звонкую и горячую. Лицо вспыхнуло. В горле неглотаемым комком застряла беспомощность. Обида придет позже, когда все закончится. Сейчас была только беспомощность. Прежде ОНА никогда не смеялась над его остротами, как он ни старался. Но и над ним самим не смеялась тоже. И не выказывала так явно своих симпатий к этому кудрявому персидскому барану.
"Зависть – никчемное чувство, крошка, – просипел подраненный Тэтэ. – Оно лишает человека сил и сна, ничего не давая взамен". – "Вот и не завидуй. А то не заснешь". ОНА продолжала смотреть на него и улыбаться. Перс ухмылялся довольной ухмылкой самца, наблюдающего за тем, как влюбленная самка встает на его защиту. Девочки хихикали. Толик стоял перед этим улыбчивым строем, как перед строем солдат с нацеленными на него винтовками, – одинокий и обреченный, не в силах произнести ни слова. Он, Тэтэ, с его эрудицией и отточенным, как бритва, чувством юмора, снискавшими ему славу остряка всемогущего, стоял и подавленно молчал!.. Его сарказм поник и съежился от солнечного холода ЕЕ улыбки. Весь запас острот, легких и ярких, как конфетти, которыми он по традиции собирался осыпать одноклассников и наиболее щедро – презренного Перса, исчез в мгновение ока. Для этого хватило лишь пары слабеньких оплеух, и вот ты уже почти плачешь, дружок, ай-ай-ай. Наш доблестный остряк доселе не знал, что почтеннейшая публика охотнее смеется над самим клоуном и его несчастьями, нежели над жертвами его изощренных шуток.
Добить Тэтэ помешало появление учителя географии Константина Евгеньевича Княжича, по совместительству – местного краеведа и чичероне в школьных турпоходах. Костя, мужчина с открытым приветливым лицом и окладистой добролюбовской бородой, пребывал в том возрасте, который определяется понятием "около 30-ти". Причем, по какую именно сторону от пограничного столба с цифрой "30" Костя находился, несведущему человеку сказать было трудно: географу можно было дать и 31 год, и 29. Пышная растительность на его лице мало соответствовала шаблонному облику советского учителя, однако директриса милостиво сделала для талантливого педагога исключение. Не в последнюю очередь потому, что в глубине души питала слабость к усатым и бородатым мужчинам, которые в ее сознании почему-то ассоциировались с революционерами-романтиками XIX века.
Помимо бороды Костя носил черный в призрачный рубчик костюм с галстуком независимо от погоды и времени года. Никто ни разу не видел его с распахнутым воротом – даже в походах или на субботниках, куда он являлся либо в свитере, либо в рубашке, застегнутой на все пуговицы. Злые языки говорили, что причиной тому – следы страшных ожогов у географа на теле. Другие источники компетентно заявляли, что никаких ожогов нет и в помине, а есть мохнатое, величиной с крысу родимое пятно. Класс Толика и Перса, которому Костя преподавал географию уже пятый год, не обращал внимания на эти россказни. Никакие следы и пятна не могли бросить тень на образ их любимого учителя. Костю любили за справедливость и отсутствие церберских замашек, присущих многим строгим педагогам, нетерпимым к малейшему нарушению ученической дисциплины. Географ никогда не повышал на учеников голос, не стучал остервенело ручкой по столу, требуя прекратить шушуканье (для этого было достаточно его спокойной, но твердой просьбы), совсем не по-учительски хохотал вместе с классом, когда лоботряс и двоечник Пыхин, не расслышав подсказки, переименовал Суэцкий канал в Советский.
Оценивая знания учеников, Княжич никого не валил и не вытягивал, но ощущая себя, видимо, высшим судией, каждому воздавал по заслугам его. С учениками обращался доброжелательно, без угроз и окриков, не называя их балбесами и бестолочью. Тем не менее, положенную дистанцию между собой и детьми выдерживал неукоснительно, не допуская с их стороны и йоты фамильярности и не давая им повода считать его слабаком и мямлей. Ибо горе тому учителю, кого ученики сочтут слабаком: себя этот несчастный обрекает на унижения, а своих воспитанников – на неграмотность. Костя не был ни жестоким, ни даже жестким наставником, но при этом умудрялся быть авторитетным, что сказывалось, в том числе, и на успеваемости учеников по его предмету. За кнут географ брался крайне редко, но и пряниками своих бурсаков не закармливал. За подсказки из класса не выгонял, а лишь говорил подсказывающему: "Можешь суфлировать и дальше, если хочешь, но оценку я поделю вам на двоих: так будет честно". И если уж Княжич ставил двойку, то осрамившийся школяр не возмущался потом в разговоре с приятелями столь вопиющим произволом, не называл географа упырем и свинотой, но пенял исключительно на себя и чувствовал даже легкую неловкость перед Костей.
Тот факт, что именно урок Княжича стал первым для девятого класса уроком в новом учебном году, был добрым знаком. Для всех, кроме Тэтэ. Ему было не до этого. Толик сидел, скорчившись, обеими руками пытаясь зажать рану в своем раскуроченном сердце, откуда, заливая свежекупленную матерью рубашку, хлестала кровь. Никто в целом мире не видел этого, и никто не мог помочь бедному маленькому шуту.
Глава 6
Толик любил ЕЕ уже очень давно – без малого год. ЕЕ, Веронику, Нику, его богиню победы, которая, сама того не ведая, воцарилась в его сердце, воспарила в нем ликующим ангелом. Это не была любовь с первого взгляда. Совсем наоборот. Что такое любовь с первого взгляда, все знают. Некоторые даже уверяют, что испытали ее в своей жизни. Врут, конечно. Любовь с первого взгляда – вещь такая же абсурдная и немыслимая, как и ненависть с первого взгляда. Как можно, не зная человека, не ведая, чем он живет и зачем, взглянуть на него один разок и тут же возненавидеть? Ненавидеть можно за что-то. Для ненависти нужна причина, питающая и поддерживающая непримиримое пламя. Любовь, блаженная близорукая дурочка, естественно, выше этого. Любовь неприхотлива и безотчетна. Нельзя любить за что-то, любить можно вопреки чему-то, кто же станет с этим спорить. Но чему, чему же вопреки? Чтобы не замечать чего-то, мириться с чем-то ради любви, требуется время. Чтобы понять, что жизнь тебе особо ни к чему без возлюбленного со всеми его прекрасными и ущербными чертами и наклонностями, требуется время. Пусть самое короткое, самое быстротечное время, но все же большее по продолжительности, чем очумелый взор, устремленный на случайного прохожего. Это же очевидно. Однако упрямым людям нравится рядить в подвенечные одежды любви едва народившуюся, неосознанную и неуверенную симпатию к первому встречному. Нравится думать, что любовь с первого взгляда есть на свете, что она ходит где-то рядом и однажды падет именно им на грудь. Ну, пусть дурманят себе мозги приторными бестелесными грезами, пусть гипнотизируют прохожих. Каждый развлекает себя, как умеет.
Но как, скажите, объяснить любовь, возникающую из ниоткуда на излете восьмого года знакомства с вроде бы заурядным доселе человеком? Где любовь скрывалась все эти годы, где пропадала в те бессчетные дни, когда Толик видел Нику, но не смотрел на нее, ибо не на что было смотреть, когда смотрел, но не видел в ней ничего привлекательного? Ника росла на его глазах, а он не замечал ее милой, теплой, светлой красоты, этого радостно-удивленного взмаха ресниц, своенравной пряди русых волос, что, падая на лицо, нахально тянулась к нижней губе, которую Ника легонько покусывала, когда улыбалась; не замечал этих трогательных мочек и тонких детских складок на шее, к которым неудержимо хотелось прикоснуться; не замечал, какой силой и гибкой упругостью, от которой у него пересыхает во рту, вдруг наливается ее хрупкое тело, когда она поднимает руки и поправляет волосы. Как, чем объяснить, что он так долго всего этого не замечал?..
Ладно, одно дело, когда Толик был неразумным сопляком-малолеткой со всеми вытекающими отсюда и не только отсюда последствиями. Но ведь он ничегошеньки не видел-не сознавал и, став уже совсем взрослым, пожившим на свете человеком 13-ти, а то и 14-ти лет от роду! И любил он совсем других: сначала – ту самую рыжую Соньку Киянскую, потом же, когда стал старше, опытнее и начал уже разбираться в женской красоте, – смешливую блондинку Маринку Ставрухину, чья голова была покрыта, будто охапкой новогоднего серпантина, мелкими льняными кудряшками. Длинноногую Ставруху-Старуху, которая быстрее всех девчонок в классе бегала стометровку, он даже одно время провожал до дома и приходил к ней домой вместе делать математику. И жизнь в ту пору была очаровательной, как Маринка, и манящей, как ее улыбка и слабые ямочки на щеках.
Все изменилось, перевернулось в один миг. Он запомнил этот миг, запомнил отчетливо, память сохранила его во множестве деталей, звуков и ощущений, как хранит в своем глубоком темном архиве нетленными и свежими моменты наших наивысших душевных потрясений, будь они горькими или счастливыми. Настоящая любовь пришла к Толику в Волгограде, куда класс приехал на осенние каникулы. Они неслись по набережной с криками и смехом, радуясь свободе после многочасового вагонного плена, погожему дню и большому незнакомому городу. Сумасбродный ветер, желая угодить солнцу, рвал в клочья легкие облачка. Чайки вальсировали над пепельно-серой волжской водой. Мальчишки свистели и махали руками далекому теплоходу, покинувшему порт. "Не растягивайтесь!", – срывая голос, взывала классная руководительница, но ветер, такой же непослушный, как и ее подопечные, подхватывал слова и швырял их чайкам, словно хлебные крошки. Навстречу по набережной шел пожилой мужчина в берете и клетчатом пальто, с таксой на поводке. Угораздило же его гулять именно в этом месте и попасться классу на глаза!.. Школьники набросились на собаку ликующей волчьей стаей. Кто-то теребил ее бархатные уши, кто-то совал в слюнявую пасть карамель, десятки рук гладили извивающееся тельце и голову таксы столь любовно, что скальп ее чудом удерживался на своем месте, а глаза с синеватой каймой, глядевшие на мучителей печально и преданно, вылезали из орбит.
И вдруг все исчезло. Исчезли голоса и крики, будто кто-то, щелкнув вселенским выключателем, обеззвучил весь мир. Сгинул весь класс с Таисией Борисовной впридачу. Осталась Волга, остались чайки, превратившиеся в бесшумных херувимов, осталась прекрасная, необыкновенно прекрасная девочка, сидящая на корточках возле собаки. Может быть, остался и еще кто-нибудь, но Толик видел только Нику. Девочку в смешной белой курточке с капюшоном и соломенного цвета вельветовых брюках, юную принцессу с двумя пушистыми хвостиками на голове, стянутыми у основания резинками со стеклянными горошинами. Он тогда еще отчего-то подумал, что эти торчащие вверх хвостики похожи на беличьи уши, хотя на самом деле они были похожи на заячьи уши. В солнечном свете волосы вспыхивали золотистыми точками, и даже грубиян-ветер не решался ерошить их, а лишь любовно поглаживал.
"Хватит гладить бедное животное! Отпустите его, наконец!", – резкий возглас классной прорвал божественное безмолвие, увлекая за собой лавину оттаявших звуков. Оцепенение схлынуло, Толик вынырнул на поверхность реальности, жадно глотая воздух. Повинуясь зову Табора, класс двинулся дальше, оставив на набережной помятую, заласканную до полусмерти таксу и ее терпеливого хозяина. Волшебный мираж длился несколько секунд, но этого хватило, чтобы навсегда лишить Тэтэ покоя. В том волгоградском вояже он чудом избежал косоглазия: делая вид, что занят исключительно общением с пацанами и осмотром местных красот, Толик после видения на набережной то и дело скашивал глаза, выискивая Нику в толпе девчонок, то замедлял шаг, то, наоборот, прибавлял ходу, стремясь поравняться с ней, то неестественно возвышал голос, чтобы она слышала его остроумные экспромты, то вдруг потерянно замолкал, напрочь забыв анекдот про Василия Иваныча и Белку, который только что собирался поведать. "Про Василия Иваныча и Белку?!". – "Тьфу, Петьку!". Внезапное помешательство лучшего друга не укрылось от глаз Веньки Ушатова, получившего прозвище Винни за неистребимый аппетит, округлость щек и прочих частей тела. "Толян, ты не выспался, что ли? – спросил Винни, озабоченно хрустя леденцами "Барбарис". – Какой-то ты странный…". "Я был когда-то странной игрушкой деревянной, к которой в магазине никто не подойдет, – с натужной веселостью ответил Тэтэ. – Все хоккейно, Венька, не волнуйся. Просто акклиматизация, видать, сказывается. Не привыкши мы к Волге-матушке, к просторам волжским". Винни не поверил в чистосердечность друга, однако, выудив из кармана надломленный квадратик печенья, успокоился. Чего нельзя сказать о Тэтэ.
Оглушенный свалившейся на него любовью он, как выяснилось впоследствии, оказался тем единственным из всего класса ротозеем, кто побывал в Волгограде, но не рассмотрел толком его достопримечательностей, способных впечатлить любого нормального школьника. Достопримечательности тяжелой командорской поступью прошли мимо охваченного мыслями о Нике Толика, – и Мамаев курган, вобравший в себя ужас и величие главной битвы человечества, и Дом Павлова, и испещренный оспинами пуль и осколков скелет старой мельницы, и планетарий, и даже панорама Сталинградского сражения. Пока пацаны, восхищенно перешептываясь, разглядывали набитые опилками "трупы" немецких солдат и грандиозную полотняную фреску с картинами ада, потрясшими бы Данте, Толик, сопровождаемый негодующим шиканьем девчонок, протискивался поближе к предмету своей нежданной страсти, а, протиснувшись, с великим вниманием слушал экскурсовода, словно то был голос с неба. Однако слышал только суматошный стук собственного сердца.
На обратном пути домой он окончательно ополоумел. Новое сильное чувство и желание любым способом обратить на себя внимание Ники потряхивали его, словно удары тока, толкая на неисчислимые мальчишеские сумасбродства. Вместе с пацанами на счет "Раз, два, три!" они молодецки бухали со всей дури ногами в стенку купе и гоготали, заслышав за стенкой визги и проклятия девчонок. Ночью будили одноклассниц тревожным стуком в дверь и требованием приготовить билетики для проверки. Под утро Толик, слишком влюбленный для того, чтобы спать, прокрался к келье, где почивала его зазноба, подергал за дверную ручку и проорал: "Девушки, быстро встаем и собираемся! Мы приехали! Выходим!". На призыв неожиданно откликнулась классная, тут же выскочив из своего вагонного логова в серый предрассветный коридор, – словно специально караулила. "Топчин, подойди ко мне!", – кутаясь в балахонистый халат, надсадным демоническим шепотом приказала Тася (ей все-таки удалось сорвать голос). Бледная, с припухшим лицом и растрепанными волосами при тусклом электрическом свете, таявшем в мареве подступающего восхода, она казалась ведьмой за секунду до петушиного крика.
Толик вздрогнул, испуганно заозирался по сторонам, глаза его наполнялись отчаянием. "Топчин, я сказала: "Подойди сюда!". Он потряс головой, пытаясь сбросить с себя невидимое наваждение. Протер глаза. "Таисия Борисовна?! Это вы?! Ффу… Замечательно, что вы меня разбудили! Просто замечательно!". – "Что ты здесь делаешь? Почему орешь, когда все спят?".– "Таисия Борисовна, я сомнамбулизмом страдаю. (Тэтэ тоже перешел на шепот). Только, пожалуйста, ребятам не говорите, а то они меня задразнят". – "Что?!". – "Ну, я – лунатик, хожу во сне. Гуляю по крышам, карнизам, сам с собой разговариваю и ничего кругом не вижу, потому что сплю в этот момент. С открытыми глазами сплю!.. Однажды ночью зашел в роддом. Представляете, в окно зашел – и прямо в палату к роженицам. Так они потом план по рождаемости на 103 процента перевыполнили. Кто должен был одного ребенка родить – родили двойню, тройню. Даже нянечки и медсестры родили – от страха, меня увидевши. Ну, вы понимаете: ночь, луна, бедные женщины одни-одинешеньки в здании, все на нервах. И тут в окно входит тип в одних трусах с остекленевшим взглядом и бормочет что-то – точно в трансе!.. Жуть вселенская… За мной вообще следить нужно, когда приступы случаются, иначе всякое произойти может. Поэтому здорово, что вы меня сейчас разбудили. Я ведь мог на полном ходу из поезда выйти… Вы спасли меня, Таисия Борисовна! Спасибо!". – "Топчин, мне надоели твои фокусы! Впредь я не буду брать тебя в поездки с классом. Хватит! А сейчас немедленно зайди в свое купе! Я попрошу проводника закрыть ваше купе до общего подъема, чтобы у тебя нового приступа лунатизма не было!". – "Таисия Борисовна, а если… ну… я, извините, в туалет захочу? Я ведь еще и энурезом страдаю…". – "Иди сейчас в туалет, а потом отправляйся в свое купе и не смей выходить оттуда до подъема, слышишь?". – "Я сейчас вообще-то не хочу в туалет, но, если вы настаиваете, я сделаю все, что смогу". – "Топчин!!!".
Глава 7
Самое трудное для Тэтэ началось по возвращении домой, с возобновлением учебы. Именно тогда с ужасающей внятностью он осознал, что его новая богиня не только не обращает на него ни малейшего внимания: ее внимание было отдано другому. Толик слишком замешкался со своим прозрением. Его опередили. Опередил сосед Ники по парте – Перс. Только сейчас, когда пелена спала с изумленных глаз Тэтэ, картина отношений Ники и Перса предстала перед ним во всем своем размахе и шокирующем уродстве. Только сейчас нечаянный влюбленный начал обращать внимание на то, как часто эти двое переговариваются о чем-то во время уроков. Поразительно, как он не видел этого раньше!.. И ведь диспозиция в классной комнате все эти годы у него была идеальной. Перс и Ника, начиная аж с пятого класса, восседали рука об руку в сердцевине среднего ряда. Тэтэ же базировался в крайнем ряду на Чукотке – предпоследней линии столов, за которой следовала Камчатка – откуда парочка была видна, как на ладони. Теперь эта парта в среднем ряду стала для Толика центром мироздания, а эта пара – средоточием его ежедневных прометеевых страданий. Замирая от нежности, он следил за тем, как Ника садилась за парту перед началом урока: ладони прижимают платье к прелестно каплевидным полушариям ягодиц, скользят по бедрам вниз, ткань плотно облегает тело, чьи запретные контуры на мгновение становятся зримыми. Опустилась на стул, тут же снова чуть приподнялась, смахнув с подола последние складки. Встряхнула головой, откинув назад волосы. Аккуратно заправила за ушко выбившуюся прядь.
Иногда на уроке, начисто забыв про учителя и одноклассников, Тэтэ сверлил взглядом спину своей возлюбленной, зная, что взгляды, особенно – долгие, имеют материальное свойство. Надеялся, что она почувствует и повернется. И она, действительно, поворачивалась, но не к нему, а к Персу, который негромко вещал ей что-то, имеющее, судя по их приватным улыбкам, отдаленное отношение к теме занятия. О том, что могло происходить за этой партой во время показа учебных фильмов, Тэтэ боялся и думать. Он знал, что самые наглые ребята, чувствуя себя в темноте еще наглее и безнаказаннее, забавы ради или под напором истинных, как им казалось, чувств, улучив момент, быстро и неловко чмокают девочек в щеку, нередко промахиваясь и попадая в ухо, или же под столом кладут дрожащие руки им на колени. Порой во мраке происходили удивительные вещи. Так, однажды какой-то шаловливый раззява вознамерился погладить ножку соседки, не заметив, что та после начала картины о жизни протонов и нейтронов поменялась местами с сидящим сзади парнем. Каково же было удивление озорника, когда вместо шелковистых колготок, согретых девичьим теплом, ладонь его встретила грубую шерсть ученических брюк, а сам он немедленно получил разящий удар локтем в ребра.
Тэтэ никогда не распускал руки в таких ситуациях и не распустил бы их, даже если бы его обязывал к этому вердикт Верховного суда Советского Союза: соседкой Толика по парте была толстая, астматично пыхтящая Бряхина с влажными глазами-черносливинами. Но если бы его соседкой была Ника?.. Ах, если бы, если бы… Ну, почему она не его соседка? И где гарантия, что этот лощеный горкомовский выкормыш не позволяет себе по отношению к ней подобных вольностей? Ведь уже ясно, что у них с Никой все серьезно. Толик видел, что они нередко вместе покидают школу после уроков, и, что совсем скверно, Перс эскортирует ее до дому (да-да, наш Тэтэ незаметно для себя превратился в шпиона) в те дни, когда не спешит к очередному репетитору или в бассейн. Чтоб ему там утонуть.
Но нет, вместо этого ко дну шел сам Тэтэ. Пучина неразделенной любви поглотила его в совершенно неподходящий для этого момент – в восьмом классе, в преддверии первых за его 14-летнюю жизнь экзаменов. Хотя, кто знает, затяни его этот омут пораньше, возможно класс лишился бы твердого хорошиста, получив взамен балласт в лице очередного серого троечника, дорога которому – не к полному среднему образованию, не в девятый класс, формируемый на базе двух восьмых, а в ПТУ. Теперь же Толик более-менее благополучно доковылял на автопилоте до финишной прямой восьмого класса, опираясь на спасительную клюку – свою превосходную память. Хотя и споткнулся несколько раз на дистанции. Томимый душевными переживаниями он резко охладел к учебе, стал забывчивым и рассеянным и все чаще, помимо своей воли, вызывал хохот одноклассников своими оговорками и ответами невпопад. Самый постыдный конфуз случился с ним на уроке истории, которую им преподавала классная. Ей и всему восьмому "Б" Толик поведал, что Петр I лично рубил стрельцам головКи. Всегда устало-озабоченное лицо Таси при этом сообщении вытянулось, а повисшую паузу расторопно заполнил мстительный Перс, не упустивший случая пнуть попавшего впросак шута: "Анатолий, это все-таки была казнь, а не обрезание!". Класс грохнул так, что голуби за окном попадали с подоконника, как спелые груши.
Минуты позора довелось ему пережить и на уроке литературы – на пару с Иваном Петровичем Белкиным, чьи повести Тэтэ полностью так и не прочел, а лишь пролистал. Неудивительно, что пушкинские девицы, опрометчиво падающие в объятия коварных обольстителей в армейских мундирах, перемешались в голове у Толика, словно дамы в карточной колоде. В результате, дочь станционного смотрителя у него в метель обвенчалась с жестокосердым гусаром, которого потом убили на войне. "Забыл добавить, что барышня явилась на венчание одетая крестьянкой", – язвительно заметила литераторша Тамара Кирилловна (единственный человек в школе, чье остроумие могло сравниться с Толиковым остроумием, – во всяком случае, он так считал), выслушав новаторскую аранжировку бессмертных творений. И оценила ее в три чахлых балла, подпираемые массивным минусом.
Толик надеялся реваншироваться с "Героем нашего времени": его Тэтэ не только читал, но и перечитывал, симпатизируя острому ледяному уму и вальяжному бесстрашию Печорина. Надежды на реванш обрели плоть и кровь, когда Тамара вызвала Тэтэ к доске с вопросом именно по лермонтовскому роману. Отвечал он бойко и толково. В воздухе уже запахло горячей румяной пятеркой, когда Толик неожиданно оступился. "Какую же цену платит скучающий Печорин за свои мимолетные увлечения и пустые романчики?", – спросила Тамара Кирилловна. "Он платит конем", – не подумав, брякнул Тэтэ. – "Конем?..".– "За Бэлу Печорин заплатил ее брату конем, которого помог украсть у Казбича…". "Ну-у, Топчин, – разочарованно протянула Тамара. – Не узнаю тебя. Нельзя же так буквально воспринимать мои слова. Я имела в виду ту высшую цену, что Печорин платит за боль и страдания обманутых их женщин, которых он с его мертвой душой не любит и не может любить. Если бы ты внимательно читал "Княжну Мэри", то помнил бы слова Печорина, написанные им в дневнике: "Я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страданья – и никогда не мог насытиться. Так, томимый голодом в изнеможении засыпает и видит пред собою роскошные кушанья и шипучие вина; он пожирает с восторгом воздушные дары воображения, и ему кажется легче; но только проснулся – мечта исчезает…остается удвоенный голод и отчаяние!". Удвоенный голод и отчаяние – вот что я подразумевала под ценой. Понимаешь, Топчин?".
Конечно, он понимал, что такое отчаяние. Теперь понимал. И мог бы, между прочим, многое рассказать господину Печорину о том, что такое подлинное отчаяние: когда ежедневно принужден видеть, как твоя богиня, не замечая тебя, милуется с ничтожным субъектом, пристрелить которого на дуэли не представляется возможным. От безысходности Толик даже впервые в жизни написал стихи. Первый поэтический блин получился куцым и непрожаренным, но был обильно смазан жирным маслом велеречивого слога.
Стук каблучков и скрип паркета,
Дверь распахнулась, ты вошла,
Небрежным взглядом обвела
Все закоулки кабинета,
Кому-то мило улыбнулась,
Кому-то на ходу кивнула,
Откинувшись на спинку стула,
Меня нечаянно коснулась,
Поправила волнистый локон
Изящно тонкою рукою.
Вздохнув, я посмотрел с тоскою
На пыльную поверхность окон.
Зачем, маэстро Леонардо,
Потратил время ты впустую?