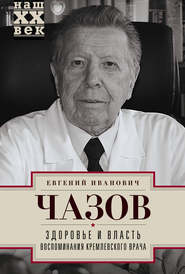скачать книгу бесплатно
А. Н. Косыгин выразил удивление, каким образом я узнал о предстоящем визите Кекконена, хотя все прекрасно понимал, и поблагодарил за участие в его организации, добавив, что ничего особенного им не надо, потому что он и Кекконен физически подготовленные люди и переход для них – пустяк. Однако, несмотря на эти утверждения Косыгина, все было сделано, как я предложил. И президент Финляндии успешно ознаменовал свое семидесятилетие переходом через Кавказский хребет, в память о котором у меня остались специально изготовленные для этого случая запонки, подаренные мне У. Кекконеном. Сам он прекрасно перенес переход, а спасателям пришлось нести через горы не его, а молодого и довольно массивного адъютанта.
В тот же день, когда я объяснял ситуацию А. Н. Косыгину, позвонил Ю. В. Андропов и попросил меня подъехать. К этому времени у нас уже сложились дружеские отношения. Приехав, я застал его несколько встревоженным. С ходу он стал мне выговаривать: «Не надо было вам вмешиваться в эти косыгинские дела. Сам он кашу заваривал, сам бы и расхлебывал. И не надо вам ехать на этот дурацкий переход, пусть сами идут. Кое-кто не очень доволен вашей активностью в этом вопросе». Я возразил: «Юрий Владимирович, Косыгин очень тонко переложил ответственность на меня, да и в какой-то степени на вас. В создавшейся ситуации мой долг сделать все возможное, чтобы переход обошелся без неприятностей». «Вы правы, – ответил Юрий Владимирович. – Алексей Николаевич все правильно рассчитал. Теперь и вам и нам надо обеспечить полную безопасность». И хотя Андропов прямо не сказал, но я понял, что кто-то из окружения Брежнева, а может быть, и он сам, хотели, чтобы возникли сложности в ходе визита, в которых можно было бы обвинить А. Н. Косыгина. То, что Брежнев был в курсе всех событий, я понял потому, что накануне визита Кекконена в Минеральные Воды он позвонил и сообщил, что хотел бы на несколько дней лечь в больницу на диспансеризацию, хотя это и не планировалось. Я вынужден был остаться в Москве. Волнений не было, ибо все, что необходимо, было сделано, и «успех» кавказского перехода был обеспечен.
Как и предполагалось, У. Кекконен был в восторге от похода в горы.
Много разговоров было в тот период и вокруг лечения К. Е. Ворошилова. В те годы я был плохой политик и поэтому до сих пор не могу понять ни отношения к нему различных политических фигур, государственных деятелей, ни отношения к нему аппаратных работников ЦК КПСС, игравших большую роль в создании партийного, а значит, и общественного мнения. Проще было оценить не контролируемое общественное мнение, а мнение народа, который в тот период жил легендой о нем как о герое Гражданской войны.
Мое сугубо личное отношение к К. Е. Ворошилову базировалось на тех впечатлениях, которые я вынес из встреч с ним во время моей работы в 1957 году в Кремлевской больнице. В это время от рака умерла его жена. Почти через день можно было видеть в больнице Ворошилова, идущего к больной жене с букетом цветов. Работавшие со сталинских времен врачи, знающие, как известно, больше, чем кто-либо, рассказывали, что во времена Сталина, когда арестовывали жен-евреек руководителей партии и государства и когда Молотов и Калинин безропотно отдали своих жен на заклание Берии, Ворошилов с пистолетом в руках встал на пути его посланников и не позволил забрать на Лубянку свою жену. Возможно, что это была только легенда, но все равно Ворошилов вырастал в наших глазах.
Когда я с ним встретился, это уже был дряхлый, но пытавшийся себя сохранить одинокий старик, у которого страдала память и который иногда терял даже ориентацию. Странно было видеть эту одинокую, оторванную от общества фигуру в огромной, сталинского типа даче, своеобразие которой заключалось в больших комнатах, определенном аскетизме обстановки и преобладании в интерьере натурального дерева. У него была одна удивительная особенность, которая больше, чем что-либо, говорила о том, что ему, видимо, пришлось пережить в период сталинизма. Когда вечером он уходил в спальню, то запирал изнутри все запоры: на окнах, на дверях, а под подушкой держал оружие. От кого он по старой памяти пытался защититься: то ли от участников заговора, которые должны были, по одной из версий, убить его вместе со Сталиным, или, наоборот, от клевретов Берии, у которого с ним были, по его словам, очень натянутые отношения?
Ворошилову как-то удалось в разгар сезона с большим трудом получить для отдыха дачу в Крыму. Узнав, что мы приехали в Ялту, он пригласил к себе на дачу меня и моих коллег. Было грустно видеть, как человек, бывший одним из самых близких Сталину людей, с гордостью показывал свою временную трехкомнатную дачу, добавляя при этом, что он видит в этом проявление любви и уважения народа к нему, как герою Гражданской войны, человеку, сделавшему много для государства рабочих и крестьян.
В тот момент я вспомнил маршала Рокоссовского, которого лечил по поводу рака в 1957 году. Тогда он находился в опале, и ему с большим трудом удалось получить в Министерстве обороны дачу для отдыха в Крыму. Онкологи категорически возражали против направления его в Крым. Рокоссовский зашел ко мне в ординаторскую (это было в больнице на улице Грановского) и сказал: «Евгений Иванович, в Москве у меня не очень хорошие условия, а там отдельный дом, «обслуга». Хотелось бы хоть напоследок отдохнуть хорошо. Я знаю, что в любой момент могу умереть, но скрасьте мне последний год». Слова прославленного маршала, одного из тех, кто спас народы нашей страны от порабощения, резанули меня по сердцу. Я каюсь, что подделал тогда показания по направлению Рокоссовского в Крым, и он все-таки попал на отдых. Вернувшись из Крыма, он позвонил мне и сказал: «Доктор, разные люди есть; большинство из них бюрократы, а вы настоящий человек».
В течение жизни мне вручили немало наград, орденов, званий, но этот звонок прославленного маршала был лучшей наградой из всех, которые я получал.
Где-то также мне было жалко и К. Е. Ворошилова, пытавшегося сохранять свое реноме видного политического деятеля, народного героя, но понимавшего в минуты просветления, что он уже никому не нужен. Тогда, в Крыму, мы выпили с ним бутылку шампанского, ибо только этот напиток он признавал. После бокала шампанского исчезла его «маршальская» чопорность, он стал вспоминать свою молодость, шахтерскую Горловку, украинские песни, которые тут же предложил исполнить под своим руководством. Слуха у него не было. Но, подпевая его многочисленным украинским, в том числе и петлюровского характера, песням, я еще больше проникся жалостью к этому, в принципе, несчастному в старости человеку, у которого все осталось в прошлом.
Конечно, мне трудно судить о его прошлом, о его истинных и мнимых заслугах перед государством и народом, о его роли в репрессиях против невинных людей. Сейчас открываются новые страницы истории, новые страницы борьбы за власть, в которой никто не придерживался каких-либо принципов.
В гуще этой борьбы оказался и Ворошилов, который поддержал взятый Сталиным курс террора как один из важных рычагов борьбы за власть. У меня не выходит из головы лишь один вопрос: почему, разгромив окружение Сталина – Молотова, Маленкова, Кагановича, – Н. С. Хрущев, честный Н. С. Хрущев, не только не сместил со всех постов К. Е. Ворошилова, а, наоборот, поддержал его? Маршал Жуков, которого я длительное время наблюдал и который хорошо знал Ворошилова, как-то, когда зашла речь о нем, коротко сказал: «Смелый был человек, но как военный руководитель – недалекий. А со Сталиным у него были сложные отношения».
Удивительно, но за два года, в которые мне пришлось встречаться с Ворошиловым, он ни разу не вспомнил ни Сталина, ни его окружение, ни своих взаимоотношений с ним.
Он был тяжело болен. Помимо атеросклероза мозговых сосудов, что отражалось на памяти, у него были выраженные изменения в легких, приведшие к недостаточности сердечной деятельности. Он часто болел воспалением легких, и мне нередко приходилось бывать у него на даче. Со сталинских времен он привык вставать поздно, и каждый раз охрана, ожидавшая его выхода, гадала – жив Ворошилов или нет, взламывать двери или подождать еще. Стучать было бесполезно, ибо он очень плохо слышал.
Вспоминаю, как однажды, когда истекли все сроки появления Ворошилова, охрана начала взламывать дверь, и вдруг, к удивлению всех, она открылась и вышел невозмутимый Ворошилов, удивившись: «А что здесь делает так много народу?»
Умер он от сердечной недостаточности после очередного воспаления легких. Когда мы в последний раз увозили его в тяжелом состоянии с дачи в Кунцевскую больницу, я предложил, чтобы транспортировка осуществлялась машиной скорой помощи, на носилках. Ворошилов категорически отказался, заявив, что маршалов на «дурацких» носилках еще не таскали. Вызвал из Верховного Совета «Чайку», сел на откидное кресло, на котором обычно ездил «для сохранения осанки», и только так поехал в больницу.
У многих аппаратных работников, да и членов политбюро, вызывало раздражение мое участие в лечении Ворошилова, мои визиты к нему на дачу и в стационар. Но я считал и считаю сейчас, что врач должен оставаться врачом, независимо от того, какое положение в данном случае занимает его пациент и каково отношение к нему столь изменчивого общественного мнения. А ситуации, подобные ситуации с Ворошиловым, возникали не раз: будь то лечение Н. С. Хрущева, которого наблюдали близкие мне академик П. Е. Лукомский и профессор В. Г. Беззубик, с которыми я познакомился и подружился еще в период моей работы в Кремлевской больнице в 1957 году; лечение Г. К. Жукова после его отставки и других пациентов, находившихся, мягко говоря, не в ладах с официальной линией или с определенными деятелями партии и руководства страны.
Весьма своеобразная ситуация сложилась для меня при лечении Хрущева. Он категорически отвергал всех, кто хоть в какой-то степени был связан с его бывшим сподвижником и другом Брежневым и новым руководством страны. Единственное исключение он делал для профессора П. Е. Лукомского, которого он давно знал. Но признавал только лечащего врача В. Г. Беззубика и лишь ему доверял. Это был опытный, знающий, честный врач, и я был совершенно спокоен и уверен в правильности тактики лечения Н. С. Хрущева. Что бы там ни было, а Хрущев был пациентом, и мы за него отвечали. Естественно, что он категорически возражал против моего участия в лечении, заявляя, что не хочет, чтобы «вся эта свора (политбюро. – Е. Ч.) знала о его состоянии и обсуждала, долго он еще протянет или нет», подкрепляя, конечно, это заявление теми крепкими выражениями, которые он умел преподносить окружающим. Мы договорились, что посещать его будут только П. Лукомский и В. Беззубик, а если возникнут неясные вопросы, то мы будем обсуждать их заочно.
Встретился же я с Н. С. Хрущевым в необычной обстановке. Он находился в больнице на улице Грановского в связи с инфарктом миокарда. Как-то поздно вечером я был в отделении, и мне потребовалась медицинская сестра. Заглянув в комнату медперсонала, я увидел странную картину: дежурные сестры и санитарки сидели вокруг старичка-больного, закутанного в больничный халат, который им что-то громко доказывал и с пристрастием расспрашивал: «Ну что, вам при Брежневе лучше живется?» Он сидел ко мне спиной, и в первый момент я даже не узнал бывшего первого секретаря ЦК КПСС. При моем появлении сестры вскочили и смущенно стали оправдываться: «Евгений Иванович, в отделении все спокойно, вот мы и хотели с Никитой Сергеевичем чайку попить».
Повернувшись, Хрущев оглядел меня с ног до головы и, по-стариковски замешкавшись, поднялся, чтобы уйти. «Да вы оставайтесь, Никита Сергеевич. Я зашел только напомнить об утренних анализах больного Н.», – сказал я, сожалея, что прервал разговор, в котором Хрущев хотел «выговориться». Наверное, его состояние понятно больным, находившимся длительное время на лечении в отдельной палате. «Вот вы какой, – ответил Хрущев. – Не думал, что на место Маркова (начальник 4-го управления во время его руководства. – Е. Ч.) поставят такого молодого врача. Вот девочки (этим девочкам было уже давно за сорок. – Е. Ч.) о вас очень хорошо отзываются, да и Владимир Григорьевич (Беззубик. – Е. Ч.) много хорошего о вас говорил. Может, так и есть. Да только испортят вас брежневы и другие царедворцы. Не верю я никому».
Что мне было ответить этому прошедшему большую и сложную жизнь политику, удержавшемуся, почти не участвуя в репрессиях, при Сталине, захватившему, но не удержавшему власть, не менее, чем Брежнев и другие, виноватому в кризисе, поразившем страну, старому человеку, которого предали его же «соратники», «ученики» и «друзья».
И хотя после этой встречи сохранялись прежние принципы наших официальных отношений, в определенной степени лед недоверия был разбит.
Странным для меня было и отношение Брежнева к Хрущеву. Он много рассказывал об ошибках последнего, политической и хозяйственной безграмотности, усугублявшейся амбициозностью. О непоправимом ущербе, который тот нанес сельскому хозяйству. Любил вспоминать некоторые истории. «Помните выступление Хрущева, в котором тот начал угрожать ракетным оружием? Так вот, в тот период у нас была всего одна или две ракеты, точность попадания которых была где-то около 50 процентов. Я отвечал за этот раздел и прекрасно помню тот период, – говорил он нам. – А знаете, как мы с Дмитрием Федоровичем (Устиновым. – Е. Ч.) первые награды за космическую технику получили? – продолжал он. – Дмитрий Федорович говорит: "Ты в этот наградной список внеси кое-кого – и Хрущев поддержит, даже несмотря на возражение некоторых товарищей"». Так и получилось. Кто этот или эти «кое-кто», он не говорил, но в словах его сквозила обида, что он должен был ловчить, чтобы получить заслуженную, по его мнению, награду. Он делал вид, что его не интересует здоровье Хрущева, и когда я как-то начал говорить о его состоянии, он прервал меня и сказал: «Знаешь, Евгений, это твои проблемы, но ты должен делать все, что необходимо, чтобы не сказали, что мы его лишили хорошей медицинской помощи». Узнав о тяжелом состоянии Хрущева, он позвонил мне и попросил держать его в курсе событий.
В памяти осталось 11 сентября 1971 года. За два дня до этого у меня умерла мать, и на этот день были назначены похороны. В этот день умер Хрущев, и мне даже не пришлось присутствовать, по русскому обычаю, на поминках матери. Это был выходной день. Я позвонил Брежневу на дачу, сообщил о смерти Хрущева и спросил, будет ли официальная информация и как будут организованы похороны. Он ответил: «Подожди, никому, кроме родственников, ничего не сообщай». Я жду час, второй, наконец раздается звонок: «Можешь сообщить о смерти Хрущева в обычном порядке. Ну а там делай все, что делаете вы в таких случаях». Я понял, что в течение этих двух часов шло обсуждение, как объявить стране о смерти Н. С. Хрущева и где его хоронить.
Умер не просто персональный пенсионер, а бывший руководитель партии и государства, и вот он единственный из них похоронен на Новодевичьем кладбище, а не у Кремлевской стены.
В конце концов, проверив и перепроверив меня и по бюрократическим каналам, и по конкретным делам, Л. И. Брежнев, да и другие руководители партии и государства, смирились с тем, что я сохранил свое независимое профессиональное лицо и старался честно выполнять свой долг и говорить правду. Вероятно, это был один из факторов, позволивших мне оставаться на своем посту два десятилетия. Сыграло роль и то, что на одном из первых заседаний политбюро Л. И. Брежнев четко заявил, что начальник 4-го управления находится в его подчинении и подотчетен только ему, а для решения возникающих оперативных ситуаций управление должно контактировать с Ю. В. Андроповым. Такое заявление не только утвердило мое положение, но и позволило держаться с определенной степенью независимости.
За кулисами
Сегодня, после уничтожения системы 4-го управления, можно раскрыть еще один малоизвестный в нашей стране, но хорошо освещенный за рубежом аспект его деятельности.
Речь идет об отдыхе и лечении в Советском Союзе руководителей иностранных государств, правительств, в первую очередь лидеров коммунистических партий, друзей нашей страны. Андропов как-то совершенно справедливо сказал однажды Брежневу, что друзей можно приобретать, не только поставляя им оружие и продовольствие, но и заботясь об их здоровье, их работоспособности. Брежнев оценил эту идею, подхватил ее и предложил направлять приглашения руководителям государств и партий для отдыха и лечения в нашей стране.
Первыми откликнулись руководители коммунистических партий и правительств социалистических стран, которые стали ежегодно посещать нашу страну для отдыха и диспансеризации, причем эти на первый взгляд сугубо медицинские поездки постепенно превратились в политические встречи. Приезжало много гостей из развивающихся стран, стран так называемого третьего мира. В иные годы их число достигало нескольких тысяч. Это было большим испытанием для 4-го управления, учитывая, что приезжали многие руководители, обращавшиеся до этого в лучшие медицинские учреждения Запада. И надо сказать, что это испытание учреждения управления – как больницы, так и санатории – выдержали с честью.
Были, конечно, и казусы, как, например, с главой Центрально-Африканской Республики Бокассой. Не знаю, каким образом сотрудники МИДа вышли на него в активных поисках друзей в Африке, но факт остается фактом, что в августе 1973 года, узнав, что он болен каким-то гастроэнтерологическим заболеванием, его пригласили на лечение в нашу страну. Не помню, в каком амплуа он приезжал: то ли как руководитель революционной партии, то ли как император. Но работники МИДа просили обеспечить прием и лечение на самом высоком уровне. Когда впоследствии я читал, что это был один из самых жестоких людей в Африке, каннибал и убийца, я не мог в это поверить, вспоминая нашу встречу в инфекционном корпусе Кунцевской больницы. Это был невзрачный человечек, который постоянно улыбался и извинялся. Осмотрев его вместе с нашим известным гастроэнтерологом, профессором В. Г. Смагиным, мы установили, что ничего угрожающего у пациента нет и речь идет о банальном холецистите и колите. Рекомендовав обычное в таких случаях лечение и диету, мы разъехались по домам, так как это был воскресный день. Не успел я приехать домой, как раздался звонок из больницы, и дежурный врач просил меня срочно вернуться. Я уже привык к таким вызовам и буквально через 30 минут был на месте. Оказалось, что вызывали меня не к больному, а для того, чтобы навести порядок в кухне этого корпуса. С Бокассой приехали его слуга и повар и привезли обычные для него продукты питания. К моему удивлению, это были какие-то мелкие змейки, животные типа ящериц, грязное мясо непонятного происхождения. Я поднялся к Бокассе и сказал ему, что здесь, в больнице, мы будем лечить его нашими методами, диета является таким же лекарством, как и таблетки, которые он принимает. Получив его согласие, я попросил выбросить все, что было привезено, на помойку. Бокассе так понравилась наша пища и лечение, что, покидая в хорошем состоянии через десять дней больницу, он поставил вопрос перед работниками МИДа о выезде с ним нашего врача и нашего повара. Работники МИДа настоятельно требовали как можно быстрее решить этот вопрос. Вызвался поехать с Бокассой доктор Ф. К. Яровой. Поездка врача и повара была недолгой – то ли Бокасса не получил от нашей страны того, чего добивался, то ли ему надоело постоянное вмешательство в его жизнь врача, призванного следить за состоянием его здоровья. Через три месяца по убедительной просьбе нашего посольства доктор был возвращен в Москву. Бокасса долго решал, под каким «соусом» порвать контракт. Но не нашел ничего лучшего, как обвинить врача в попытке принудить одного из полицейских охранников к сожительству. Надо было видеть пожилого, интеллигентного, субтильного доктора и громадного роста полицейского, чтобы представить всю бредовость заявления Бокассы о том, что советский врач пытался силой совратить полицейского.
Однако эта история была исключением в большой международной деятельности наших врачей, тем более что работать нам приходилось в сложных условиях не только медицинского, но и политического характера.
В 1971 году меня и П. Е. Лукомского срочно пригласили в Берлин для консультации В. Ульбрихта. До этого мы несколько раз консультировали его во время отдыха в санатории «Барвиха». В свои семьдесят восемь лет Ульбрихт прекрасно выглядел, активно занимался физкультурой, любил ходить на лыжах, правда, многое в его физической активности носило показной характер. Единственно, что его беспокоило, – это повышение артериального давления и иногда появляющиеся головокружение и слабость, связанные, несомненно, с развивающимся атеросклерозом сосудов мозга. В Берлине нас встретили растерянные лечащие врачи Ульбрихта и наш посол П. А. Абрасимов, заявившие, что Ульбрихт категорически отказался от помощи специалистов правительственной больницы и обратился к медикам, которые не были знакомы партийному аппарату СЕПГ и которых нежелательно было знакомить с состоянием его здоровья. Однако оказалось, что суть конфликта заключалась не в медицинских проблемах лечения Ульбрихта, а в ситуации, которая создалась в связи с обострением его отношений с Э. Хонеккером. Предстоял съезд партии, на котором В. Ульбрихт, которому исполнилось уже семьдесят восемь лет, должен был уступить свое место Э. Хонеккеру. В. Ульбрихт, как это бывает при склерозе мозговых сосудов, не мог критично оценить свое состояние, считал себя вполне работоспособным и с обидой воспринял предложение, переданное к тому же, по его словам, в некорректной форме, стать почетным председателем партии. Ульбрихт в то время считал себя единственным теоретиком-марксистом, оставшимся в живых. Иначе как «Лениным современности» и главным идеологом коммунизма в современном мире он себя не представлял. Когда у него произошел гипертонический криз, он наотрез отказался ехать в правительственную больницу и был помещен, по его настоянию, в обычное больничное учреждение. Хонеккер же боялся, с одной стороны, как бы действительно не произошло тяжелых осложнений в состоянии здоровья В. Ульбрихта, а с другой – широкой огласки конфликта. И то и другое могло оказать неблагоприятное влияние на ход съезда, а может быть, и на его избрание. Учитывая, что В. Ульбрихт не пускал к себе врачей из правительственной больницы ГДР, предполагалось, что консультантов из Москвы, которые смотрели его в «Барвихе», он примет. С одной стороны, те после консультации смогут ответить на все вопросы Э. Хонеккера, а с другой – постараются убедить Ульбрихта в необходимости лечения в правительственной больнице. Действительно, В. Ульбрихт принял нас с Лукомским весьма любезно, хотя на протяжении всей встречи градом сыпались нелестные слова и в адрес врачей правительственной больницы, и в адрес Хонеккера. Состояние его было удовлетворительным, и на консилиуме с участием врачей, которые лечили его в тот момент, было решено, что через несколько дней он сможет вернуться домой.
На обеде в нашем посольстве мы успокоили П. А. Абрасимова и Э. Хонеккера, что ничего страшного в состоянии здоровья В. Ульбрихта нет, что он уже стал адекватным, успокоился и через несколько дней, вероятно, вернется домой. В общем так и оказалось. Съезд прошел в спокойной обстановке, и в 1971 году Э. Хонеккер был избран первым секретарем СЕПГ.
Нередко мне трудно было оценить в те годы масштабы и значимость нашей интернациональной, если так можно выразиться, деятельности. И только гораздо позднее, и чаще даже из других источников, я узнавал, что принесло той или иной стране, политической ситуации в мире решение наших сугубо медицинских проблем. Несомненно, что наш долг врачей – лечить, обеспечивать здоровье и жизнь человека. Остальное – дело политических и государственных деятелей, общества, наконец, самого народа. Но я убедился, что врачебная деятельность косвенно может активно влиять на ход тех или иных политических и исторических процессов.
Первый в моей практике подобный случай связан с лечением президента Египта Абделя Насера. Сегодня это не представляет никакого секрета, а тогда за нашими данными охотились разведки ряда стран мира. В первые дни июля 1968 года мне позвонил Брежнев. Хотя он и не говорил открыто, но из разговора я понял, что один из наших близких зарубежных друзей тяжело болен и его лечащие врачи хотят с нами встретиться, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и возможные пути решения вопроса. Не знаю, на каких данных основывался Брежнев, но он намекал, что речь идет о каком-то опухолевом процессе, видимо, урологического характера. В заключение твердо добавил: «Привлеки к обсуждению только тех специалистов, которым полностью доверяешь, и чтобы никакая информация не могла просочиться на сторону. Никого, даже в советском руководстве, не информируй о результатах консилиума».
На следующий день в моем маленьком кабинете на улице Грановского собрались несколько египетских специалистов, приехавших с Насером, и наши ведущие специалисты, среди них ведущий хирург B. C. Маят и уролог А. Я. Абрамян. Египетские врачи рассказали, что в последний год Насер стал жаловаться на боли в ногах, которые вначале появлялись при длительной ходьбе, а затем и при небольших прогулках, сейчас же беспокоят даже в неподвижном состоянии. Причем, если вначале боли были только в стопах, то в настоящее время они появляются и в бедрах. Он стал замечать «онемение» стоп, на пальцах появились признаки начинающейся гангрены, а на коже ног – трофические изменения. У президента был нарушен обмен жиров и сахара, много лет он курил крепкие сигареты типа «Кэмел». Признаков коронарной недостаточности, по словам врачей, не было.
На основании того, что нам рассказали египетские коллеги и что мы смогли почерпнуть из привезенных материалов, у нас сложилось твердое мнение, что в данном случае никакой опухоли нет, а речь идет о типичном атеросклерозе сосудов ног с начинающимся нарушением кровообращения в них. Однако окончательное заключение мы могли дать только после осмотра и обследования президента. Наше предложение о встрече с Насером на первых порах не вызвало энтузиазма у египетских врачей. Они не давали согласия на такое обследование, так как им необходимо было обсудить этот вопрос с пациентом. Египетская сторона панически боялась утечки любой информации о болезни Насера. Да это и понятно. Обстановка на Ближнем Востоке, несмотря на перемирие, была крайне напряженной. Состояние можно было обозначить как «ни мир, ни война». Насер стал к этому времени признанным лидером арабов, символом их борьбы за независимость, за радикальные перемены. Любовь народа к нему была безгранична. Сообщение или известие о болезни Насера могло бы во многом повредить объединению усилий арабов в борьбе с Израилем.
Насер поверил в нашу порядочность, да к тому же египетская сторона понимала, что Советский Союз, так же как и они, заинтересован в конфиденциальности консилиума советских врачей. Как бы там ни было, но 6 июля рано утром состоялась наша первая встреча с Насером. Президент Египта выглядел усталым, больным и встревоженным. Его, помимо врачей, сопровождал Анвар Садат. После первых пятнадцати минут встречи на консилиуме сложилась так важная для нас, врачей, обстановка непринужденности. Насер держался просто, доверительно, но без панибратства, которое некоторые великие мира сего почему-то считают проявлением демократизма. Это был вежливый, эрудированный, интеллигентный человек. Когда на наш вопрос о жалобах он с какой-то безнадежностью сказал, что все пять часов полета до Москвы его мучили сильнейшие боли в ногах и бедрах и он вынужден был все время лежать, хотя предполагал провести совещание, мы поняли, как он устал от болезни, а главное, от того, что ее проявления необходимо было скрывать даже от врачей. Он не мог ходить, а ему надо было бывать в воинских подразделениях; у него были сильнейшие боли, а он был вынужден их терпеть, чтобы не заподозрили, что президент болен. Он переживал, что не мог в самолете обсудить все проблемы с Ясиром Арафатом, который под видом технического сотрудника по имени Амин впервые летел в Москву на встречу с советскими руководителями.
Мне много раз в дальнейшем приходилось встречаться с Насером, но именно тогда, во время первого консилиума, я проникся к нему уважением как к мужественному и сильному человеку. Да и не совершают революции слабые люди. Пустяк, но показательный. Когда мы начали его лечение, я сказал, что первое наше требование, чтобы он бросил курить. Он тут же вызвал адъютанта, отдал ему лежащую на столе пачку сигарет «Кэмел», зажигалку и сказал: «Больше их около меня не должно быть, и запомните – с сегодняшнего дня я не курю. – И, обращаясь ко мне, с улыбкой добавил: – Если бы это касалось только меня, еще можно было бы поспорить, но это касается Египта». И он твердо держал слово.
Осмотр и обследование подтвердили наш диагноз – атеросклероз сосудов ног. Поскольку в те годы операции на сосудах по поводу атеросклероза только начинали делать, мы обсудили возможность и целесообразность ее проведения. Однако поражены были в основном дистальные (конечные) отделы артерий ног, и операция здесь не могла дать эффекта. Оставались консервативные методы. Обсуждались различные варианты, и в конце концов было решено начать бальнеотерапию – использование цхалтубских радоновых вод, которые в ряде случаев давали при подобных заболеваниях хороший эффект.
Насер, в принципе, согласился с нашим предложением, заявив, что после возвращения в Египет обсудит с руководством страны и Национальным собранием вопрос об отдыхе (он подчеркнул, именно об отдыхе) и в ближайшее время вернется в Советский Союз для лечения в Цхалтубо.
Я сообщил Брежневу неутешительные результаты консилиума. В ответ он сказал: «Надо сделать все для восстановления здоровья Насера, ибо нет на Ближнем Востоке другой фигуры, которая могла бы объединить арабов в противостоянии США и Израилю. Если он сойдет с политической арены, то это будет большой удар по нашим интересам и по интересам арабов. Сделай все, что необходимо для его лечения. Официально его будет принимать на отдых Президиум Верховного Совета. Я скажу Подгорному, чтобы обеспечили все, что необходимо».
Действительно, вскоре позвонил Н. В. Подгорный и в присущей ему грубой манере сказал: «Звонил Брежнев, попросил, что надо тебе помочь с Насером. Я дал указание, свяжись с моими ребятами, они займутся всем этим». На этом наш весьма «продуктивный» разговор о лечении Насера закончился. Как помогали мне ребята, я почувствовал, когда поехал в Цхалтубо, чтобы посмотреть на месте возможности размещения президента Египта. В Президиуме Верховного Совета, как часто бывало, все спускалось по бюрократической лестнице, и когда я в конце концов встретился с человеком, который должен был организовать прием, то им оказался заведующий то ли фотолабораторией, то ли фотокиноотделом Верховного Совета, если мне не изменяет память, по фамилии Данилов. Вся его помощь заключалась в том, что он с большими придирками подписывал счета за пребывание Насера. В Цхалтубо не оказалось ни одного помещения, достойного президента крупной и дружественной нам иностранной державы. Все бывшие дачи были грязными, запущенными, а в санаториях имелись только стандартные палаты по 12–14 квадратных метров, да и то без удобств. Положение было крайне тяжелое. Надо отдать должное бывшему в то время первым секретарем ЦК КП Грузии В. П. Мжаванадзе, по распоряжению которого был приспособлен более или менее небольшой корпус санатория Совета министров Грузии.
Однако, когда незадолго до прибытия Насера приехали представители его канцелярии и осмотрели предлагаемые для президента три маленькие, по 14 метров, комнаты, они при всей своей вежливости спросили только одно: «А нет ли другого помещения, хотя бы немного попросторнее?» И когда я, уставший от безразличия тех, кому поручалась организация приема, резко сказал: «Это лучшее, что здесь есть, и другого мы предоставить не можем», они также довольно резко ответили: «Но ведь вы принимаете главу иностранного государства». Я был полностью согласен с ними, но ничего сделать не мог. Чувствовалась «либерализация», проводившаяся Хрущевым, и его стремление к уничтожению привилегий. Но, наверное, при этом хотя бы несколько дач для приемов надо было оставить.
Насер, в связи с решением трудных проблем защиты страны от непрекращающихся израильских рейдов, задержался почти на два месяца. Зная сложную ситуацию с размещением в Цхалтубо, он приехал в сопровождении очень небольшой группы секретарей и охраны. С ним был симпатичный, приятный и умный египетский посол в Москве М. Галеб. Мне с ним было легко еще и потому, что он тоже был по профессии врач и хорошо понимал сложившуюся ситуацию. Несмотря на то что ответственные за охрану работники 9-го управления КГБ делали все, чтобы предупредить утечку информации о приезде Насера, весь город только и жил разговорами об этом визите. Помню, часа за четыре до приезда президента мы пошли на базар почистить ботинки (надо было все-таки достойно встречать главу иностранного государства). Чистильщик, пожилой веселый грузин, думая, что мы отдыхающие, расписывая прелести Цхалтубо, махнул мне рукой, чтобы я наклонил голову, и тихо сказал: «Ты, как мне кажется, хороший человек. По секрету тебе скажу, что, выйдя на угол площади в 12 часов, ты увидишь Насера». И он точно описал маршрут проезда президента, который вечером, накануне, в полном секрете прорабатывали работники «девятки». Бедная охрана!
У меня, как и у встречавших грузинских руководителей, были опасения, что Насер останется недоволен размещением, скромностью обстановки. Видимо, что-то в этом духе ему начали говорить заранее приехавшие египетские «квартирмейстеры». Однако он их тут же оборвал, и, как сказал нам выделенный с нашей стороны переводчик Э. Султанов, которого очень ценил Насер, суть ответа заключалась в том (если его суммировать), что, мол, «перестаньте разговаривать, здесь мне нравится, и потом, не забывайте, что мы гости, а я приехал сюда, чтобы вылечиться». Этот ответ снял напряженность, конечно, и с нас и с египтян, которые постарались передать нам суть этого разговора. Все недостатки компенсировал оставшийся со времен Сталина небольшой мраморный бассейн, в который поступала естественная радоновая вода.
Насеру очень понравилась бальнеотерапия, которую он переносил прекрасно. Держался он со всеми просто и очень доступно. Любил вместе с нами прогуливаться в прилегающем парке. К нашему удивлению, состояние его быстро улучшалось: исчезли боли, стала проходить связанная с этим бессонница. Постепенно начали исчезать трофические расстройства и признаки гангрены пальцев ног. Мы не ожидали таких блестящих результатов, тем более что я не очень верил в бальнеотерапию. Удивлен был и Насер тем, что мы так быстро смогли вывести его из, казалось бы, безнадежного состояния. Доктор И. Тюльпин, которого мы выделили ему еще в Москве, стал его доверенным лицом. Удивительна психология тяжелобольного, которую я наблюдал за свою долгую врачебную жизнь. Врачи, да и другой медицинский персонал, становятся ему самыми близкими людьми, если им удается помочь больному.
Сам Насер, да и его окружение, держались скромно, и требования их были минимальными. Грузинские товарищи, в силу характерного для них гостеприимства, делали все, чтобы египтяне были довольны. Помню обед на воздухе, который они устроили в первый день для всех сопровождающих президента лиц. Прекрасная погода, чудесное грузинское вино, которое лилось рекой, грузинские деликатесы и концерт «народных талантов», которые, как мне потом сказали, были известными артистами. Они настолько покорили египтян, что те, не скрывая своего восторга, рассказали об этом приеме Насеру.
Кроме лечебных ванн и прогулок, Насер никуда не выходил из отведенного ему небольшого отсека. Наконец курс терапии был закончен, и в хорошем, бодром настроении Насер собирался домой. Перед отъездом, давая рекомендации, мы долго сидели у него в комнате. Я понимал, что улучшение состояния связано с тем, что, как это и бывает при использовании радоновых ванн, произошло раскрытие и развитие так называемых коллатеральных сосудов, обеспечивающих достаточное кровообращение в ногах. Но атеросклеротический процесс в то время остановить было невозможно, тем более у человека с признаками диабета. Это сегодня в нашем кардиологическом центре мы добиваемся стабилизации атеросклеретического процесса. Мы понимали, что атеросклероз будет развиваться, и трудно сказать, какие сосуды он в дальнейшем захватит, может быть, это будут сосуды сердца, а может быть, и мозга. Нужна диета, нужен режим, надо снять перегрузки, психоэмоциональный стресс. Выслушав нас, Насер, улыбнувшись, сказал: «Но ведь, выполняя все эти рекомендации, трудно оставаться президентом Египта. А я, честно говоря, хочу им еще быть. Не могу я просто бросить свой народ в тяжелой ситуации».
Мы договорились, что через три-четыре месяца, якобы для отдыха, мы посетим Египет и оценим отдаленные последствия лечения, состояние его здоровья и дадим новые рекомендации для дальнейшего лечения. Мы предложили, чтобы, наряду с египетскими коллегами, за состоянием его здоровья в Каире следил советский врач, например, тот же И. Тюльпин, который импонировал президенту и был достаточно настойчив при реализации наших рекомендаций. Насер сказал, что он бы с удовольствием принял предложение, но боится, что это могут понять как его недоверие к египетским врачам. А это не так. Он очень уважает своих лечащих врачей. «Народ меня не поймет», – заключил Насер. Мы вынуждены были согласиться с ним.
Расставание было очень теплым. Вернувшись в Каир, Насер направил Брежневу послание, в котором благодарил за все, что было сделано для него.
Когда через несколько месяцев мы посетили его в Каире, он чувствовал себя хорошо, много ходил, много работал и даже играл в теннис. Он был весь погружен в проблемы восстановления обороноспособности страны, укрепления арабского единства, борьбы с Израилем. Удовлетворенные его состоянием, мы вернулись в Москву.
Прошел почти год. Мы договорились, что Насер приедет на повторный курс лечения в Цхалтубо в сентябре – октябре 1969 года. Меня изредка по каналам МИДа через нашего посла С. Виноградова информировали о том, что с президентом все благополучно и он активно работает.
В начале сентября я поехал в Жигули – очень живописное место на средней Волге, где началось строительство одного из новых реабилитационных комплексов. Надо знать, что такое строить в нашей стране на необжитом месте, куда пришлось прокладывать 32 километра новой дороги, да и сам комплекс по архитектуре и медицинской технологии был новым словом в советской медицине и требовал большого внимания. После тяжелых пререканий с проектировщиками и строителями мы, по волжским обычаям, отдыхали на берегу реки, поедая вкуснейшую уху. Прекрасная природа, благодатная тишина теплого сентябрьского вечера создавали необычную для нас обстановку успокоенности. Эту иллюзию разрушил кто-то из местных руководителей, сказав, что только что позвонили из Москвы и передали, что завтра рано утром я должен быть на работе – мне будут звонить. Вот и весь разговор. Легко сказать – завтра утром быть на работе, когда ты от нее за тысячу километров, поезд уже ушел, а до самолета надо еще добираться километров двести.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: