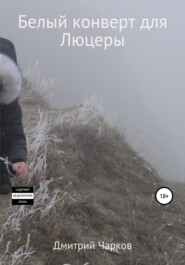скачать книгу бесплатно
Белый конверт для Люцеры
Дмитрий Чарков
Любое кармическое предопределение ничтожно перед выбором самого человека – важны его внутренние устои для материализации событий и явлений, происходящих здесь и сейчас. Её прошлое, как клеймо. Её настоящее – растворение в движущейся массе мегаполиса. А её будущее, словно медленное проявление отпечатка с негатива на старой фотобумаге, испещренной призрачными силуэтами двух непримиримых родовых линий. Воля её настолько сильна, что раздвигает устоявшиеся социальные догмы, а личное обаяние притягивает, подобно звериному магнетизму. Реалити-ХХI тесно переплелось с проклятиями в трёх поколениях: жизнь и смерть подобны калейдоскопу. Действие – в нескольких зонах: исследуется причинно-следственная связь между трагедиями членов 2 родов на протяжении более чем 70 лет. Идея: любое кармическое предопределение ничтожно перед выбором самого субъекта – важны его внутренние устои для материализации событий и явлений, происходящих здесь и сейчас. Каков выбор Люцеры? Содержит нецензурную брань.
Дмитрий Чарков
Белый конверт для Люцеры
Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льётся с клёнов листьев медь…
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.
Сергей Есенин
Часть 1
Преломляя реалии времени
1
Апрель 1992
Дед лежал посреди комнаты на шести широких, составленных вместе, стульях. Плотная штора на окне была задернута, и лучи заходящего солнца еле-еле пробивались сквозь широкие металлические кольца круглой деревянной гардины под высоким сталинским потолком. На древнее бабушкино трюмо в углу комнаты было наброшено бежевое махровое полотенце. Полумрак и тишина.
Рядом с изголовьем, в глубоком кресле-качалке, сидел отец, подперев одной рукой голову и уставившись в различимую только ему точку где-то на полу.
– Проходи, – сказал он, не глядя на Ивана.
Тот как-то неловко переступил порог и присел на тахту у стены.
Дед Николай выглядел как обычно, когда отдыхал после обеда на своём огороде – хмуро и замкнуто. Он даже и руки всегда так же складывал чуть повыше выпирающего живота, который в последнее время поддерживал кожаный бандаж – грыжа. В голове внука промелькнул на удивление бестолковый вопрос: «Интересно, а сейчас под его пиджаком надет этот бандаж?» Он перевёл взгляд на острый гоголевский нос и дальше, на редкие седые пряди. Тут же в изголовье, на стуле, лежал маленький томик Есенина из родительской библиотеки «Классики-Современники» – Иван сразу узнал его: в последнее время, приходя на семейные праздничные обеды, дед неизменно усаживался с ним у торшера, надевал очки в роговой оправе с толстыми стёклами и так сидел, читал, пока Иван или младшая сестра Лиза не увлекали его к общему столу. А брат Борис только призвался в армию…
Странно, но этот томик не выглядел неуместным у деда в изголовье. В Бога он не верил, хотя и был крещёным – в один из первых дней после революции пятого года.
А вот Есенину дед Николай верил.
– Идите, помяните, – позвала с кухни мама.
Иван подождал, пока отец тяжело поднялся, и сам вслед за ним встал с тахты и приблизился к стульям. Их высокие спинки на одном уровне образовывали черту, вдруг показавшуюся ему физическим барьером, отделявшим его от деда, как жизнь от смерти. И ещё она на миг представилась той полосой, что была в этот момент общей – и для Николая Кузьмича, и для его внука: каждому своя сторона, но в целом единая лента. Сбоку на круглом обеденном столе, поодаль от окна, стояла погашенная свечка на металлической крышке от стеклянной банки. Иван достал из кармана спички и, чиркнув, поднёс зардевшее пламя к тонкой белой нити – не хотелось оставлять его здесь совсем одного.
Это была уже вторая смерть в их семье за минувший год – первой ушла бабушка.
На кухне мама приготовила рюмки и нарезанное наспех сало с хлебом. Тут же в глубокой походной миске лежали соленья – огурцы, помидоры, отдельно грибочки: дед был мастером на эти штуки.
– Царствие ему небесное! – сказала мама.
После водки от сердца немного отлегло. Иван размеренно жевал молодой и сочный зелёный лук, его родители закурили. Между затяжками Сергей Николаевич произнёс:
– Батя меня в жизни пальцем не тронул… только один раз.
Иван хрустнул ядреным дедовским огурцом и взглянул на отца. В годы развитого социализма такое отношение к подрастающей смене не было в обиходе: детей частенько лупили, как сидоровых коз. Впрочем, не по внутренней злобе в большинстве случаев, а так – исключительно в целях коммунистического воспитания. Тогда всех лупили в этих целях, не только детей, и не только сидоровых.
– Помнишь тот мост на Угловой, рядом с «Арсеналом»? – спросил отец, наливая по второй.
– Конечно, – кивнул Иван. Они тогда жили под Свердловском.
Это был небольшой металлический пролёт длиною метров двадцать над овражком, по дну которого отсыпали дорогу. Мост соединял небольшой нефтезаводик с речным портовым узлом, и по нему регулярно гоняли покрытые снаружи нефтяной пленкой цистерны с горючим. В том месте постоянно стоял невыветриваемый специфический запах химикатов. Недалеко располагалась и средняя школа, которую закончили все из старшего поколения в их семье, ещё до переезда под Петербург, кроме мамы – она родом была из Восточной Сибири. Тогда вопросы экологии и производственной безопасности на Урале трактовались несколько иначе, чем годы спустя: детей с малолетства приучали нюхать если не порох, то нефть и металл, и играть неподалёку – закалка смолоду, так сказать.
– Мост тот не всегда был стальным. Во время войны он был деревянным. А на заводе танки собирали, на нефтебазе готовили горючку для них, и по мосту перегоняли на платформах к реке, там перегружали… в общем, режимный объект.
Отец поднял рюмку.
– За батю! – коротко сказал он.
Иван тоже выпил, мама пригубила.
– Твой дед во время войны был начальником цеха на заводе, самый молодой из всех тогдашних руководителей. Ответственная работа, сам понимаешь. Как он умудрился пережить тридцать седьмой, а потом и сорок первый – уму непостижимо.
– Такой молчун был, – вставила мама.
– Да, – кивнул отец, – может, поэтому и выжил, что молчал: ни о себе, ни о ком-то другом слово из него не выдавишь. Лишь изредка, и то – только хорошее, по делу. Очень сдержанный батя человек… был.
Он неторопливо отправил в рот маленький кусочек сала с хлебом, сдобренные чесноком, и продолжил:
– Я тогда маленьким пацаном ещё бегал, меня все знали: если футболом стекло кто высадит – ну, Буранов, кто ж ещё! Или в «цыганском саду», который возле школы, зелёные груши обдерёт – «а, вон Серёжку спросите, он точно знает!», или косточки от вишни по всей девичьей раздевалке в спортзале… Голодные ж ходили постоянно – война. Не знаю уже, правда или нет, чтоб я таким шалопаем рос, как бабки судачили… и я ли вообще всё это проделывал – но в тот день, когда сгорел мост, батя мне всыпал по первое число. Ведь я его и спалил.
Не специально, конечно. Я в тот день, помню, испытывал новый коктейль Молотова собственного рецепта: тоже хотелось что-то для фронта ведь… Наскрёб в пустую бутылку черной маслянистой травы с насыпи, по которой нефтяные цистерны толкали, приправил всё это такими же вонючими листьями, поджёг и – хрясь! – о каменную глыбу, тут же, в овражке. Оно как полыхнуло всё – и вверх по насыпи, по сушняку, а ветром и к мосту понесло. А он деревянный, тоже весь такой промасленный и черный – в один миг полыхнул. Не помню от страха, как я дома очутился – но быстро-быстро! Отец после ночной смены отдыхал, увидел меня, увидел зарево в овраге – догадался сразу. Матушка рассказывала: побелел весь… Это же саботаж: в военное время, при Сталине – подумать только! Батя тут же меня за уши – и в погреб. «Сиди, – говорит, – не пискни мне!» Сам побежал к мосту. Там, понятное дело, уже люди: кто-то с лопатами, вёдрами – землёй закидывают пламя, чтобы по шпалам не распространилось дальше, по железнодорожной колее да по склонам насыпи, потом ещё пожарные подоспели. Но куда уже… мост выгорел начисто. Хорошо хоть нефтезавод не полыхнул.
Батя в тот день долго не возвращался – мать уже думала: всё, в энкэвэдэ определили. Ближе к полуночи только пришёл – черный весь, усталый, пропахший гарью и нефтью. Но на меня сил хватило. «Где Серёга?» – спрашивает. Маманя на подпол кивает, мол, ты ж сам его туда засадил; она мне за день только попить да поесть пару раз спускала, и всё – я так и сидел: попробуй отца ослушаться, ага! Он открывает половицы, достаёт меня за шкирку… Помню, мама ладошки так нервно прижала ко рту, в ужасе смотрит, но сама слово произнести боится – её-то, поди, тоже в рабоче-крестьянской семье растили, знает порядки. Сестра уже спала в соседней комнате, а брат Фёдор – на смене на заводе. Отец, доставая ремень из петель штанов, шептал мне в ухо – как сейчас его слышу: «Полину разбудишь – самолично Петьке Жирному тебя сдам». (Петька жил тогда в соседнем подъезде и был кем-то, кого все сторонились. И боялись. Но ходил в «гражданке» – чистенький и отглаженный, пузатый такой, козёл. В пятьдесят пятом он испарился из наших мест – до сих пор никто о нём ничего не слышал. Но догадывались, конечно.) Я, понятно, не пикнул, пока меня батя ремешком-то обхаживал – молчал; не от гордыни даже, а от страха перед дядей Петей. На задницу потом неделю сесть не мог и ходил, как на раскорячке.
Слухи среди заводских, конечно, курсировали – мол, сынок Николая Кузьмича постарался на мосту, но в лицо бате такое сказать боялись. Мать тоже пресекала враз все расспросы – никто меня там не видел, в общем-то: овраг глухой, все дети – как дети, были на занятиях, меня одного на те «испытания» вместо литературы занесло. Но прогул урока не означал же виновности в поджоге! Родители сказали, что я в тот день ушёл с литературы, потому как заболел. Оно и правдой оказалось: за партой потом я сидеть всё равно не мог, а в сыром холодном погребе действительно простыл за несколько часов, так что неделю потом в постели провалялся. На животе. Если б ещё не рыбий жир… гадость такая! В принципе, как я позже узнал, никто о поджоге официально и не говорил тогда вовсе – никаких посторонних предметов на месте пожара найдено не было. Осколки бутылок – да их там куча всегда, а от обгоревшей спички и головки даже не осталось. Признали возгорание случайным, мост восстановили за 3 дня. Зато с тех пор он стальной – тоже ведь заслуга, а? Но батя мой тогда, можно сказать, из петли нас всех вытащил: если б хоть на секунду сдрейфил, не так на кого-то глянул, засомневался… не посмотрели бы, что стахановец, коммунист, что каждый месяц в военкомате скандалил из-за того, что в тылу его гнобят…
– Сергей Николаевич, гроб привезли, – послышался голос соседки тёти Кати в коридоре.
– Ну, давай по третьей, за деда, и пойдём, – отец выдохнул обжигающий перегар и прикрыл рот ладонью.
Тётя Катя, худая и высохшая, без передних зубов, дымила «Беломором», стоя на лестничной площадке. Через широкие сталинские окна в подъезде солнце щедро распыляло свои последние в этот день лучи. Двое парней в замызганных и местами дырявых футболках медленно поднимались снизу по скрипучей деревянной лестнице, неся на руках простой, обитый ярко-красной материей, гроб. В детстве один вид его всегда приводил младшего брата Ивана – Бориску – в ужас: по тогдашним традициям, крышка от него выставлялась на площадке перед квартирой в доме, где умирал человек. Железный памятник с красной звездой ставили у подъезда. Пройти мимо для мальчугана было нечеловеческим испытанием: ноги не двигались, руки холодели, а в самом воздухе, вокруг, казалось, витала сама Смерть – такая непостижимая и неведомая для ребёнка. В их околотке регулярно кого-нибудь хоронили, и можно было бы привыкнуть к виду сельского катафалка, музыкантов с духовыми инструментами и венков, но Бориске это почему-то долго не удавалось.
Иван вернулся в комнату, где лежал Николай Кузьмич. Отец в коридоре рассчитывался с парнями. Свечка отбрасывала на стены причудливые тени. Приблизившись к барьеру и вглядываясь в такое знакомое и теперь бесконечно далекое морщинистое лицо, Иван неожиданно для себя самого зашептал, глядя поверх высокого лба покойного:
– Спасибо тебе, дедушка, что ты был в моей жизни. Спасибо, что ты был папой моего папы, что я мог прижаться к тебе иногда и попросить десять копеек на мороженое, и ты никогда мне не отказывал. Как хорошо, что ты не варил самогонку и не курил папирос: мне теперь намного проще понимать, что не это делает нас мужиками. Спасибо, что ты брал меня с собой на рыбалку и подарил мне кеды – правда, я из них быстро вырос в то лето, и они изрядно потрепались на футбольном поле, но в них я забил столько голов, что ты по праву гордился своим внуком и говорил всем соседям и знакомым, что это мне вручили все те грамоты и дипломы. Теперь ты вместе с бабушкой – передавай ей привет от нас от всех, пожалуйста, мы по ней так скучали все эти месяцы – ну, ты и сам знаешь; да и она, наверно, тоже, но всё-таки… с другой стороны, ты же так хотел всё это время снова оказаться вместе с ней, вновь увидеть её мягкую и добрую улыбку, ощутить прикосновение заботливых рук… ты ведь не находил себе места без неё, дед, я знаю, я всё это видел. Она тебя наверняка уже Там встретила. Прости, что я не сдержался тогда, на кладбище, и накричал на тебя – но иначе ты бы до утра не ушёл с её могилы, так бы и стоял молча, окаменелый. И хоть ты говорил всегда, что Бога нет, дед, но, прости, я всё же думаю, что ты верил в Него всегда. Может, где-нибудь, в глубине души, но для настоящей веры, наверно, и не обязательно говорить об этом вслух, тем более в том мире, где это подвергается гонению. Поэтому я смело прошу Господа нашего Иисуса Христа простить тебе все прегрешения, вольные и невольные, и отпустить тебе грехи, и даровать царствие небесное и вечный покой. Спи спокойно, мы тебя очень любим.
Проговаривая своё последнее «прости», Иван и не заметил, как рядом появился отец: он стоял, опираясь на спинку одного из стульев. В этот момент Иван физически ощущал эту тонкую грань между настоящим и прошлым. Или это только казалось? Есть ли оно вообще, это мгновение, отделяющее миг от истории?
– Спасибо, сын, – сказал Сергей Николаевич и, нагнувшись к деду, положил в его изголовье, поверх томика Есенина, маленькую золотую звёздочку на ярко-красной матерчатой розетке. В самом центре звезды единой монограммой переплелись молоточек и ножичек овальной формы – давно забытые во времени и вышедшие из употребления молот и серп: символ ушедшей эпохи.
Монограмма государства-призрака.
2
Апрель 2017
Рапс оказался невысокого роста, подтянутым и приветливым господином со светлой курчавой бородой и длинным прямым волосом, неопределенного возраста: на вид ему было не более двадцати семи, наверно, но по глазам Иван прочитал, что на порядок больше. Помещение, в которое его проводили для встречи с магом, весьма отличалось от всего прочего интерьера, которое ему довелось видеть за всю жизнь: среди фиолетовых стен минимум мебели и максимум предметов на стойках-полочках – ножи, чётки, свечи, браслеты, камни, травы, палки, черепки, баночки, подвески, колбы и ещё много чего из кожи, кости, дерева и металла, чему он и названий-то не знал. Запах ладана с помесью каких-то других благовоний наполнял комнату.
– Ритуальные принадлежности, амулеты и обереги: они, в основном, тут представлены, – с улыбкой ответил на его немой вопрос Рапс.
Иван кивнул:
– Я догадываюсь.
Он присел в предложенное кресло.
– Я Сергей Беловоденко, – формально представился Рапс, – и готов разобрать вместе с вами ту ситуацию, которая вам представляется необычной или запутанной. Напоминаю, что всё сказанное между нами является конфиденциальным и не может быть воспроизведено кому-либо без нашего с вами взаимного согласия.
Иван вздохнул: он не знал, с чего начать.
– Предлагаю начать с самого конца, – снова «прочитал» его с мягкой улыбкой маг.
И тут же несколько смущенно добавил:
– Нет, я не телепат, просто все почему-то затрудняются именно в этом месте, ошибочно думая, что их примут за сумасшедших. Лично я вообще не верю в сумасшествие – считаю, что существуют различные формы и проявления измененного состояния сознания, которые существенно отличаются от форм подавляющего большинства остальных людей. А вы, Иван Сергеевич, как считаете?
– Можно просто Иван, без отчества.
– Окей. Иван.
– Я не так давно наблюдал одного такого… с измененным сознанием. Собственно, и визит мой к вам связан с этим, наверно.
Он снова замолчал, собираясь с мыслями.
– У вас очень светлая аура, Иван. Практически без разрывов. И знаете, что ещё примечательного в ней? Оттенок. Сиреневый, тёмный.
– Что такого примечательного в этом оттенке? – удивился мужчина.
– Он гармонирует с цветом этой комнаты, – рассмеялся Беловоденко. – Но вообще, присутствие фиолетового в ауре – свидетельство довольно-таки развитых экстрасенсорных способностей. Вот я и ломаю себе голову…
– … не коллеги ли мы с вами?! – закончил фразу Буранов и сам вдруг рассмеялся, качая в искреннем изумлении головой. – С этого, пожалуй, и стоит начать, на самом деле. Много лет назад мы похоронили моего деда – суровый был человек, старой закалки. Молчаливый, часто весь в себе такой, знаете… многое прошёл. Взгляд у него тяжёлый был – насквозь всех просвечивал.
Рапс задумчиво глядел куда-то поверх головы Ивана. Вдруг сказал:
– С металлом работал? С тяжелым. То ли чугун, то ли что-то такое… массивное, как броня.
– Да, всю жизнь на заводе, во время войны на Урале танки выпускали.
– А-а, понятно. Руки у него – мощные, как кувалды. Вам на плечи сзади обе сейчас вот положил.
Иван невольно обернулся – за спиной никого не было.
– Вы серьёзно? – спросил он.
– Совершенно, – невозмутимо подтвердил Рапс. – Он был Героем Советского Союза? Звездочку на лацкане вижу, но странно, что он не при погонах.
– Герой Социалистического Труда, – поправил Иван, – поэтому в штатском. На фронт так и не попал. Но очень рвался.
– Судя по всему, фронта ему хватало и в тылу.
– Да, это верно.
– У него была очень хорошо развита интуиция. Вы сполна её унаследовали – такие вещи, как правило, через колено передаются по роду. Отсюда и ваша аура. И что-то ещё, я подозреваю?
Буранов замешкался с ответом. Рапс продолжал:
– Бориска – ваш кровный родственник – рядом с дедом сейчас. Говорит, что Кузьмич молодцом. А Лиза из Питера пусть уезжает, неспокойно тут… О чем это он? Это брат же ваш?
Иван, ошарашенный, слушал Сергея. И ответил:
– Да, брат – Борис. Он погиб. Сестра наша младшая – Елизавета – сейчас живёт здесь, в питерской квартире брата.
– У вас с ним очень тесная ментальная связь. Предполагаю, что вы могли на расстоянии даже коммуницировать. Было такое?
– Гм… – замялся Иван, – как бы это сказать…
– Вам были видения? – помог Рапс.
– Думаю, так это и называется. Я не… того… не с изменённым сознанием?
– А я?
– Вроде нормальный.
– Да ладно…
Оба рассмеялись.
– Это меня и смущало, – признался Иван.
– Но пришли вы не за этим: к своим необычным способностям-то вы уже привыкли.
Иван посмотрел Рапсу прямо в глаза и спокойно ответил:
– Нет, не за этим.
Беловоденко протянул Ивану небольшой бесформенный камушек со словами:
– Это аметист. Подержите его некоторое время в руке, пожалуйста. Вы можете кое-что припомнить, что, как вам всё это время казалось, никогда и не случалось вовсе.