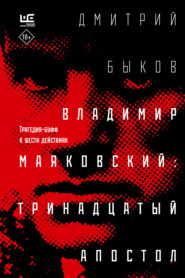скачать книгу бесплатно
– В какой он больнице?! – закричала она.
– Совсем застрелился.
Она вошла в выставочный зал. Там все как ни в чем не бывало рассматривали экспонаты и спорили по углам.
– Товарищи, Маяковский застрелился, – тихо сказала она.
Никто не услышал.
Она повторила громче.
– Слышал я эту первоапрельскую шутку, – сказал кто-то. – Его вчера Роскин видел у Катаева.
Лавинская бросилась в Лубянский проезд.
– Вынесли уже, – сказала ей женщина из небольшой толпы у двери. – Такой большой был…
В семь вечера пришла домой Луэлла Краснощекова, тогда уже Варшавская, – дочь бывшего замнаркома финансов, а тогда – сотрудника Наркомзема Александра Краснощекова, с которым у Лили был в прошлом серьезный роман. Когда Краснощекова арестовали (и вскоре по Лилиным хлопотам выпустили), Луэлла жила в семье Брик, рассматривалась всеми как младшая родственница и Маяковского звала запросто Володей. С утра по дороге в парикмахерскую – вечером предполагались гости – она видела на Лубянке ораторствовавшего с фонарной тумбы Алексея Крученых; вокруг клубилась небольшая толпа. «Совсем Круч с ума сошел», – подумала она. Была потом у зубного врача, и он сказал, что Маяковский вроде опять разболелся. Она позвонила на Гендриков, ответил чужой голос, она попросила Маяковского, трубку положили. Наконец она вернулась домой. Квартира, обычно довольно светлая, почему-то показалась ей сумрачной. Гостей не было.
– Аля, – спросила она отца, – где все? Что ты купил?
– Ты что, ничего не знаешь?
– Опять у тебя ничего не готово, – сказала она и пошла мыться.
– Луэлла, – сказал Аля. – Володя застрелился.
– Ничего не понимаю, – сказала она. – Где Дима?
Дима был его брат.
– Он звонил, они не придут.
– Почему не придут? Что такое?
– Володя застрелился, – повторил Аля.
– А где все? – спросила она. Она так ничего и не могла понять.
– Пойдем на Гендриков, – сказал ее муж.
– Зачем на Гендриков? Почему на Гендриков?!
…Там была толпа, не пройти. Аля кричал: «Пропустите племянницу Владимира Владимировича!» Их провели в квартиру. Луэлла вошла в комнату Маяковского, увидела его и упала прямо у двери.
В это время на Лубянке допрашивали Полонскую. «По приезде в театр репетироваться я не могла и просила чтобы меня отпустили. Ходила во дворе театра и ждала мужа который должен был приехать в 11-ть часов. По приезде его я ему рассказала обо всем происшедшем и позвонила по телефону маме, чтобы она приехала за мной. В-скорости приехала мать, с которой я поехала на ее квартиру – Мал. Левшинский пер. д. № 7, кв. 18, откуда меня и пригласили приехать обратно на Лубянку в квартиру МАЯКОВСКОГО. За все время знакомства с МАЯКОВСКИМ в половой связи с ним не была хотя он (все время – зачеркнуто) настаивал, но этого я не хотела».
Муж Полонской Михаил Яншин три дня спустя писал под наблюдением следователя Сырцова: «Вл. Вл. был самым “джентльменистым” (если так можно выраз.) самым обходительным внимательным вообще более порядочного что ли человека трудно было найти. Это я утверждал гораздо раньше и утверждаю котигорически сейчас. Итак в обществе Вл. Вл. нам было всегда очень приятно бывать. Мне и Норе (моей жене) было приятно бывать часто с человеком душевно сильным и здоровым лишенным всяких “мерехлюндей” и меланхолей, что часто встречалось в среде других людей, нас окружавших. Человек в жизни “пер” один. Шел упорно. Часто В.В. говорил, что у меня нет печати, нет рецензий, нет под держки должной, нет словом тех средств, которые помогают многим людям расти из “ничего”. Меня больше слышат, чем читают обо мне. <…> Товарищи! Не отбрыкивайтесь любовной интрижкой. Не трудно забросать, залягать и заплевать большую сложную трагедию внутренних переживаний Владимира Маяковскаго привесив к ней ярлычек из ТЭЖЕ[1 - Государственный трест жировой и костеобрабатывающей промышленности, источник раннесоветского парфюма. – Здесь и далее примеч. авт.]. Не трудно подмять под себя и топтать молодую еще совсем молодую женщину, спасая собственные шкуры. Я котегорически утверждаю, что никакой любовной интрижки нет и не было. Когда меня спрашивают, а чем вы можете объяснить, то что он включил ее в свою семью в письме, как ни тем что он был с ней в более близких отношениях, т-е другими словами хотят сказать что ведь он же ей платит, так за что же? Я могу ответить только одно, что люди спрашивающие такое или сверх’естественные цыники и подлецы или люди совершенно не знающие большого громадного мужественного и самого порядочного человека Владимира Маяковского».
15 и 16 апреля Полонская играла на сцене МХАТа в только что поставленной Станиславским переделке французской мелодрамы «Две сироты» Деннери и Кормона – в новой редакции Владимира Масса пьеса называлась «Сестры Жерар». Она играла Луизу Жерар, сироту, лишившуюся зрения, разлученную с сестрой и вынужденную заниматься попрошайничеством под надзором профессиональных нищих. Сохранились свидетельства, что играла она с большим подъемом.
После извлечения мозга скульптор Луцкий был допущен в гендриковскую квартиру – снимать маску. Он был неопытен, плохо смазал лицо вазелином, сорвал кожу со щеки и переносицы (отсюда и пошел слух о том, что к Маяковскому был подослан убийца, он сопротивлялся и в драке ему рассекли щеку). После Луцкого приехал Сергей Меркуров, снимавший маски почти со всех великих литераторов. Он все сделал правильно. Шкловский пишет, что некто (уж не он ли сам?) спросил Меркурова, правда ли, что он снимал маску с Толстого.
– Правда, – сказал Меркуров.
– И как?
– Мешала борода.
Олеша вспоминал, как вечером вез гроб Маяковского в писательский дом. Он стоял в грузовике, гроб был свежевыкрашен, к пальцам липла красная краска. Было холодно, и высоко светила маленькая апрельская луна.
2
Агент «Арбузов» докладывал Агранову:
Сообщения в газетах о самоубийстве, романическая подкладка, интригующее посмертное письмо вызвали в большей части у обывательщины нездоровое любопытство. И народ валом повалил с утра 15/IV на Поварскую.
Разговоры и сплетни среди публики наивны, пошлы, нелепы, и на них останавливаться нет смысла.
Разговоры в литер. – худож. кругах значительны.
Романтическая подкладка совершенно откидывается. В Маяковском произошел уже давно перелом, и он сам не верил в то, что писал, и ненавидел то, что писал.
Лиля дала телеграмму из Берлина с просьбой отложить кремацию до ее приезда, сообщила, что будет 17 апреля.
С утра 17 апреля к Дому Герцена выстроилась громадная очередь – через Кудринскую площадь, через всю Никитскую. Гражданскую панихиду открыл Артемий Халатов, директор ГИЗа, тот самый, который распорядился вырезать портрет Маяковского из апрельского номера «Печати и революции»: в приветствии журнала Маяковский был назван «великим революционным поэтом» – это что еще за титулы?! Речь с балкона сказал Константин Федин. Говорили Авербах, потом Третьяков – он сказал, что неправильно называть это событие панихидой, Маяковский употреблял это слово только иронически. Кирсанов прочел финал поэмы «Во весь голос». Около пяти вечера вынесли закрытый гроб, поставили на грузовик «паккард». За руль сел Михаил Кольцов («Разгрустившийся Кольцов трет калачиком лицо» – из пророческой эпиграммы 1929 года). Водил он плохо, за рулем грузовика сидел впервые, резко рванул и заглох. Его сменили, и в крематорий он приехал («с толпой родственников и знакомых», – ехидно замечает очевидец) на легковой машине.
Из гроба торчали ботинки с железными набойками – они запомнились почти всем, кто стоял в карауле. Корнелий Зелинский вспомнил, как хвастался этими ботинками Маяковский – «Сносу не будет!» – и думал о том, что теперь эти набойки расплавятся в крематории и смешаются с его пеплом. Потом, уже выходя из крематория, он встретился в темноте с Пастернаком, и тот сказал: «Как много было огня – и как мало осталось пепла!»
Точного числа пришедших проститься никто не назвал: ежедневно к Дому Герцена приходили десятки тысяч. Сотрудник ЦИКа Михаил Презент, автор подробного дневника о событиях тех лет, поехал в Кремль к Демьяну Бедному и рассказал ему о прощании. «Хватит, – сказал Демьян, – не то буду завидовать». – «Уже», – ехидно записал Презент.
Такого ажиотажа никто не ожидал. Луэлла вспоминает, что не видела столько людей ни на одной демонстрации. Говорили, впрочем, что Маяковский тут ни при чем: агент «Арбузов» зафиксировал мнение, что если бы выставили гроб серийного убийцы Комарова, который с 1921 по 1923 год угробил больше тридцати человек, причем суммарная выручка составила порядка 30 долларов по тем деньгам, – пришло бы не меньше. Всё просто: тогдашняя жизнь была бедна новостями, о большинстве событий узнавали по слухам, а тут – сенсация. Застрелился главный «их» поэт и рупор, причем от разочарования в «них» же. Плюс любовная интрига. Ужасно интересно. Чувство у большинства было двоякое: с одной стороны – любопытство и даже уважение. Нашелся один, который дал всем понять, что так дальше жить нельзя. А с другой стороны – все-таки злорадство: как весну человечества… рожденную в трудах и в бою… кто не с нами, тот против нас… И пожалуйста – застрелился. Сам же первый показал, что ничего у них не вышло. За рубежом, среди эмигрантов, господствовали те же ощущения, и не сказать, чтобы второе преобладало.
Но вообще аналогия точная. На серийного убийцу пришли бы смотреть по той же причине: подспудное хлестануло наружу. Ненависть и страх зрели, как гнойник, и ненависть была замешена на страхе. Маяковский сделал то, что хотелось сделать всем. Точнее, он это совместил. Выстрелил – потому что сколько можно терпеть? – и умер, потому что винить, в общем, некого. Только себя. Сами, всё сами.
С этого выстрела и начался его культ. О самоубийстве мечтали многие, что и зафиксировал Эрдман в своей главной пьесе, – и многие решались, но преобладающее большинство избрало жалкенькое: «Все строительство наше, все достижения, мировые пожары, завоевания – всё оставьте себе. Мне же дайте, товарищи, только тихую жизнь и приличное жалованье. С первого дня революции мы ничего не делаем. Мы только ходим друг к другу в гости и говорим, что нам трудно жить. Потому что нам легче жить, если мы говорим, что нам трудно жить. Ради бога, не отнимайте у нас последнего средства к существованию, разрешите нам говорить, что нам трудно жить. Ну хотя бы вот так, шепотом: “Нам трудно жить”. Товарищи, я прошу вас от имени миллиона людей: дайте нам право на шепот. Вы за стройкою даже его не услышите. Уверяю вас. Мы всю жизнь свою шепотом проживем».
Маяковский шепотом не умел.
В траурной процессии ехал и «рено» Маяковского, в нем везли Бриков. «Автомобиль покойника вели под уздцы», – хохотал впоследствии Демьян. В Донском крематории в почетный караул первыми встали приехавшая ранним утром Лиля, Осип Брик и Яков Агранов. Лиля многим казалась беременной из-за покроя нового заграничного платья. Говорили, что Полонской она запретила приходить на похороны: «Не омрачайте родным Володи прощание с ним. Ведь они вас считают причиной его смерти». Но даже если бы Полонская ослушалась, они с Яншиным не могли бы поспеть ни на панихиду, ни на кремацию: их весь день продержал у себя следователь Сырцов (как говорили, нарочно, чтобы помешать им проститься с Маяковским: вряд ли, впрочем, возможности Лили простирались так далеко).
Ровно в 7 часов 40 минут гроб по рельсам въехал в печь. Крематорий был экзотикой, посмотреть на сожжение пустили немногих избранных. Демьян Бедный рассказывал, что видел в глазок, как обуглилась голова. На обратном пути он в личном автомобиле с персональным шофером подвез Халатова к ГИЗу и крикнул ему вслед: «Береги теперь меня, я у тебя один остался!»
Стоило стреляться, чтобы Демьян считал себя единственным оставшимся советским поэтом!
Он же потом рассказывал: «Поэт был слабый… Я его недолюбливал, но если он хотел своим выстрелом сделать удовольствие мне, то он ошибся».
Вспоминали разное, выстраивали версии. Говорили, что на диспуте в Доме печати, где обсуждалась «Баня», бывший лефовец Михаил Левидов сказал Маяковскому: «Вы человек конченый», – и тот не возразил. Опубликованная в 1937 году в первом полном собрании Маяковского стенограмма выступления в Доме печати никаких ответов на подобную реплику не содержит, а полная запись утрачена (или вовремя уничтожена, чтобы последний публичный диспут Маяковского не выглядел полным его поражением). В числе причин самоубийства – ссылаясь на предсмертную записку, где упомянут проклятый налог, – называли особенно тяготившие его визиты фининспектора; предполагали, что если бы налог снимали не раз в году, когда набегает большая сумма, а в несколько приемов, понемножечку, он бы, глядишь, и не застрелился.
Беспризорные пели на мотив «Товарищ, товарищ, болят мои раны»:
Товарищ правительство, корми мою маму,
корми мою Людочку-сестру,
В столе лежат две тыщи,
их фининспектор сыщет,
а я себе тихонечко помру.
Говорили, что если бы Маяковский это услышал – не стрелялся бы. Мне же, напротив, кажется, что он счел бы это успехом: слово, которое уходит в народ, – точное слово.
В середине июня Полонской позвонили из Кремля и предложили явиться для переговоров о наследстве. Предварительно она посоветовалась с Лилей.
– Я вам советую от всех прав отказаться, – сказала Лиля. – Вы ведь даже не были на похоронах.
Вероника хотела возмутиться – кто, как не Лиля, отсоветовал ей быть на похоронах? – но промолчала. Во ВЦИКе ее спросили: Владимир Владимирович сделал вас своей наследницей, как вы на это смотрите?
– Вопрос этот сложный, я думала, вы мне поможете разобраться.
– Гм. Ну, может, хотите путевку куда-нибудь?
Полонская была так потрясена, что не нашла ответа. Ее вызывали еще пару раз, но так ни к чему и не пришли, и дело с наследством замяли. Яншин год спустя ушел от нее к цыганке Ляле Черной.
3
Удивительно, что на смерть Маяковского не было написано почти ни одного хорошего стихотворения; поэтические реквиемы Пастернака («Не верили, считали: сплетни…») и Цветаевой («В башмаках, подкованных железом…») не составляют исключения.
Хотя – что тут удивительного? Все возможные стихи на смерть Маяковского двадцать лет подряд писал он сам – собственно, ничем другим не занимался, периодически только отвлекаясь на всякие «Окна РОСТА».
Да и не было уже в 1930 году ни одного стиля, ни одной литературной манеры, в которой можно было бы написать поэтический реквием. Либо что-нибудь громыхающее на тему «Жизнь продолжается», либо романсовое, особенно ему ненавистное, – «Ни слова, о друг мой, ни вздоха». Но даже на фоне этого общего фальшивого тона стихотворение Ильи Сельвинского являет собой нечто исключительное:
Я был во главе отряда,
Который с ним враждовал,
И значит – глядеть на взорванный вал
Должно быть моей отрадой.
Я вел от края до края
Атаки на каждый холм:
Недаром последним его стихом
Была на меня эпиграмма.
И когда неприятельский вождь,
Как последней бурею – смертью ахает,
Я должен был бы сказать: «Ну что ж,
Труп врага хорошо пахнет».
<…>
Д’постойте… О чем бишь я… что ж это такое?
Маякоша… любимейший враг мой, а?
Неужели на черный титул «покойный»
Огневое «товарищ» сменил наш Маяк?
И стало в поэзии жутко просторно,
Точно вывезли широченный шкап.
Из-за какой-то размолвки вздорной?
Из-за неласкового ушка?
Что ж это, а? И ты как любой?
Как же так мир перечеркнули бровки,
Если ты,
Владимир
Маяковский,
Революции
первая
любовь…
Но я твое пробитое сердце
Прижму к своему с кровавой корой.
Я принимаю твое наследство,
Как принял бы Францию германский король.
Дальше он там обещает объединить, так сказать, их поэтические армии и пустить в общую битву за коммунизм. Господи помилуй, какой он тебе Маякоша?! Да, товарищи, сменил, сменил, так сказать, наш Маяк звание «товарищ» на титул «покойный»; нехорошо, товарищи! Боже мой, каким отсутствием такта, слуха, вкуса, каким самомнением надо было обладать, чтобы объявить себя наследником, к тому же победителем в ранге короля! Бог не Тимошка, видит немножко: Сельвинский, со всей своей одаренностью, с замечательной «Улялаевщиной» – единственным, вероятно, удачным советским эпосом, – оказался забыт еще при жизни и ныне со всеми своими «Пушторгами» и «Командармами» воспринимается как поэтический курьез, да еще предательство Пастернака ему припоминают («Когда толпа учителя распяла, пришли и вы забить свой первый гвоздь», – припечатал Михаил Левин). Посмертная месть Маяковского всем, кто решил, что теперь-то он уж точно не ответит, была ужасна. Есть у него и у мертвого кое-какие возможности…
Сельвинскому сразу стали намекать, что он перегнул палку («Мне сильно влетело от общественности, и, надо сказать, совершенно справедливо», – вспоминал он в 1963 году), – и на это он обиделся окончательно. 5 ноября 1930 года он опубликовал в «Литгазете» «Декларацию прав поэта», совершенно уже за гранью добра и зла:
Мне противна поза поэта,
Страдающего бронзовой болезнью
И вымучивающего поэтому
Свою биографическую лестницу.
Меня в ту пору, когда бродят усы,
Очередной импресарио
Не выводил на эстраду под уздцы
В роли дрессированного «зарева»…
<…>
А вы зовете: на горло песне!
Будь ассенизатор, будь водолив-де!
Да в этой схиме столько же поэзии,
Сколько авиации в лифте!
Далее автор воздает должное агитке, но время агитки – «пулемета» – прошло: «Требуется биплан, требуется крейсер!» Оценивая собственный поэтический опыт, он скромно замечает:
Это, брат, не ниже, чем плакатный столб
С беспредметным гонгом «Вперед, Время!».
Эпохе прикажешь: «Время, вперед!»
Раскроешь дверцы калиток…
А время задом вперед попрет,
Как Гегель к заре Гераклита.
(Какой ужасно образованный, постигший тонкости диамата лирик! В советской литературе конца 1920-х много было такого философского панибратства – Гегель попер к Гераклиту и наоборот. Маяковский-то диалектику учил не по Гегелю, Сельвинский и тут его превзошел.)