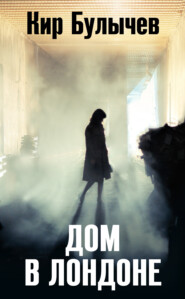скачать книгу бесплатно
– Я ничего не храню дома. А зачем? У нас даже нет драгоценностей. Знаете, я все собираюсь купить новый телевизор, но так страшно обратить на себя внимание! Я понимаю, что ничего не заслужил, что все это усмешка судьбы, может, даже злая усмешка. Ничего из этого хорошего не выйдет… И тут еще вы приехали!
– Пока что я не вижу связи.
– Наоборот! Мне хочется вам рассказать. Я хочу, чтобы именно вы все знали, Лидочка. Это удивительная история, в которую я не верю. И еще более удивительно, что я рассказываю ее совершенно незнакомому человеку.
– Вы уже сегодня принимали пищу из моих рук, – попыталась успокоить его Лидочка. – Так что считайте, что определенная степень доверия достигнута.
– Из меня дрессированный лев, как… – Слава не нашел сравнения, махнул рукой и продолжал свой рассказ, говоря вполголоса, словно не хотел, чтобы его слышали даже родственники.
Сверху загрохотала музыка – Иришка включила магнитофон на всю катушку. Лидочка невольно поглядела на часы. Десяти еще не было, милицию рано вызывать. Но может быть, здесь есть законы по охране тишины?
– Ничего страшного. Она сама долго такого шума не выдерживает, – успокоил Лидочку Слава.
При искусственном теплом свете кожа его была не такой мучнисто-бледной и мятой. Он даже казался приятным на вид человеком, правда, до владельца замка он никак не дотягивал.
– Моя мама, – снова начал Слава, – чисто русская женщина. То есть я так полагал. И бабушка моя, Мария Федоровна, она умерла лет шесть назад, тоже была вполне обыкновенной русской женщиной родом из Новгорода. Правда, с отцовской стороны я родственников почти не знаю – отец ушел от мамы, когда я был совсем маленьким. Родственники возникли сравнительно недавно, скорее посредством фамилии. Это они меня отыскали. Точнее, их папа. – Слава показал на стенку, за которой уже спали, готовясь к завтрашним завоеваниям, супруги Кошко из Краснодара.
Музыка наверху стихла, бунт подростков взял тайм-аут.
– Вот видите, – сказал Слава. – Она нам доказала и теперь будет читать, как нормальный ребенок.
Ему очень хотелось, чтобы Иришка оставалась ребенком, ну хоть еще годик-два.
– Теперь о моей бабушке, – деловито заговорил Слава.
Он устроился на своем диване, сложился кузнечиком и уменьшился до уютных размеров. Лидочка сидела в кресле, которое частично попадало в круг света от торшера.
– Я всю жизнь был убежден, что наша бабушка – чистой воды русачка, но лет десять назад, будучи уже в преклонном возрасте, бабушка призвала нас с мамой и передала нам вот эти документы. Из них следовало несколько любопытных выводов. Они касались в первую очередь моей прабабушки. До этого прабабушка, как и все прабабушки, была просто туманной тенью на старой фотографии. А может, и фотографии не было. Я даже не помнил, как ее звали. А тут оказалось, что звали ее Юлией Александровной Кабариной. О чем свидетельствует, в частности, вот этот любопытный документ.
Кошко протянул Лидочке листок, снятый на ксероксе.
Порт-Артур, 24 июля 1904 года
Свидетельство
Дано сие сестре милосердия Дальнинской больницы Ю.А. Кабариной в том, что она, состоя на службе Красного Креста, имеет право ношения на левой руке установленной повязки при печати означенного учреждения и за № 22.
Главноуполномоченный
Егермейстер И. Балашов
– Обратили внимание на надпись в левом верхнем углу?
– Порт-Артур?
– Вот именно! Оказывается, моя прабабушка во время русско-японской войны была сестрой милосердия в крепости Порт-Артур, то есть женщиной героической. Я даже пожалел, почти осерчал на бабушку за то, что она скрывала от нас ее документы. Ведь можно было бы проследить ее судьбу по архивам и даже написать о ней книжку. Ведь сестер милосердия, тем более в самом пекле войны, было немного… Но у моей бабушки, оказывается, были основания скрывать эти документы. Больше того, вскоре я убедился в том, что, тая и сохраняя бумаги, бабушка рисковала не только своей жизнью, но и жизнью всей семьи – ведь дед мой был сталинским чиновником выше среднего класса, и узнай кто-то о пачке писем в бабушкином столе, гудеть бы всей семье на лесоповал. Я не шучу, вы сами сейчас поймете. Но есть что-то в человеке, страсть сохранить связь со своими корнями, страсть, презирающая даже прямую опасность.
Слава заговорил выспренне, что было ему, в сущности, несвойственно. Но этот переход произошел от осознания значимости бабушкиных бумаг.
– Следующим документом в пачке оказалось письмо. Письмо необычное. После него всякое желание искать героические следы прабабушки в анналах Порт-Артура пропало. Вы по-английски читаете?
– Читаю.
Письмо было таким же пожелтевшим, как и справка.
– Обратите внимание, каким числом оно датировано. Судя по паспорту моей бабушки, она родилась 21 августа 1905 года. Читайте, читайте…
Лидочка принялась читать письмо. В переводе оно звучало так:
Д.З., Нарви Стрит, Лайсли Роуд,
Зап. Глазго
20 авг./2 сент. 05 г.
Моя дорогая Юлия!
Твое доброе письмо только сейчас добралось до меня, и я был рад узнать, что ты преодолела недомогание и дитя здорово тоже. Пожалуйста, прими мои самые сердечные поздравления. Я очень горжусь тобой. Надеюсь, что скоро ты будешь совсем здорова.
Я только что приехал в Глазго и был чрезвычайно занят, но надеюсь, что вскоре мне удастся все уладить. Я жду сведений о том, сколько мне еще удастся пробыть дома. Мир был подписан очень неожиданно, и я не знаю, как это скажется на моем отпуске.
Я собираюсь написать тебе длинное письмо, в котором коснусь всех частностей. Напиши мне, можешь ли ты читать мои письма?
Через несколько дней я вышлю тебе сентябрьские деньги. Надеюсь, что пока тебе хватает денег. Заботься о своем здоровье и о здоровье ребенка, пиши мне длинные письма и сообщай, как ты живешь. Я снова чувствую себя хорошо и хотел бы, чтобы ты была здесь со мной, но так трудно все уладить!
Любящий тебя и ребеночка,
верь мне,
твой искренне Август Кармайкл.
– Какой вывод вы сделали из этого письма? – спросил Слава.
– По-видимому, автор письма и его адресат провели какое-то время вместе, судя по документу, который вы мне показали раньше, в Порт-Артуре. Ваша прабабушка была сестрой милосердия, а мистер Август Кармайкл, шотландец из Глазго, приезжал туда по делам, вернее всего, как журналист – вряд ли люди других специальностей попадали в осажденную крепость. Я допускаю, что шотландец и ваша прабабушка познакомились, и в результате их союза на свет появилась ваша бабушка, а случилось это за две недели до того, как мистер Кармайкл написал утешительное письмо своей возлюбленной.
– Утешительное? – переспросил Слава.
– Вот именно. Мне это письмо не понравилось. Мне не хотелось бы получить такое письмо в родильном доме.
– А что вам не понравилось? Что? Мне это важно знать.
– Оно дежурное. Этот человек либо не умеет выражать свои чувства, либо не хочет этого делать. К тому же он умудрился пообещать все – и ничего конкретного. А другие письма от него сохранились?
– Еще три письма. Он в них даже просит все узнать, сколько стоит билет до Глазго, хочет ее скорее увидеть…
– Но…
– Не знаю. Больше писем не было. С середины сентября. Не исключено, что прабабушка не оставила их своей дочке.
– И что было дальше?
– А дальше вы представьте мою прабабушку: она совершенно одна, никому не нужна, в Новгороде. Денег нет или очень мало. Вернее всего, какие-то родственники у нее были только в Петербурге.
– А в Новгороде?
– Судя по семейным преданиям, в Новгороде жил ее бывший муж. Она убежала от него и стала сестрой милосердия. Возможно, она надеялась, что он примет ее обратно, но он, конечно же, не принял. Он был купцом и знать ее не хотел.
– Представляю, – сказала Лидочка.
– Вам не надоело?
– Что вы, мне очень интересно!
– Дальнейшие события объясняются в следующем письме. Написано оно через два года новгородской учительницей музыки Марией Мигаловской, женщиной пожилой, не очень здоровой, небогатой, но доброй. Все это видно из ее писем, написанных в течение 1907 года.
Слава протянул Лидочке письмо, написанное аккуратным летучим почерком на узких листках. Точно такой же почерк был у Лидочкиной бабушки – свидетельство прилежания на уроках чистописания, забытого в наши дни.
– Ничего пояснять я не буду, – сказал Слава. – Здесь все ясно. И почерк разборчивый. Только оно длинное – потерпите, пожалуйста.
– Не беспокойтесь, – остановила его Лидочка и принялась за чтение.
Новгород, 1907, 23 ноября
Многоуважаемая Булычева!
Простите и не удивляйтесь, что, не зная Вас лично, пишу Вам, но, дочитав до конца мое письмо, Вы поймете меня, что случай, а может быть, и промысел Божий указал мне именно на Вас.
Одна моя родственница, бывшая в Петербурге, совершенно случайно слышала, что Вы выражали желание взять себе на воспитание сиротку: это самое и дало мне мысль обратиться к Вам. Дело в том: однажды к моей прислуге пришла в гости женщина, которую и я раньше знала, некто Прасковья, пришла с хорошенькой маленькой девочкой лет двух. Я заинтересовалась ею, стала расспрашивать – оказалось, что она за тем именно и пришла, чтобы поговорить и посоветоваться относительно ее, и рассказала мне такую трогательную и печальную историю этого маленького существа, что я решилась, насколько мне Бог поможет, постараться устроить судьбу этого бедного ребенка, брошенного своею бессердечной матерью. Женщина эта рассказала, что она служила в родильном доме прислугою, а сестра ее замужняя в виде заработка брала к себе из этого дома по пожеланию матерей на прокормление малюток, одного или двух.
Ее собственные дети были для них няньками, когда сама она уходила на работу, получали они по 3 руб. в месяц с каждого питомца, как люди простые и бедные, считали это для себя выгодным – многих они вырастили таким образом. Этот же бедный ребенок попал к ним при других обстоятельствах. Однажды в родильный дом явилась интеллигентная беременная особа и родила девочку. А затем через несколько времени тайно ушла оттуда, бросив малютку на произвол судьбы. Тогда служившая там Прасковья, движимая жалостью, просила разрешения взять ее к своей сестре в надежде разыскать мать и попросить ее платить им, сколько она может. По догадкам было известно, что эта особа имела здесь в городе место, была замужнею, но с мужем не жила. И действительно, вскоре она разыскала ее и переговорила с нею о ее ребенке, та согласилась платить, но через несколько времени перестала уплачивать за ее содержание. Тогда Прасковья опять отправилась к ней и получила такой ответ: что платить она не может и ей совсем не нужна эта дочь, и вообще она не желает даже слышать о ее существовании и хочет совсем забыть, что она есть на свете; и что если они желают, то пусть берут ее совсем себе или отдают куда хотят – одним словом, пусть делают с ее ребенком, что только хотят, но себе она ее ни в каком случае не возьмет. И если они вздумают возвратить ее ей, то (при этом она перекрестилась) она не ручается, что девочка будет жива.
После таких угроз они волей-неволей принуждены были оставить малютку у себя, но как люди бедные – им тяжело кормить лишнего ребенка, да и одевать ее надо, она растет, и ей уже два года. Один исход – отдать в приют, но они так привязаны к этой маленькой бедной девочке, что не отличают ее от собственных детей, и им поэтому жалко отдать ее туда, зная, как тяжело живется подобным созданьям в приютах. Им хотелось бы лучшей участи для своей любимицы. И при том эти добрые, простые люди инстинктивно чувствуют, что это не деревенский ребенок, какие по большей части были у них раньше, для нее желательны другие условия жизни, и ей присуще получить какое-нибудь образование, которого они не в силах дать, и вот это-то заботит их. С этою целью она и к нам пришла, чтобы поговорить. Они решили искать кого-нибудь добрых людей, не возьмет ли ее кто вместо своего дитяти. И действительно, это милое, прелестное дитя: светлая шатенка с большими синими глазками, с длинными ресницами, правильными бровками, беленькая, розовенькая, и что всего удивительнее – в высшей степени кроткая. Я часто прошу приносить ее к себе и ни разу не видела ее плачущей или капризною, точно чувствует, что надо быть ей терпеливою, и один Бог знает, какая участь ждет ее в будущем. Когда я вижу эту изящную девчурку – невольно возникает вопрос: ужасное ли бессердечие матери заставило бросить такого ребенка, или уже чересчур непреодолимые жизненные условия?
Мы сами люди бездетные и, будучи в других условиях, несомненно, оставили бы и приютили эту крошку у себя. Но, к сожалению, мы пожилые и оба с мужем болезненные, и притом с чрезвычайно ограниченными средствами в жизни, и ко всему этому совершенно не обеспеченные в старости. Следовательно, в непродолжительном бы времени оставили бы ее опять одинокую, брошенную на произвол судьбы. Вот, многоуважаемая мадам Булычева, теперь Вы не удивляйтесь, что, когда я рассказывала всю эту историю своей родственнице, она вспомнила о случайно слышанном Вашем желании и сказала мне Ваш адрес. Она очень хвалила Вас, и если ей придется быть в Петербурге и представится случай – она может сама передать все относительно этой малютки, так как видела ее.
Если Вы действительно имеете намерение взять себе на воспитание девочку, то, несомненно, пожелаете повидать ее и, может быть, захотите приехать сюда – это так недалеко,– я посылаю Вам свой адрес. С Вами я могу съездить к этой женщине или можно будет послать за нею. Если же приехать Вам неудобно, то эта женщина может привезти ее к Вам, если Вы согласитесь уплатить ей дорогу туда и обратно, хотя бы по приезде ее к Вам. Бумаги, т. е. метрическое свидетельство, находятся у них. Все эти условия будут зависеть только от Вашего желания. Если же Вы раздумали или уже взяли себе на воспитание кого, то простите великодушно за мое длинное письмо и будьте так добры и любезны ответьте мне хоть коротеньким письмом, я буду очень, очень ждать Вашего ответа.
Мария Мигаловская
Адрес:
Новгород, набережная Федоровского ручья, дом Жеребковой № 29-й
Марии Васильевне Мигаловской, учительнице музыки.
– А вот и записка от моей прабабушки доброй женщине Авдотье. – Слава протянул Лидочке еще один желтоватый листок.
Диссонанс с письмом учительницы музыки был столь очевиден, что не так было важно содержание, как тон, как голос, слышный за словами.
Записка от Юлии Александровны без даты начиналась словами: «Милая Авдотья, я не ребенок, и меня не запугаешь полицией». Дальше шли жалобы на свою жизнь и сложные денежные расчеты, из чего Лидочка поняла, что деньги Юлия Александровна посылала скупо, зато придумала план, по которому она платила бы Авдотье сто рублей частями, а та обязывалась воспитывать Машеньку до двадцати одного года. Вряд ли беглая мать сама верила в такой план, тем более что из ста рублей пока что она выслала всего лишь четыре. И в заключение мать высказывала угрозу, которая, видно, и повергла в отчаяние простых новгородских женщин: «Если вздумаешь мне ее вернуть, посылай как знаешь, мне нет времени за ней ездить. А когда она попадет в Петербург, я ее сейчас же отдам в чухонскую деревню, потому что я не могу терять из-за нее места, а чухонцы берут детей очень дешево. А если вы любите Маню, то не захотите ей такого дурного».
Лидочка отложила последний листок.
– Чухонцы – это эстонцы? – спросил Слава.
– Если не ошибаюсь, ингерманландцы, финское племя, жившее на перешейке. И чем же все кончилось?
– Булычевы согласились приехать в Новгород. Девочка приемной матери понравилась, и после нескольких недель переговоров они ее удочерили.
– А мать?
– Бабушка говорила, что видела ее один раз. Они с приемной мамой ездили к ней за какими-то документами, нужными для поступления в Институт благородных девиц. Что-то в связи с потомственным дворянством Юлии Александровны. Бабушка говорила, что ее настоящая мама показалась ей красавицей и очень богатой. Но что не покажется в шесть лет?
– И она пропала?
– Пропала. Если она вышла замуж, то сменила фамилию… Она никогда не пыталась отыскать свою дочь.
– А это было реально?
– Бабушкин приемный отец преподавал фехтование в первом кадетском корпусе. А потом, в десятом году, его назначили воинским начальником в город Опочку. Бабушка помнит этот город. Она прожила там два года, а потом была отправлена в Петербург, в Екатерининский институт на казенный кошт как дочь полковника гвардии. В Опочке Михаил Иванович прожил до конца 1913 года, когда получил новое назначение – с повышением, воинским начальником в город Могилев. Но по приезде в Могилев он умер от гнойного аппендицита.
– Вам повезло, – заметила Лидочка.
– Я тоже думаю, что нам повезло, – согласился Слава. – Через полгода началась мировая война, и в Могилеве расположилась царская ставка. А так как бабушкина приемная мать Евгения Николаевна возвратилась в Петербург, бабушка еще несколько лет проучилась в Институте благородных девиц. Она рассказывала, что после Октябрьской революции институт сразу не закрыли, а слили почему-то с кадетским корпусом. Всю зиму восемнадцатого года в холодных дортуарах сосуществовали кадеты и институтки. Младшие классы убирали комнаты, готовили уроки и таскали дрова, а старшие девочки и кадеты занимались любовью. Весной восемнадцатого года весь институт, а также кадетский корпус погрузили в теплушки и отправили на юг, чтобы там чуждые по классу дети кормились, не отнимая пайку у пролетариата. По дороге на поезд напали грабители – что это были за грабители, никто не знает. Всех детей убили. Бабушка осталась жива, потому что Евгения Николаевна ее на юг не отпустила. Они прожили всю гражданскую войну в Питере, перебиваясь кое-как. А потом Евгения Николаевна умерла. Бабушка училась в трудовой школе на Васильевском острове, в ее друзьях оказались будущие великие российские теннисистки. Им тогда было лет по пятнадцать. Девочки трудились на кортах спарринг-партнершами – значит в двадцатом году было кому играть в теннис в революционном Петрограде. После двадцать первого появились нэпманы – и девочки начали неплохо зарабатывать. Другие девушки – Иванова, Теплякова, Ольсен – стали профессионалками, мастерами, чемпионками, а бабушка, не столь талантливая, пошла работать на фабрику Хаммера. Тот тогда устроил у нас фабрику карандашей. Он делал карандаши и получал в оплату от правительства картины великих художников. И стал самым богатым другом страны Советов. Когда-нибудь, будет настроение, расскажу вам о дедушке, папе, маме и других героях моего романа. Но сейчас вас интересует только мой прадедушка. Август Кармайкл, проживавший в Глазго в 1905 году. Вы не курите?
Лидочка ответила не сразу – слишком резок был переход к вопросу.
– Нет, спасибо.
– А я закурю. Я так редко курю, сигарету в три дня, но когда волнуюсь, то начинаю курить, как в юности.
Слава протянул длинную руку к каминной полке и взял с нее пачку сигарет и зажигалку. Закурил.
Лидочка посмотрела на часы. Одиннадцать. Пригород Пендж-хауз, одна из многих деревень, составляющих Большой Лондон, улегся спать. Взошла луна и красиво устроилась на синем фоне за стеклянной стеной в сад.
ГЛАВА ПЯТАЯ
«Господи, – подумала Лидочка, – сегодня утром я прощалась в Шереметьеве с Андрюшей, а сейчас я разделена с Москвой не только тысячами километров, но и какими-то непроходимыми завалами событий и разговоров. Ведь я даже не позвонила домой, чтобы сообщить, что нормально долетела. Впрочем, меня можно понять: неприятно, если счет за разговоры придет хозяину дома, но неизвестно, каким образом оставить ему деньги».
И в этот момент Андрей в Москве, видно, высчитал, что в Лондоне наступил вечер и можно туда позвонить.
– Ты ошибся часа на два, – сказала Лидочка, прикрывая горсткой трубку, чтобы не разбудить краснодарских родственников. – У нас уже наступила сельская ночь.
– Прости, – сказал Андрей. – А я, дурак, сидел, клевал носом, но полагал, что ты еще не вернулась из оперы.
– Спасибо, что возлагаешь такие надежды на меня и моих поклонников, – засмеялась Лидочка. – Что нового в Москве?
– В Москве нет ничего нового, надвигается безумная жара, разбился еще один самолет и обнаружены новые козни международного сионизма.