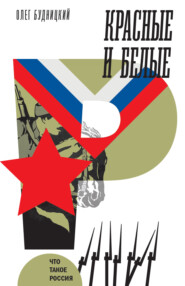скачать книгу бесплатно
Позднее Троцкий напишет, что колебался, брать или не брать орден. Ведь он был председателем Реввоенсовета, то есть, по существу, главнокомандующим, и сомневался, не будет ли его награждение неправильно воспринято. В конце концов Троцкий решил, что, если откажется, тем самым принизит награду, а значит, и других награжденных.
Вскоре выяснилось, что орденом Красного Знамени решено наградить и Сталина. Калинин возмутился: а Сталина-то за что? Зиновьев разъяснил: Сталин не может пережить, когда у кого-то есть то, чего нет у него. Отношения между Троцким и Сталиным были напряженными, поэтому Сталина тоже решили наградить орденом Красного Знамени. Мнение о том, что Сталин был человеком скромным и дело революции ставил превыше всего, не соответствует действительности. Напомню, что это именно он добился того, чтобы в 1922 году Царицын назвали Сталинградом… Впрочем, в следующем году Гатчину назвали Троцком (в 1929?м переименовали в Красногвардейск).
Итак, Гражданская война завершилась победой. Троцкий остался председателем Реввоенсовета. Будучи человеком редкостно самоуверенным, чему способствовал ореол победителя и героя Гражданской войны, создателя и вождя Красной армии, он был убежден, что массы и партия его всегда поддержат. И жестоко ошибался. Когда началась борьба за власть, когда стало понятно, что Ленин не жилец, Троцкий развязал дискуссию о партийной демократии, и в итоге бывшие соратники-соперники – Сталин, Каменев и Зиновьев – его слопали. В январе 1925 года он был снят с поста председателя Реввоенсовета, впоследствии его вывели из Политбюро, исключили из партии, выслали в Алма-Ату, а потом – в Турцию. Ну а дальше – Мексика и смерть от удара ледорубом, который нанес агент НКВД.
Какой можно сделать вывод? Гражданская война – война особая. Здесь, кроме пушек, пулеметов, армий и военных знаний, нужно что-то еще. Какая-то энергетика, вплоть до бесноватости, абсолютная решимость, способность повести за собой полуграмотные массы. Этими качествами обладали большевистские лидеры и не обладал ни один из лидеров белых. Ну, может быть, за исключением Врангеля. Но даже из большевистских лидеров ни один до Троцкого недотягивал.
ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АРМИЯ
Добровольческая армия и Конармия – уникальные явления времен Гражданской войны, очень разные и показательные. История их изучена недостаточно. Многое замалчивалось, многое трактовалось с точки зрения победителей. Сравнительно недавно представилась возможность изучать ее по-настоящему – открылись архивы.
Начнем с Добровольческой. Сразу хочу сказать, что мы говорим именно о Добровольческой армии, то есть о воинском формировании, а не о Белом движении в целом. Очень часто эти два понятия путают, и Вооруженные силы Юга России называют Добровольческой армией. Между тем Вооруженные силы Юга России возникли в начале января 1919 года, после того как атаман Петр Краснов подчинился генералу Деникину, и произошло объединение Добровольческой армии и армии Всевеликого войска Донского под единым командованием. Но и современники, а потом историки и литераторы, по-прежнему называли «добровольцами» без различия все войска белых – и Добровольческую армию, и другие вооруженные формирования белых.
Мы пойдем от истоков, от начала Белого движения. Начну со стихов, потому что у очень многих Белое движение ассоциируется с тем романтическим обликом, который создан в стихах Марины Цветаевой.
Напомню, что муж Марины Цветаевой Сергей Эфрон был «добровольцем», а ее стихи написаны в марте 1918 года. Это цикл «Дон» из сборника «Лебединый стан»:
Не лебедей это в небе стая:
Белогвардейская рать святая
Белым видением тает, тает…
Старого мира – последний сон:
Молодость – Доблесть – Вандея – Дон.
Что здесь не так? Предпоследняя строка: «старого мира – последний сон», потому что Добровольческая армия не шла ни под монархическими лозунгами, ни под лозунгами реставрации. Ни в коем случае! Многие офицеры (возможно, большинство) были монархистами, но Добровольческая армия не ставила своей задачей реставрацию монархии и старого строя. На всякий случай напомню, что генерал Лавр Корнилов, первый командующий Добровольческой армией, арестовывал императрицу Александру Федоровну. Многие считали его «демократическим» генералом. Собственно, он и сам называл себя «сыном крестьянина-казака», подчеркивая свое происхождение из «низов». При этом именно Лавр Корнилов возглавил так называемый Корниловский мятеж – выступление против Временного правительства.
Корниловский мятеж – темная история. Похоже, существовало некое недопонимание между властью в лице министра-председателя Александра Керенского и главнокомандующим генералом Корниловым, назначенным на этот пост самим Керенским, связанное с необходимостью восстановления воинской дисциплины в армии. Стоял вопрос: как это сделать? Генерал Корнилов не собирался устраивать контрреволюционный монархический переворот, он хотел навести порядок в армии и тылу, поскольку без этого невозможно было вести войну. И полагал, что Временное правительство пойдет ему навстречу. Политически Корнилов был человеком неопытным, а вокруг него крутились темные личности: Завойко, Филоненко… Не вполне ясную посредническую роль играл Борис Савинков. Переговоры шли до последнего дня. Василий Маклаков в разговоре по телеграфному аппарату с Корниловым говорил: «Ну вас же неправильно поняли, правда?», подсказывая ему выход из создавшегося положения. Совершенно ясно, что Корнилов не собирался устраивать путч с целью восстановления монархии.
Скажу больше: некоторые офицеры не шли в Добровольческую армию именно потому, что она не выдвинула монархического лозунга. Граф Федор Келлер, один из прославленных кавалерийских начальников эпохи Первой мировой, не рекомендовал и даже запрещал подчиненным идти в Добровольческую армию именно по этой причине. И если мы посмотрим программные документы, скажем, декларацию Добровольческой армии, то увидим, что она написана лидером русских либералов Павлом Милюковым, который какое-то время был монархистом. Милюков считал, что в России должна остаться конституционная монархия, хотя в декларации, разумеется, об этом нет ни слова.
Пойдем дальше. «Молодость – Доблесть – Вандея – Дон». И доблесть, и Вандея, и Дон, и молодость – все это было. Однако основателем Белого движения был довольно пожилой, по понятиям того времени, человек, 60-летний генерал Михаил Васильевич Алексеев. Это был, несомненно, самый авторитетный русский полководец эпохи Первой мировой войны, начальник штаба Верховного главнокомандующего, фактически командовавший русской армией при номинальном главнокомандующем императоре Николае II, а затем, в апреле – мае 1917 года – главнокомандующий русской армией.
Уже 2 ноября 1917 года по старому стилю, то есть через неделю после большевистского переворота, Алексеев отправился на Дон, чтобы организовать сопротивление большевикам и немцам. Он считал, как и очень многие, что большевики – это немецкие агенты и что необходимо возродить русскую армию и вести борьбу с захватчиками, которые, используя изменников-большевиков, устроили в России революцию. Первоначально то, что потом стало Добровольческой армией, называлось Алексеевской организацией.
Алексеев рассчитывал на поддержку донского казачества: казаки считались наиболее государственным элементом в России, отсюда у Цветаевой – «Вандея»: как мы помним, там в годы Французской революции вспыхнул крупный контрреволюционный мятеж.
Еще летом 1917 года атаманом Войска Донского был избран один из самых прославленных кавалерийских военачальников эпохи мировой войны генерал Алексей Максимович Каледин. Алексеев его прекрасно знал, он знал, что это человек государственно мыслящий, патриот, и рассчитывал на его поддержку. Но оказалось, что и Каледина казаки не очень-то поддерживали, да и спасать Россию не стремились. Хотели отсидеться, не допустить к себе ни большевиков, ни монархистов и вовсе не жаждали возвращения старого мира. Ожидаемой поддержки Алексеев не получил. Более того, Каледин, по существу, запретил Алексееву объявлять о формировании антибольшевистских сил.
Что такое армия? Среди прочего это – деньги. Деньги – нерв войны, так еще Марк Туллий Цицерон говорил. Деньги пообещали Алексееву московские финансисты и промышленники. Дескать, «ничего не пожалеем, жен, детей наших заложим», подобно Козьме Минину. В итоге Алексеев получил из Москвы 800 тысяч рублей – ничтожную сумму, гроши. Отчасти так мало потому, что люди не хотели давать деньги на непонятно насколько надежное, а скорее безнадежное дело. Отчасти потому, что своя рубашка ближе к телу, тем более свой рубль. Кроме того, большевики наложили арест на сбережения, хранившиеся в банках, и стало невозможно осуществлять пожертвования. Для сравнения скажем, что ростовская плутократия, как ее называл генерал Деникин, собрала для Добровольческой армии 6,5 миллиона рублей, а новочеркасская – 2 миллиона. Дон встал за Россию-матушку, но не казаки, а городская буржуазия.
Генерал Алексеев рассчитывал на массовый приток добровольцев. Ничего подобного не произошло. Людей было мало; даже офицеры, находившиеся в Ростове, Новочеркасске и Таганроге – трех наиболее крупных городах на Дону, – шли в Добровольческую армию неохотно. По разным причинам: устали от военных действий, не хотели участвовать в братоубийственной войне, не верили в успех. Энтузиазм проявляла только местная молодежь – студенты, гимназисты: относительно «молодости» Цветаева была права.
Однако зачинателем движения, повторюсь, оказался немолодой человек без малейшего флера романтики, считавший это дело своей миссией. Кстати, многие из тех, кто участвовал в создании Белого движения, впоследствии говорили о нем как о важнейшем деле своей жизни. Среди них – Петр Струве, приехавший на Дон и состоявший в Совете при генералах.
Судьба движения изначально складывалась непросто. Людей мало, денег практически нет. Содержание офицеров составляло в ноябре 100 рублей, потом 150, 200, 270. Это были сущие копейки. Однако, понимая это, люди шли на лишения. Поскольку мощной финансовой базы у армии не было, движение сразу стало делом патриотов-энтузиастов.
Первые, начальные дни, недели, месяцы Белого движения – при всех сложностях, лучшее его время с точки зрения морально-этической. Забегая вперед, скажу: когда армия вынуждена была покинуть Ростов и отправиться в свой знаменитый Ледяной поход на Кубань, она насчитывала менее четырех тысяч человек – вместе с гражданскими лицами и с обозом.
Когда же Алексеевская организация стала Добровольческой армией и кто еще, помимо генерала Алексеева, принимал участие в ее формировании?
Вскоре на Дон удалось пробраться участникам Корниловского мятежа, сидевшим в тюрьме в Быхове. Их выпустили по распоряжению главнокомандующего генерала Николая Духонина, и они пробрались на Дон. Сам Духонин был растерзан толпой революционных солдат и матросов на глазах нового главковерха – большевика прапорщика Николая Крыленко. Ну а русский язык «обогатился» еще одним выражением, обозначающим бессудное убийство: «отправить в штаб к Духонину».
Отношения между генералами Алексеевым и Корниловым сложились весьма непростые – они друг друга недолюбливали. Алексеев считал Корнилова выскочкой, и, в общем, не без оснований, поскольку тот сделал головокружительную карьеру: начинал Первую мировую начальником дивизии, а в 1917?м стал главнокомандующим. Как полководец Корнилов до этого уровня недотягивал. Но это был, что называется, харизматический лидер, человек безусловной личной храбрости. Он прославился тем, что бежал из австрийского плена, пробрался в Россию, стал очень популярным, за ним шли войска, в него верили.
Алексеев арестовывал генерала Корнилова после его выступления в августе 1917 года, правда, делал это прежде всего для того, чтобы спасти жизнь генералов, которых солдатская масса просто бы растерзала. Понятно, что Корнилов особой любви к Алексееву не испытывал. Отношения между ними были столь острыми, что ходили даже слухи о взаимных заговорах и даже организации покушений. Но постепенно удалось как-то отношения урегулировать и разделить власть. Сложился триумвират – Алексеев, Каледин, Корнилов. Каледин поначалу негостеприимно встретил Алексеева и поддержал его «добровольцев» лишь постольку-поскольку. Но закончил тем, что стал поддерживать всецело. Когда в Ростове произошло восстание и власть захватили большевики, выяснилось, что у Каледина нет надежных донских войск, чтобы ликвидировать советскую власть. Тогда он обратился к Алексееву, и при помощи его ничтожных тогда сил Ростов был захвачен, а советская власть ликвидирована. Тогда-то и было позволено Алексееву открыто агитировать за вступление в Добровольческую армию, до этого же все шло по частным каналам: официально не было объявлено, что создается армия, и не был издан приказ офицерам в эту армию вступать.
По мнению Деникина, четкий приказ мог бы подействовать на очень многих. Добровольчество – дело тонкое. А если офицер получает приказ – тем более от хорошо известного, знаменитого генерала, – он вполне мог подчиниться, доверясь ему.
В конечном счете структура сложилась такая: Алексеев ведал политикой и финансами. Корнилов был назначен командующим, и только тогда – подчеркиваю это – появилось название «Добровольческая армия». Это произошло 26 декабря 1917 года, о чем на следующий день было официально объявлено в газетах.
Каледин ведал делами на Дону, генерал Деникин, который вечно мирил Алексеева и Корнилова, был назначен начальником первой дивизии. Это была весьма условная дивизия, поскольку численность всей Добровольческой армии не превышала четырех тысяч человек. Фактически он стал просто заместителем Корнилова, что было объявлено потом и официально – чтобы в случае гибели командующего (об этом, конечно, не говорили) было ясно, кто станет преемником, и в армии не возникло разброда.
Так впоследствии и получилось. Армия была беспрецедентной по насыщенности генералами и старшими офицерами, в ней генералы командовали батальонами, полковники – ротами. Вся привычная субординация рухнула. Под натиском красных Добровольческая армия вынуждена была оставить Дон, по крайней мере города. Стало очевидно, что противостоять превосходящим силам красных не удастся.
Нам точно известно, когда начался знаменитый Ледяной поход: 9 (22) февраля 1918 года. Известно и место, где было сказано: «Мы отсюда уходим и будем двигаться дальше», хотя конечный пункт этого движения пока еще не был определен. Так сказал Корнилов со ступенек парамоновского особняка на Пушкинской улице Ростова-на-Дону, ныне это библиотека Южного федерального университета (ранее – Ростовского государственного университета). Здание сохранилось в своем первоначальном виде.
Возник спор, куда двигаться дальше. Корнилов считал, что следует перезимовать в верховьях Дона, а с наступлением тепла уже решать, как быть. Алексеев, человек более грамотный и в военном отношении, и политически, нежели Корнилов, считал, что идти нужно на Кубань. Если уйти в верхнедонские станицы, можно попасть в капкан: с одной стороны разольется Дон, с другой – красные захватят железную дорогу, и все, деваться будет некуда. А вокруг степи. И неизвестно, как к этим четырем тысячам отнесутся в станицах, смогут ли и захотят ли прокормить. Потому он настаивал на походе на Кубань – там еще не было большевистской власти, и ему казалось, что кубанское казачество поддержит «добровольцев».
В конце концов было решено идти на Кубань. В марте – начале апреля 1918 года горстка добровольцев с боями прорвалась с Дона на Кубань; этот марш-бросок получил название «Ледяной поход». Поначалу «добровольцы» неизменно били во много раз превосходившие их численно войска красных. Почему – думаю, понятно. Во-первых, отступать было некуда, шла война на истребление, причем с обеих сторон. Во-вторых, в профессиональном отношении эта малочисленная армия существенно превосходила противостоявшие им силы красных.
Поход отличался крайней жестокостью с обеих сторон. Деникин рассказывает жуткие вещи. Еще накануне Ледяного похода начальника железнодорожной станции Матвеев Курган красные зверски мучили, узнав, что двое его сыновей вступили в Добровольческую армию. Они вспороли ему живот и живым закопали в землю. Когда тело выкопали, у него были скрючены пальцы: он пытался разрыть землю и выбраться из могилы. Один из сыновей, увидев захваченных большевиков, словно обезумел: схватил винтовку и нескольких тут же пристрелил. У Романа Гуля в его автобиографическом романе «Ледяной поход (с Корниловым)» воспроизведен эпизод расстрела пленных красноармейцев. Приходит офицер и спрашивает: «Есть ли желающие на расправу?» – то есть имеются ли желающие расстреливать. Гуль был уверен, что никто не вызовется, однако желающие нашлись. И каждый из них что-то бормотал в свое оправдание. После Ледяного похода Гуль ушел из Добровольческой армии, поскольку не мог этого принять.
У Деникина есть замечательный момент в его «Очерках русской смуты». Под Кореновской на Кубани шел ожесточенный бой, большевики сражались на удивление хорошо.
«Среди офицеров разговор:
– Ну и дерутся же сегодня большевики!..
– Ничего удивительного – ведь русские…
Разговор оборвался. Брошенная случайно фраза задела больные струны…»
Екатеринодар, к которому шли добровольцы, оказался захваченным большевиками. Добровольцы опять оказались на враждебной территории; где-то надо было соединиться с отрядом кубанского полковника Виктора Покровского, но где он, было непонятно. Подошли к Екатеринодару, начались бои за город. Штурм закончился неудачей, и опять встал вопрос: что делать дальше? Корнилов со свойственной ему, я бы сказал, упертостью считал: штурмовать город, во что бы то ни стало взять его, иначе все бессмысленно. Остальные военачальники предчувствовали, что новый штурм для Добровольческой армии будет равнозначен самоубийству. И здесь произошло почти невероятное: в дом, где находилась штаб-квартира белых, попал снаряд, который убил одного Корнилова. Совершенно фантастическая история – чтобы единственным снарядом был убит командующий армией!
Но то был, как ни цинично это звучит, знак судьбы, который спас Добровольческую армию, ибо военный совет принял решение отказаться от нового штурма и уйти.
С Кубани добровольцы ушли в верхнедонские станицы, соединились с отрядом Покровского. Это были еще три тысячи штыков, в общей сложности их стало около шести тысяч.
В конце июня 1918 года окрепшая Добровольческая армия вновь пошла на Кубань. Эта операция вошла в историю Белого движения как Второй Кубанский поход. В июне к армии присоединился отряд полковника Михаила Дроздовского, пришедший с румынского фронта, в его составе было около трех тысяч человек. Получалось уже восемь-девять тысяч человек личного состава. Но им противостоял гораздо более многочисленный противник: войска красных на Северном Кавказе во главе с бывшим подъесаулом и бывшим фельдшером Иваном Сорокиным превосходили армию белых более чем в три раза.
Казалось, это то превосходство, которое ничем не одолеть – ни мастерством, ни отвагой, ни отчаяньем. Тем не менее «добровольцы» разбили превосходящие силы красных и очистили от них Кубань и Северный Кавказ. Екатеринодар перешел в руки белых. Надо сказать, что у противников большевиков снова были стратегические разногласия. Донской атаман Петр Краснов считал, что нужно идти не на Кубань, а на Царицын. Задним числом трудно предполагать, что было бы, если бы белые взяли этот, как его называли, «красный Верден». Возможно, это могло изменить ход Гражданской войны. Но история, как известно, сослагательного наклонения не имеет.
Однако план Деникина был вполне резонен. Во-первых, нельзя было оставлять у себя в тылу мощные силы красных, которые в любой момент могли нанести удар; с военной точки зрения это было бы безумием. Во-вторых, кубанское казачество, уже ощутившее на себе, что такое большевизм, с гораздо большей охотой было готово с ним бороться. А это серьезная мобилизационная база. Плюс продовольственные ресурсы. Кончилось тем, что весь Северный Кавказ оказался в руках белых, а Добровольческая армия значительно усилилась. Тем временем немцы, которые контролировали Донскую область и поддерживали атамана Краснова, ушли. Они давали атаману военное снабжение: снаряды, патроны, винтовки. В ответ на упреки в германской ориентации Краснов саркастически заметил: «Добровольческая армия чиста и непогрешима. Но ведь это я, донской атаман, своими грязными руками беру немецкие снаряды и патроны, омываю их в волнах Тихого Дона и чистенькими передаю Добровольческой армии!» Для иронии почва была. Среди противников большевиков на Юге России возникло двоевластие: Донская армия (командующий – генерал Святослав Денисов) под эгидой Краснова и Добровольческая армия во главе с Деникиным…
Деникин считал необходимым объединить все силы, претендуя на то, чтобы их возглавить. Краснов также претендовал на лидерство. Решающую роль сыграло вмешательство союзников, которые к тому времени начали оказывать поддержку Деникину. На Краснова оказали давление, он признал власть Деникина, подал в отставку и уехал на Северо-Запад. Так в результате объединения Добровольческой армии и армии Всевеликого войска Донского 8 января (по новому стилю) 1919 года возникли Вооруженные силы Юга России.
Деникин стал главнокомандующим Вооруженными силами Юга России, а Добровольческая армия была передана под командование генерала Петра Врангеля, впоследствии главного противника Деникина. Она стала называться Кавказской Добровольческой армией. Врангель командовал ею недолго, поскольку заболел тифом. Армия на некоторое время практически перестала существовать, точнее, на ее основе возникло несколько группировок. Кавказская армия отдельно, Азовско-Крымская армия во главе с генералом Александром Боровским, бывшим командующим студенческим батальоном Добровольческой армии, – отдельно. Группировкой войск, которая действовала на харьковском направлении, стал командовать генерал Владимир Май-Маевский. В мае 1919 года он был официально назначен командующим Добровольческой армией. Генерал Май-Маевский был известен советским людям благодаря популярному телесериалу «Адъютант его превосходительства» (1969). Главным героем фильма, собственно, был не сам генерал, а советский разведчик, пробравшийся в близкое окружение генерала. Фамилия генерала в фильме была изменена, но имя и отчество – Владимир Зенонович – не оставляли сомнения, о кем идет речь. Эта история, конечно, на 90 процентов была выдумана. В ноябре 1919 года после замечательных успехов – взятия Харькова, захвата Донбасса – за неудачу под Тулой и Орлом и разложение, выразившееся в пьянстве и кутежах, Май-Маевский был снят с командования. А в ноябре 1920?го умер в Севастополе от разрыва сердца, накануне эвакуации за границу.
Командующим Добровольческой армией вновь стал Врангель. Ненадолго, поскольку от армии к тому времени мало что оставалось, и в начале 1920 года она была сведена в корпус, ибо численность армии была почти такой же, как в начале 1918 года, – около пяти тысяч человек. Добровольческим корпусом стал командовать другой прославленный белый генерал, последний командир Преображенского полка Александр Кутепов. Как и другие части Деникина, не попавшие в плен под Новороссийском, остатки «добровольцев» эвакуировались в Крым. Там Врангель преобразовал Вооруженные силы Юга России в Русскую армию, сам став ее главнокомандующим. Но это уже другая история.
ГЛАЗАМИ ВРАГА: КРАСНАЯ АРМИЯ, ГОД 1918?Й
В конце 1918 года в Париже российские дипломаты и политики, находившиеся за рубежом, учредили Русское политическое совещание за границей. На мирной конференции, созванной в январе 1919 года державами – победительницами в Первой мировой войне, должны были решаться судьбы мира. Русское политическое совещание, в отсутствие признанного российского правительства, должно было стать «суррогатом» национального представительства. Разумеется, речь шла о представительстве антибольшевистской России. В то время великие державы не признавали правительство большевиков, а российские послы, назначенные уже не существующим Временным правительством, по-прежнему сохраняли свой дипломатический статус. Подавляющее большинство сотрудников русских дипломатических миссий тоже не признали большевиков, и тогда нарком по иностранным делам Лев Троцкий объявил всех российских послов уволенными. Однако ни сами послы, ни правительства, при которых они были аккредитованы, не обратили на это никакого внимания.
В состав Русского политического совещания вошли бывший глава Временного правительства князь Г. Е. Львов, российские послы В. А. Маклаков (Париж), Б. А. Бахметев (Вашингтон), М. Н. Гирс (Рим) и некоторые другие, бывшие министры иностранных дел императорской России С. Д. Сазонов и А. П. Извольский, глава Архангельского правительства, старый революционер-народник Н. В. Чайковский и еще ряд видных политиков и дипломатов. При Совещании работали эксперты в военной и экономической областях и, разумеется, в области международного права. Деятельность Русского политического совещания продолжалась до июля 1919 года. Эти представители России к участию в конференции допущены не были. Тем не менее переговоры с ними велись, но в неофициальном порядке, и деятельность Совещания не прошла впустую, хотя большинства поставленных целей оно не достигло, да и не могло достигнуть в отсутствие признанного правительства.
Мы не станем здесь подробно рассматривать историю российской дипломатии в изгнании. Заинтересованного читателя я отсылаю к другим книгам, моим и моих коллег. Это несколько затянувшееся введение позволяет понять контекст, в котором была составлена записка о состоянии Красной армии, а также объяснить, где и при каких обстоятельствах она была обнаружена.
Документы, относящиеся к деятельности Русского политического совещания, оказались в конце концов в крупнейшем собрании материалов по истории России за ее пределами – в архиве Гуверовского института войны, революции и мира при Стэнфордском университете в Калифорнии.
Изучая протоколы заседаний Совещания, я неожиданно обнаружил на полях некоторых из них карандашные, очень похожие, хотя и несколько шаржированные, наброски портретов В. А. Маклакова, Б. А. Бахметева, генерала Н. Н. Головина, Б. В. Савинкова, Н. В. Чайковского. Установить личность «хулиганствующего» автора стоило некоторых усилий, хотя и не слишком больших. Им оказался генерал-майор Борис Владимирович Геруа. Заодно выяснилось, что, кроме замечательных рисунков, он оставил нечто более существенное для истории – записку о состоянии большевистской России, точнее, России под большевиками, в том числе о том, что знал лучше всего, – об армии. Причем свою записку генерал Геруа составил в самом начале 1919 года, только что выбравшись из Советской России.
Послереволюционных эмигрантов в советской историографии и публицистике было принято называть белоэмигрантами. В описании архивных дел в российских архивохранилищах эта терминология сохранилась до настоящего времени. Скажем, «письма белоэмигранта писателя И. А. Бунина». Что уж говорить о военных, до вынужденной эмиграции, как правило, служивших в антибольшевистских вооруженных формированиях. В случае Геруа парадокс заключался в том, что в период Гражданской войны, находясь в России, он ни в какой армии, кроме Красной, не служил.
Б. В. Геруа был потомственным военным с наследственной склонностью к искусству. Его прадед Клавдий Героа (Клод Геруа), «архитектор, профессор и академик», переехал из Парижа в Санкт-Петербург в царствование императрицы Екатерины II, в 1774 году стал академиком архитектуры. Дед Александр Клавдиевич Геруа пошел по военной линии. В 1812 году в чине капитана он принимал участие в войне с Наполеоном, в 1814?м брал Париж. Четырнадцатого декабря 1825 года, в день выступления декабристов, полковник А. К. Геруа привел Лейб-гвардии Саперный батальон на защиту Зимнего дворца. Закончил он службу генерал-майором, генерал-адъютантом и членом Военного совета. Отец Владимир Александрович Геруа также завершил службу в чине генерал-майора, его последняя должность – командующий Минской бригадой.
Единственным членом семьи Геруа, дослужившимся до более высокого чина, был старший брат Б. В. Геруа Александр Владимирович (1870 – не ранее 1944), ставший генерал-лейтенантом в 1917 году. Его последняя должность в период Первой мировой войны – начальник штаба Румынского фронта. Во время Гражданской войны он был представителем Вооруженных сил Юга России в Румынии, где и жил впоследствии на положении эмигранта. В 1944?м, после вступления Красной армии в Бухарест, 74-летний генерал был арестован СМЕРШ, вывезен в СССР и сгинул то ли в подвалах Лубянки, то ли в ГУЛАГе.
Борис Геруа родился в 1876 году. Окончил Пажеский корпус (1895) и Николаевскую академию Генштаба (1904; по 1?му разряду). В промежутке между корпусом и академией служил в Лейб-гвардии Егерском полку. Будучи младшим офицером Лейб-гвардии Егерского полка, посещал Рисовальную школу Общества поощрения художеств в Петербурге. После окончания академии по собственному желанию отправился в Маньчжурию, на театр боевых действий. Во время Русско-японской войны и в последующие годы служил на различных штабных должностях, прошел положенное «цензовое» командование ротой и батальоном. С 1912 года Геруа – экстраординарный профессор по тактике Николаевской военной академии, в том же году он получил чин полковника. В 1913–1914 годах Геруа – ординарный профессор Николаевской военной академии. В Первой мировой войне он принимал участие с сентября 1914 года, занимал различные штабные и командные должности, в том числе командовал Лейб-гвардии Измайловским полком, был начальником штаба дивизии и армии. В 1916 году за боевые заслуги был произведен в генерал-майоры, награжден Георгиевским оружием. С июля 1916 года Геруа – генерал-квартирмейстер войск гвардии, с декабря 1916-го – Особой армии. К Февральской революции Геруа отнесся, судя по его мемуарам, с бессильным раздражением; в мае 1917?го получил назначение на должность начальника штаба 11?й армии.
Следующий поворот в судьбе Геруа был связан с выступлением генерала Л. Г. Корнилова.
В связи с делом Корнилова, Деникина и Маркова, – вспоминал Геруа, – я и мой генерал-квартирмейстер полковник Н. В. Соллогуб были вызваны из штаба XI армии из Каменец-Подольска в Бердичев, где это дело разбиралось. Там меня допрашивали, но, в конце концов, отпустили, несмотря на то что я, будучи начальником штаба XI армии, состоял фактически в заговоре с Деникиным и Марковым и готовился к задуманному военному перевороту. Чтобы обвинить меня, не хватило документальных доказательств. Отпустив, предложили принять корпус[1 - Практически во всех биографических справках о Б. В. Геруа ошибочно утверждается, что он был арестован и помещен в Быховскую тюрьму, откуда освобожден за отсутствием доказательств.].
В условиях стремительного разложения армии Геруа предпочел отказаться от этого назначения и предложил свои услуги Академии Генерального штаба. Начальник академии генерал А. И. Андогский, бывший «адъюнкт» Геруа, с радостью согласился принять на службу своего бывшего шефа: с 22 сентября 1917 года Геруа вновь стал ординарным профессором Николаевской военной академии. После захвата власти большевиками генерал Геруа вместе с Академией как бы «автоматически» оказался на службе в Красной армии.
В феврале 1918-го, когда при наступлении германских войск хитроумный Андогский договорился об эвакуации Академии вглубь страны, Геруа отказался выехать вместе с Академией из Петрограда. «Мои мысли были направлены на запад, моя семья в качестве авангарда уже перебралась из Финляндии в Стокгольм, – вспоминал Геруа, – и потому я остался в Петербурге. Но мои вещи, для временного сокрытия моего дезертирства, поехали в Екатеринбург и потом в Сибирь».
В данном случае мемуариста отчасти подвела память, а о чем-то он, по-видимому, сознательно умолчал. На самом деле Академия эвакуировалась в Казань, где после захвата города в июле 1918 года чехословацкими войсками и отрядом подполковника В. О. Каппеля благополучно, почти в полном составе, перешла на сторону антибольшевистских сил. Впоследствии она оказалась аж на острове Русский близ Владивостока. Что же касается Геруа, то «дезертир» был назначен на сравнительно высокий пост – начальника штаба Северного участка отрядов завесы и Петроградского района. «Завеса» была создана после заключения Брестского мира. Она состояла из отдельных отрядов, которые рассматривались в качестве прообраза будущих фронтовых формирований. Отряды «завесы» послужили основой для первых регулярных соединений Красной армии. Какова была в этом роль Геруа и чем он занимался после того, как в должности начальника штаба был сменен на полковника Генштаба Л. К. Александрова, нам неизвестно. Судя по детальной осведомленности, которую демонстрирует Геруа в публикуемом ниже фрагменте записки, где речь идет о Красной армии, он наблюдал ее формирование изнутри. И, очевидно, в нем участвовал. Вряд ли две его поездки в Москву в сентябре и декабре 1918 года, о которых он упоминает, были туристическими.
Одиннадцатого января 1919 года (30 декабря 1918?го по старому стилю, поясняет Геруа живущим по юлианскому календарю противникам советской власти) он бежал из Советской России, перейдя финскую границу. В Финляндии, в Гельсингфорсе, как Геруа по-имперски именовал Хельсинки, им была составлена записка о ситуации в Советской России. Записка датирована 29/16 января 1919 года (записка писалась за границей, поэтому автор сначала ставит дату по новому стилю). Пафос записки – побудить страны Антанты активнее вмешаться в русские дела. Геруа писал:
Приводя доводы за и против вмешательства в дела европейской России, изнемогающей под дикой пугачевщиной, ее все еще продолжают рассматривать в Европе как революционное проявление воли народа; когда же хотят убедить в необходимости вмешаться, то обращают исключительное внимание на бросающуюся в глаза внешность: на экономический развал; на бюджет, в котором расходы в 11 раз превосходят доходы; на паралич транспорта и торговли; на вандализм в области искусства; на разрушение всех форм государственной жизни; но, к сожалению, забывают, что в этих уродливых рамках корчатся и духовно калечатся 80 миллионов русских людей; что образованная часть этого народа, переживая величайшую душевную трагедию, постепенно опускается; с каждым днем теряя надежду на выручку, буржуазия выдыхается; незаметно для самой себя она начинает перерождаться, утрачивая патриотическое и государственное чутье; внизу же бурлит толща народная; она осталась темной, но еще вдобавок ослеплена брошенными ей лозунгами; эта масса – крестьянство – далека от самого приблизительного понимания идей социализма; глубокий собственник по своей натуре, мужик, как и встарь, берет вилы, как только кто-нибудь подбирается к его собственному тулупу…
Холодно наблюдать со стороны эту нравственную агонию – бесчеловечно. Нужна помощь – и немедленная.
Кому адресована записка? Можно с уверенностью утверждать, что Русскому политическому совещанию в Париже, в заседаниях которого Геруа впоследствии участвовал. Привожу ниже фрагмент записки, который относится к Красной армии. Ее ценность заключается в том, что это прежде всего аналитика, а не пропаганда. Геруа пытался – и не без успеха – оценить реальное состояние Красной армии, ее сильные и слабые стороны. Мной даны минимально необходимые пояснения, в которых не нуждались современники автора записки.
В начальный период строительства армии, после того как старая боевая армия дружными усилиями большевиков во главе с Крыленко[2 - Николай Васильевич Крыленко (1885–1938), профессиональный революционер, большевик; 9 ноября 1917 года был назначен Верховным главнокомандующим и наркомом по военным делам.] и при неожиданном пособничестве генерала М. Бонч-Бруевича[3 - Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич (1870–1956), генерал-лейтенант; во время Октябрьской революции, будучи начальником гарнизона Могилева, стал первым генералом, перешедшим на сторону советской власти; 7 (20) ноября назначен начальником штаба Верховного главнокомандующего. С марта 1918 года военный руководитель Высшего военного совета, в марте – сентябре 1918-го – высшего военно-стратегического органа управления Красной армией.] была превращена в пустое место, решительно отметались предложения назвать воссоздаваемую армию «русской» или «народной». Армия должна была быть классовой – отсюда ее название «рабоче-крестьянской». Армия должна была составить авангард мировой революции – отсюда ее название «красной». Член «Высшего военного Совета», представлявшего в начале 1918 г. верховную ступень военного командования, армянин Прошиан[4 - Прош Перчевич Прошьян (1883–1918), один из лидеров партии левых эсеров, нарком почт и телеграфов в Советском правительстве в конце 1917 – начале 1918 года. Подписал наряду с В. И. Лениным, Н. В. Крыленко и другими декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии. С 4 по 18 марта 1918 года – политический комиссар Высшего военного совета.], левый с. р., заявил по поводу названия армии: «Я первый не пойду в армию, которая будет называться русской».
Эти принципиальные решения не мешали впадать в противоречие, выразившееся в формировании частей по национальностям, в частности – в образовании латышских и китайских батальонов, получивших теперь заслуженную славу палачей».
Последнее требует пояснения, ибо тезис об инородческом характере Красной армии был расхожим в антибольшевистской пропаганде, особенно на начальном этапе Гражданской войны.
На самом деле части латышских стрелков, состоявшие из жителей Лифляндской, Курляндской и Витебской губерний, были созданы еще в императорской армии в период Первой мировой войны. В 1916 году они были развернуты в стрелковую дивизию. В декабре 1916 года в дивизии насчитывалось 35 тысяч стрелков, тысяча офицеров. В запасном полку численность личного состава колебалась от 10 до 15 тысяч человек. К осени 1918 года в состав РККА входили 24 тысячи латышских стрелков.
Китайские части в составе РККА формировались в основном из рабочих, завезенных в Россию в период Первой мировой войны. Они играли существенно меньшую роль, нежели хорошо подготовленные в военном отношении латышские части. По нашему мнению, роль китайских частей сильно преувеличивалась противниками большевиков. Определенную роль в этом играли публикации на страницах большевистской печати. Так, 9 мая 1918 года «Правда» опубликовала воззвание бывшего командира революционного китайского батальона Тираспольского отряда Сан Фуяна, прибывшего в Москву.
Революционеры братья-китайцы! – говорилось в нем. – Кто за освобождение порабощенных – в наши ряды! Кто за защиту власти рабочих и крестьян – иди к нам… Товарищи! Все в ряды Красной армии, в ее китайский батальон.
Несмотря на приказ военного комиссариата Москвы от 13 мая 1918 года направлять в формирующийся батальон всех китайцев, служивших в Красной армии, в начале июня он насчитывал лишь 180 человек. В августе 1918 года в Москве был создан штаб по формированию китайских боевых отрядов. Уполномоченные штаба находились в разных городах страны, где имелось китайское население, входили в местные военные комиссариаты. Создаваемые китайские отряды вливались в интернациональные части Красной армии. Видимо, большую роль, чем в центральных районах страны, китайские части играли на Востоке. Осенью 1918 года в боях против чехословацких войск, а затем войск А. В. Колчака принимал участие 225?й китайский стрелковый полк, входивший в состав 29?й стрелковой дивизии 3?й армии. По-видимому, к концу 1918 года в составе Красной армии служили несколько тысяч китайцев. Всего за годы Гражданской войны было создано свыше 250 интернациональных отрядов, рот, батальонов и полков. Общая численность граждан иностранных государств (при вступлении в РККА они принимали гражданство РСФСР) в составе Красной армии в 1918–1920 годах оценивается в литературе в 250–300 тысяч человек.
Вернемся, однако, к записке генерала Геруа:
И если сам народ, отчасти в силу своей исконной пассивности, отчасти в силу своей темноты, еще не в состоянии сбросить с себя иго большевизма, то остается только один путь: прийти к нему на помощь извне. Придти возможно скорее, чтобы спасти страну от превращения в дикий пустырь, а народ – от духовного и волевого обнищания.
Совершенно очевидно, что создавшийся вокруг Совдепии белогвардейский фронт недостаточен для организации настоящего удара по большевизму. Поэтому незамедлительное вмешательство держав Согласия является совершенно необходимым. Прежде чем переходить к возможным формам этого вмешательства, посмотрим, что представляет из себя в настоящее время в военном отношении общий противник культуры – Советская Россия.
Как уже было упомянуто выше, большевики, едва успев развалить старую армию, обратили исключительное внимание на образование новой. Они понимали, что без казенного орудия принуждения, проданного им и поставленного в условия преданности, им не удержать власти. Латышей и китайцев не могло хватить на всю Россию, не говоря уже про то, что на Совдепию напирал со всех сторон и внешний враг.
Весной 1918 года было решено создать миллионную армию, а осенью – уже трехмиллионную, причем введена общеобязательная воинская повинность. Приступлено к всеобщему воинскому обучению. Открыт целый ряд курсов и школ для подготовки «красных» офицеров. В пользу армии делались специальные поборы – деньгами и вещами. Митинги посвящались главным образом военному положению Совдепии и идее создания крепкой, многочисленной и политически послушной советской армии. Интенсивная мобилизация людей в возрасте от 23 л[ет] до 40 л[ет] (людей, «не эксплуатирующих чужого труда») не дала, однако, желательной численности. Объясняется это неналаженностью учетного аппарата и массовым дезертирством. К началу 1919 года в армии вместо полагающегося миллиона состояло не более 500 000 человек, из них настоящего боевого элемента около 300 000. Едва ли и впредь мобилизационные расчеты большевистского Главного Штаба оправдаются в полной мере.
Боевая надежность армии характеризуется следующими данными.
Организация продолжает носить незаконченный характер. Штаты не заполнены. В пехотном полку должно быть 3581 чел., а налицо нередко состоит менее одной тысячи. По сведениям, к началу января в одном из полков 18-ой дивизии состояло всего 100 человек. Множество мелких, случайных и совершенно ненужных отрядов и команд. Есть такие, в которых «кормятся» только ловко пристроившиеся штабы отрядов или команд, а остальной личный состав месяцами и безнадежно «ожидается». В 6-ой армии, кроме двух дивизий, числилось 11 отдельных отрядов численностью от 50 до 1600 человек.
Снаряжение и одежда удовлетворительны, но вооружения не хватает, хотя и считают, что налицо имеется 1 100 000 винтовок. Заводы изготовляют ничтожное количество новых винтовок. В декабре повсюду были расклеены воззвания о сдаче оружия в районные советы всеми «партийными товарищами и организациями». Явный показатель недостатка в армии вооружения.
Кавалерии почти не существует: нет лошадей. Еще в октябре прошлого года центральная власть искала такого ремонтного[5 - Ремонтер – должностное лицо военного ведомства, офицер, производившяй ремонт, то есть пополнение (обычно – закупку) убыли лошадей для войск.] генерала, который сумел бы поставить в армию тысяч 15 лошадей.
Недостаток запряжек, особенно в парках, является причиной слабой численности артиллерии. Насчитывалось, в общем, немного более 1000 орудий на все фронты, но число действующих меньше. Артиллерийских офицеров, умеющих вести огонь, очень мало. Артиллерия преимущественно в невежественных руках.
Инженерные войска распылены в виде мелких частей. Все в состоянии незаконченного формирования.
Внешний вид армии, по сравнению с положением в середине прошлого года, улучшился. Но дисциплина по-прежнему условная. Сам видел части, идущие на фронт вразброд со стрельбой из строя на ходу вверх, – к ужасу прохожих. На фронте применяется только одно наказание – расстрел. В случаях непослушания он применяется обязательно. Поэтому такие случаи редки.
Комитеты уничтожены в строевых частях, в тыловых учреждениях, а также в центральных военных управлениях, но зато в строевых частях введены недавно «партийные коллективы» – институт [одно слово неразборчиво] комитетов. Так как это главным образом политический институт, то о нем ниже, когда я буду говорить о политической надежности армии. Функции комитетов сосредоточены в лице комиссаров – где одиночных, где парных, а отчасти переданных «партийным коллективам». Комитеты были выброшены из армии во имя признанного принципа единоначалия. С ними пало и выборное начало. Но вне армии сохранены и комитеты, и выборное начало. Без этого рабочие и крестьяне могли бы легче выйти из рук. Комиссары назначаются, а не выбираются.
Командование. Комиссары, надзирающие за военными специалистами, невежественны в военном отношении, не исключая и верховного надзирателя – Троцкого, который, нахватавшись верхов, все же остался совершенно несведущ в чисто технической области; комиссары не скрывают своего недоверия к приглашенным специалистам и не могут не сознавать, что они по военным вопросам в руках этих специалистов; в своих речах вожаки выражают уверенность, что «в недалеком будущем» на смену «белогвардейским офицерам-предателям» придут «красные командиры», лихорадочно изготовляемые на многочисленных офицерских курсах, а из этих верных советской власти офицеров получатся и «красные генералы». Пока же комиссарам, комплектуемым нередко из числа полуграмотных солдат и бойких рабочих, развязно берущихся за абсолютно незнакомое им дело, приходится играть жалкую и презренную роль; даже подсматривание за личным составом – то есть основная их задача – не может выполняться ими осмысленно, настолько они несведущи в военных вопросах. Все сводится к мелочным придиркам, имеющим целью проявить власть и отстоять достоинство комиссара. В крупных же вопросах этих «товарищей» можно провести как угодно и получить их подпись на любое распоряжение, существенно расходящееся с интересами советского правительства.
Мне известны случаи намеренной засылки воинских эшелонов не туда, куда нужно, бессмысленного сосредоточения военных запасов, преступного, с точки зрения большевистских интересов, проектирования укреплений и т. п. Все подобные распоряжения были утверждены и одобрены комиссарами, причем в некоторых случаях – самим Троцким.
В одном из центральных военных управлений, отвечающих прежнему управлению Генерала Квартирмейстера Генерального Штаба, мне случилось наблюдать комиссара из латышей. Он сидел в очень большом кабинете, читал газету, говорил по телефону с другими латышами, но я не заметил, чтобы он принимал какое-либо участие в работе управления. Он откровенно чувствовал себя на одном из наблюдательных пунктов большевизма, не более.
Военные специалисты – старший и средний командный состав – работают в громадном большинстве, я сказал бы, конфузясь. Это кладет на все распоряжения отпечаток нерешительности, вялости, неискренности. Но нельзя закрывать глаз на то, что люди, втягиваясь в дело, мало-помалу, в силу прежних привычек начинают работать как следует, а иногда даже и с увлечением. Этому способствует и создавшаяся атмосфера безнадежности: переживаемая вначале душевная драма с течением времени уступает место апатии, а для некоторых характеров – нездоровому озлоблению, которое переходит в желание поддержать большевиков против недосягаемых и тщетно ожидаемых избавителей. Таким образом, командный состав представляет собою как бы гарнизон большевистской крепости, большая часть которого готова изменить, часть же, изверившаяся в активность осаждающего, решилась, чтобы улучшить свое положение, на вылазку и на бой с ним.
Пусть осаждающий учтет этот перелом в психологии осажденного и все значение времени для подобного перелома.
Нужно понять еще, что переход целых и притом крупных частей на Белую сторону почти невозможен вследствие трудности подготовить соответствующее настроение солдат, особенно без нажима извне; переход же отдельных лиц командного состава, уже принимавших участие в гражданской войне на стороне красных, невозможнее по другой причине: их ждет расправа белых. В результате создается или настроение отчаяния, заставляющее людей желать победы большевикам, или стадное чувство, при котором кажется, что выгоднее не отделяться, держаться в кучке и спасительнее нести один массовый ответ.
Наконец, несомненно существует и такая часть командного состава, которая сразу ухватилась за возможность сделать так называемую «революционную» карьеру. Среди таких есть и старые, и молодые. Тип слишком хорошо известный, пока еще не подаривший большевикам Бонапарта.
Низший командный состав слагается из офицерства прапорщичьего типа и из новых «красных» офицеров. Среди первой, старой категории немало людей с «белогвардейской» душой; в общем же это народ усталый, серый и пассивный. Вторая категория, которую довольно успешно изготовляли упомянутые выше курсы, угрожает развернуться в кадр бодрых, большевистски настроенных и достаточно сведущих офицеров.
И здесь время играет первостепенную роль. Чем дольше позволить развиваться этому институту, тем более окрепнет армия в качестве чисто большевистского орудия. При полной или относительной политической безучастности старшего командного состава, удаляющей его от солдата, какое громадное значение будет иметь офицерская молодежь, равномерно влитая в ряды с большевистской «словесностью» в кармане?
В общем итоге о боевой надежности армии можно сказать, что за год достигнуто в этом смысле много: главное, переход к единоначалию, повышение дисциплины, некоторое подобие внутреннего порядка, освежение младшего командного состава.
Тем не менее армия сохраняет еще все черты иррегулярных войск. Лучше всего это вырисовывается в тактике. Войска не ведут войны, а выходят «на работу». Отработав, стихийно возвращаются на квартиры, жмущиеся обыкновенно к железной дороге. Служба охранения и разведки случайна и совершенно ненадежна. Рыть основательный окоп красноармейцу лень. Крайняя подверженность панике, чему способствуют самочинные и ложные донесения, посылаемые неизвестно кем помимо начальников по железнодорожному проводу. При первых тревожных признаках стремление к «эвакуации» и к подрыванию сооружений и складов (чисто пассивные тенденции). Необыкновенная любовь к разным техническим средствам вроде бронированных поездов, броневых автомобилей и суеверное упование на них или, наоборот, страх перед ними. Из плюсов – способность к частному порыву, если есть личный пример и пылкий предводитель.