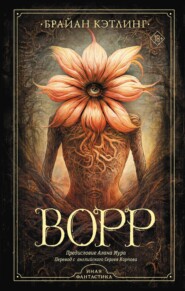скачать книгу бесплатно
Она кивнула и ждала. Возможно, его имени? Уильямс медленно назвался. На втором повторении она задрожала, потом затряслась. Он думал, что, возможно, ее опять охватят судороги; кровь текла по ногам с устрашающими темпами. Но она подобралась и пошла, потянув его за собой.
Они вышли на поляну с шестью-семью большими и богато украшенными жилищами. Шастали из-под ног куры, наблюдал за всеми и вопил павлин. Уильямс огляделся и хотел кликнуть живую душу, как вдруг появился старик. Его татуированные руки в браслетах протянулись к девушке. Она прильнула к нему и отпустила Уильямса. Оглянувшись, тот увидел, как между ним и ею стоит ее красота – отдельная, древняя, захватывающая дух.
* * *
Ярким солнечным утром я пускаю следующую стрелу. Изгиб оперения поет в энергичном воздухе над моей тропой из твердого камня, поднимающейся в далекие холмы.
С каждым шагом я словно выбираюсь из прошлого, поднимаюсь из плоской гравитации ожидания. Впредь воспоминания будут течь лишь вперед и ждать моего прибытия – как заведено во снах, которым они придают последовательность и движение. Точно так же прежде меня летят стрелы, чтобы прощупать бездну, распробовать ее цвет и поименовать ее случайности. Лук написал мое понимание всего этого высоко, прямым росчерком продолжительной траектории. То, что ждет во снах, когда я вступлю на новый отрезок пути, объяснится мне между перелетами стрел. Мое странствие между ними распутает знание, пока стопы проходят путь всех их прибытий.
* * *
Воскресным утром коренастый йомен Муттер закрыл за воротами дома номер четыре по Кюлер-Бруннен свои обязанности. Повернул ключ в пудовом замке, упиравшемся против запора, отчего Муттеру пришлось привстать на цыпочки. Просмоленная влажная сигара, зажеванная в уголке небритых губ, перемежала его частое дыхание на холодном воздухе. Он возвращался домой, в роскошный разбухший мускус жениного обеда, и его внимание размазало между вчерашним шнапсом и насыщенным сном, клубившимся по ту сторону плотной еды; возможно, потому замок не слушался и он выронил ключи в ледяную слякоть.
– Доброе утро, Зигмунд, – протрепетал голос над его шарящими карачками. Он прокряхтел к вертикальному вниманию, чтобы ответить женщине, лучившейся улыбкой над кучей его тела в кротовьей шубе. Ее рост подчеркивался бежевым зимним пальто в пол, которое светилось вокруг нее: лучезарность обрамлялась шарфом с ярким узором, державшим широкополую шляпку на кудельной копне каштановых волос. Зеленые глаза сияли силой, вселявшей дискомфорт.
– Доброе утро, госпожа Тульп; нынче славный прохладный денек.
На миг они зависли между жестами. Улица, поднимаясь в холм, сужалась, сосредоточивалась от широкого колена для экипажей в горлышко крыш, труб – кривых и пытающихся подражать каллиграфии деревьев, горело-черных на фоне маренового неба. Высоко на загривке улицы виднелись часы, нерабочие и грубо закрашенные – из-за решения без истории. Как и циферблат, встреча внизу казалась равно онемевшей.
– Как поживает декан Тульп? – выпалил Муттер с гаркающей громкостью, разоблачившей желание уйти.
– У отца все хорошо, – любезно ответила она, зная, что может позабавиться с неполноценностью этого недалекого человека. С церковной площади вырвался ветер и прервал ее просчитанную игру, встряхнув тяжелую дверь так, чтобы она заметила незапертый замок.
– Передавайте благие пожелания вашей жене и малышам, – прощебетала госпожа Тульп. Муттер неуклюже моргнул, с трудом веря в легкость избавления. – И велите ей не волноваться из-за просроченной платы за дом; мой отец понимает, как тяжело приходится людям в это время года.
За сим он поторопился прочь, хлопоча побитой шляпой на перхотной голове и желая здоровья всей ее родне. Она осталась на пустой ветреной улице, пока ее интерес отчетливо дребезжал в скважине замка.
Главной задачей Муттера было приглядывать за домом и лошадьми – животиной, которыми он с семьей пользовался по своему усмотрению, когда не возил ящики в подвалы под домом и обратно.
Каждую неделю он забирал пронумерованный ящик из склада в часе езды, доставлял к дому и заменял на использованный с предыдущей недели. Он понятия не имел, что внутри этих красиво сбитых и простых деревянных коробок, они его не заботили. Таков был его темперамент; агрессивно надежный, как у отца, и, если повезет, у сыновей. Не его и не их дело совать нос в предприятие, обеспечивающее им достаток и занятость последние восемьдесят лет. Так или иначе, подобный интерес был недоступен его классу. Воображение – неизбежно разрушительная деятельность на службе у тех, кто состоит в услужении сам.
Коробки были разного веса, и изредка он брал с собой одного из сыновей, чтобы помогать с самыми тяжелыми. Мальчикам полезно увидеть и понять дом, чтобы в будущем повторять свои обязанности и стеречь тишину. Они знали здание с того самого момента, когда учились ходить. Мальцом Муттер тоже стоял за ногами отца, пока открывались ворота, пугался размера лошадей и сочности их запаха, очаровывался покоем высоких пустых комнат, всегда ожидая, что появятся хозяева. Но их не было. Он ни разу не видел внутри ни живой души, потому что дом пустовал. Ключи имелись только у отца.
Однажды, когда ему было двенадцать и он ждал на кухне, болтая ногами на высоком стуле, ему показалось, он видел что-то в противоположной стене – бурую лакированную тень чего-то скрывшегося из поля зрения. Даже тогда он уже подспудно понимал, что ему не по рангу это видеть, и потому избавился от воспоминания и никогда о нем не заговаривал, особенно с отцом.
Теперь он был в той же подвальной кухне, опасливо волочил ящик к средней стене, где за панелью лакированного дерева скрывался кухонный подъемник. На кухне господствовал прямоугольный мраморный стол, занимавший свой объем с достоинством предназначения. Раньше он был в фокусе всех кухонных работников, обстряпывающих дом или отдыхавших и ужинавших в конце дня.
Муттер с одышкой поставил ящик и выпрямился, уперевшись в холодный камень и утирая мокрое красное лицо полотенцем, которое всегда держал сложенным у отъезжающей стенки. За годы он отточил технику подъема и приема ящиков из внутренностей лифта, но теперь это становилось все труднее. Не из-за слабости, но из-за медлительности, как будто разъедавшей его энергию, как пламя – воск свечи. От образа холодной желтушной лужицы, скопившейся в белом блюдце с поникшим и тонущим фитильком, по его грузному телу пробежал холодок. Он подобрался и взвалил ящик в подъемник с гулким грохотом, проглоченным глубиной шахты, уходящей глубоко под пол. Лифт работал наоборот. Вместо того чтобы обслуживать комнаты наверху, как полагается, он отправлялся вниз в самодостаточную и замалчиваемую часть дома. Муттер всегда предполагал, что странный лифт как-то связан с колодцем, который должен был находиться здесь и который дал название дому и улице.
Муттер закрыл дверцу и задвинул панель на маскирующую позицию. Вытащив из помещения легкий использованный ящик, он медленно затворил за собой дверь, на миг помешкав, пока не услышал скрип лифта на долгих толстых веревках.
Он прислушался – не из любопытства, что было бы непозволительно, а из чувства наступающего удовлетворения. Его долг и дело снова исполнены.
* * *
Ящики были педагогической библиотекой. Каждый содержал отобранные наглядные образцы внешнего мира: для объяснения предоставлялись структуры, материалы, животные, орудия, растения, минералы и идеи. Некоторые экземпляры – консервированные, в банках; некоторые – свежие, даже живые. Попадались там и фотографии, распечатки и репродукции.
Родичи – так они промеж собой называли друг друга – открывали ящики вдали от ученика. Заглянув внутрь, замолкали и коченели. Ему казалось, они прислушиваются к указаниям или активируют свою память. Но никакого голоса он ни разу не слышал – только протяжный пронзительный свист.
Они объясняли Измаилу чудеса по очереди, иногда специализируясь на конкретных темах. Авель описывал материалы и процессы; Аклия объясняла растения, минералы и почву, где они росли, а также сопутствующих насекомых; Сет демонстрировал инструменты, разыгрывал историю или показывал изобретения; Лулува растолковывала животных, как они устроены и к чему пригодны.
Внутри большого ящика всегда находился маленький. Этот доставали и изучали на кухне, а затем превращали в еду для Измаила. Он любил слово «кухня»; заучил его одним из первых. Оно значило питание, благоухание и тепло, он чуял его звучание задолго до того, как чувствовал его вкус. А еще это слово казалось очень странным в чужих ртах. Измаил, весь внимание, следил, когда его произносил один из них. Это, сколько он помнил, было первое, что его рассмешило, – он сам не знал почему, просто из-за их реакции. Почему-то, когда они пусто уставились в ответ, стало еще смешнее.
Они смеялись лишь раз – через несколько дней после того, как он им показал как. Они наблюдали за демонстрацией с таким тожественным вниманием, что натужный смешок превратился в полноразмерный хохот. Но когда они вернулись и рассмеялись для него, это было ужасно. Он не мог объяснить почему. Просто неправильно – режущая противоположность того, что чувствовал и слышал он во время своих спонтанных приступов. Они репетировали для него, ради него, чтобы поддержать смехом, но им не хватало глубины традиции. Такого в их ящиках не было. Они обещали больше не пытаться. В ответ он обещал больше никогда не кричать, не плакать навзрыд.
Их забота и нежность лучше всего выражались в действии, движении и прикосновении, в мягком предоставлении знания, общества и еды.
День, когда Лулува показала, как его тело может продолжиться в ее и произвести нектар, ошеломил. Она закончила урок о мухах, и он задал вопрос о том, что она называла «удовольствием». Он знал, что это как сухой белый «сахар» или густой желтый «мед» – не снаружи или на языке, а везде сразу. Она сказала, что у его вида много способов обрести удовольствие и все они связаны со знанием. Она сказала, что удовольствие сделано из сливок, как ее мотор.
Несколько недель назад Авель показал ему одну часть их тела – изогнутую полость бакелитового панциря. Их внутренность была во вмятинах и отметинах извилин, углублений и канальцев. Всю поверхность покрывали бугорки – очень непохожие на гладкое совершенство их блестящей внешней стороны.
– Мы полые, внутри нас только жидкость, – говорил Авель, – в отличие от тебя и других животных, напичканных тканью и органами. Мы устроены иначе. Все наши силы хранятся в густом креме; все, что мы есть, живет в этом креме, питается им и говорит с изнанкой нашего панциря через эти сложные желобки и схемы, – он показал на тыльную сторону фрагмента в руке. – Мы не понимаем их действие, нам запрещено интересоваться и изучать процесс. Гораздо больше мы знаем о тебе, чем о себе.
Измаилу хотелось знать об удовольствии больше, и он потребовал у Лулувы описания. Она сказала, что словами это не передать.
– У твоего вида есть связь между размножением и сладостью – ваше возбуждение устроено, как магниты в уроке 28. Оплодотворение следует тому же конструкту.
Он хотел больше.
– Да, – сказала она. – Пора тебе показать. Ты как животное, которых мы видели: чтобы размножаться, ты должен поместить свою трубку в кармашек самки. Затем семя оплодотворяет яйцеклетку. Это тебе известно. Но ты узнаешь, что это действие пронизано удовольствием.
Измаил понимал слова, но не их значение.
– Когда ты выпускаешь семя, – сказала она, – звучит великая песнь тепла.
Он смотрел и прятался в себя. Она прильнула к нему. Твердая блестящая рука поглаживала его бедро. Жесткость панциря вызвала эрекцию.
– Я покажу тебе, что создана по подобию твоего вида, чтобы объяснять эти чудеса. Эти уроки о людях преподали явно только мне – для тебя.
Она показала ему застежку в складке между ног, обычно скрытую от глаз. Попросила расстегнуть ее, и он нащупал механизм этого секрета трясущейся рукой. Через какое-то время она присоединилась, ее ловкие пальцы спустили бегунок по всей длине, раскрыв долгую расщелину.
– Коснись внутри, – сказала она.
Тепло и мягко. Он пригляделся, запустив теперь и ладонь, шаря пальцами в складчатых слоях.
– Ламинария, – сказал он. – Это сделано из ламинарии, ламинария была в уроке 17. Банки из моря.
Если бы она могла улыбаться, то улыбнулась бы. Взамен погладила его по голове и сказала:
– Нет, но очень похоже. Этого материала ты еще не видел, – она надавила на морщинистую грушу, и его осязание залила влага.
– Ты течешь, как я, – сказал он. – Как я и животные. Раньше так не было.
– Это не одно и то же. Это не жидкие отходы, но особая смазка, позволяющая тебе двигаться внутри меня без трения и боли.
Уложив навзничь свое тело, она направила его к себе и с той же внимательной концентрацией, с которой препарировала животных, ввела в себя. От ее внутренней хватки Измаил поморщился, но она исправила это, надавив левой рукой на его копчик и издав свистящие щелчки, объявлявшие удовлетворение, – с теми же звуками она радовалась, когда он схватывал другие ее уроки. Его захлестнула растущая волна приторной победы, и он начал вдаваться глубже. Его руки вцепились в жесткий идеал изгибающихся бедер – в контрасте с ним жаркая внутренность казалась чудесным благословением.
Это отличалось от всего, что она ему показывала. Понимание проявилось во всем теле, бурлило от сахаров, наделивших его прямой силой, о которой Измаил раньше и не мечтал. Он почувствовал мощь и господство, и невозможную радость отступления, пока она скармливала его пугливое детство прошлому. Они двигались вместе, и он восклицал – всхлипывающее удовольствие в ее объятьях, бумеранги чувств с постоянной энергией. Внезапно она затряслась, содрогаясь каждым суставом, насаживая голос на разболтанность звука. Такого с ней еще не было, и она не знала цели или значения процесса. Только Измаил знал, что один из ее внутренних желудочков излился напрямую в шунтовый механизм сна и режима перезарядки, переключился на абсолютное восприятие, пока Измаил реверберировал рядом с ней, так что она включалась и выключалась с быстрым мерцанием сознания и забвения, производящим в ее старом рабочем теле из соков и резьбы нечто вроде удовольствия, скроенного из удивления. Пока в силе правило Родичей, ей не осмыслить собственную реакцию. Эта тайна была доступна пониманию лишь одного Измаила.
* * *
Всему виною были ангелы. Священник долго толковал о них с девушкой, однажды более часа. Он объяснял, что сами они не боги – как и множество кланов духов, ранее наводнявших их верования, – а крылатые слуги, посредничавшие между богом и человеком. Ошибкою стало показать страницы «Потерянного рая» – большого издания с великолепными иллюстрациями Гюстава Доре.
Он показал ей ангелов; иногда попадались и демоны. Это было ничего: ей понравились все, особенно с расправленными перед полетом крыльями. Потом они дошли до страницы об Адаме и Еве в саду перед падением; книга пятая, 309–311.
Адам воззвал к жене:
– Спеши, о Ева! Посмотри на нечто,
Достойное вниманья твоего:
С востока, из-за рощи, к нам идет
Созданье дивное. Как будто вновь
Денница в полдень вспыхнула! Посол,
Возможно, с вестью важной от Небес
Явился, и возможно, гостем он
Сегодня будет нашим.[12 - Пер. Аркадия Штейнберга.]
На сопутствующем изображении была пара под деревом. Она – на камнях спиной к читателю, он – перед ней, показывая вглубь картины, откуда к ним направлялась ангельская сущность. Поблизости, уравновешивая сцену, были два оленя – один возлежал с мирным, но бдительным львом. Пейзаж цвел буйным цветом; трава и растения на первом плане придавали изображению яркую, шершавую реальность.
Иллюстрация произвела на туземку жестокий и ошеломительный эффект. Она тут же утратила вид небрежного интереса, вскинулась и оцепенела. Затряслась всем телом, широко распахнув глаза, словно бы истязаемая пытками чрезвычайного ужаса. Начала срывать с себя одежды, стонать и драть ткань, пока не оголилась и не стала откровенно пугать, испуская острый запах пота; голос стал глубже, распространял волну заразного ужаса. Тогда она и начала кровоточить. Священник одновременно испугался и смутился. Она периодически ловила его взгляд, хлеща наружу как кнутом обращенным внутрь фокусом, пока наконец его не переполнили страх и стыд. Отвращенный каждым элементом сцены, он сбежал из церкви.
После возвращения из джунглей атмосфера в лагере стала невыносимой. Прибытие Уильямса пустило почти видимую рябь энергии; местные мгновенно замерли, потом отвели лица, потупили взгляды на землю или то, что было у них в руках. Один из самых подобострастных рекрутов побежал в офицерский клуб; другие следовали за ним поодаль, чтобы посмотреть, что будет.
На веранде де Траффорд, командир части, расправил плечи перед белолицым подчиненным и показал на дверь. Они молча вошли в офицерский клуб. Скоро краткая тишина уступила оглушительным крикам и еще более громкому молчанию.
Гнев Уильямса скрутила строгость иерархии. С лицом из камня он слушал, как де Траффорд плевался выговорами за подрыв покорности среди туземцев, винил напрямую в «неспровоцированном нападении этой дикарской суки». Он требовал ответить, что Уильямс с ней делал, раз так возмутил порядок, и заявил, что всерьез подумывал «прикончить суку». Уильямсу было нечего сказать, и он запер ярость за ходящими желваками и стиснутыми зубами. Он действительно чувствовал ответственность за девушку, но такую, какой де Траффорду не понять никогда. По краям нежности, что он испытывал в ее присутствии, нарывала глубокая, изнывающая привязанность. Все то, в чем его обвиняли, случилось в его отсутствие, но он знал, что виновен во всем – а чем, не смог бы объяснить и сам, особенно себе. Произошла цепь невозможных событий, а он остался вне их всех.
Он оставил всех и вернулся под опасливыми взглядами застывших туземцев в прибежище хижины, назначенной арсеналом. Нашел утешение в распаковке оружия, пока священник прокрался обратно в церковь, чтобы очистить ее от аномалий, которые могли там поселиться. Но когда Уильямс открыл тяжелый футляр в форме книги, его день изменился к лучшему. Подняв «Марс Фэрфакс» из бархата облегающего ложемента и почувствовав в кулаке внушительную твердость, он посмотрел на небо и, взводя массивный казенник под зычный колокольный лязг, кивнул с улыбкой понимания.
* * *
Гертруда Элоиза Тульп была единственным ребенком. «Единственным» в великом множестве смыслов: в том, что одному ребенку дается все; в том, в каком это слово истолковывается как знак естественного превосходства, перерастающего в неоспоримое право; в ее сиятельном восторге от единственности без примеси одиночества.
Она была предметом гордости, труда и восхищения отца – второго в городе лесоторговца в третьем поколении, давно оставившего простейший быт унаследованной империи слугам и обратившего свой острый аппетит к политике и церкви. Она была скромна видом, обаятельна манерами – с высокой стройной поволокой, по большей части скрывавшей очаг ее собственного голода. Все двадцать два года ее жизни были наполнены добротой и образованием, но ни то ни другое не растопило боль из-за рождения в незнании. Она хотела открыть все и овладеть всем. Немедля.
Она ненавидела оставаться в стороне. Немногие смели пренебрегать ею в социальном отношении – ее влияние простиралось слишком широко, чтобы играть с огнем. Но большинство пыталось запереться от нее буквальнее – латунными и железными загадками, в слепую услужливость которых так глупо верят. Уже с семи лет она начала понимать их механику, принципы и – вслед за этим осознанием – какие дивные власть и удовлетворение лежат по другую сторону манипуляции ими. Она получала доступ ко всем часам дня и ночи. Она кралась на цыпочках по самым запретным уголкам. Она видела королевские секреты: как ее родители слагают зверя о двух спинах; как люди прячут сокровища; как гниют за разговорами мертвецы в катакомбах под ее домом. Она видела интриги, инцест, коварство, ложь и удовольствие, закрытые предубежденному оку.
Теперь она стояла в подмышке соседнего здания, пока этот шут Муттер исчезал в сторону своего дома. Она выждала танталовый срок, наблюдая, как на улице оседает покой, наслаждаясь сдержанностью, прежде чем коснуться двери и увидеть меню для ее любопытства. Она быстро перешла пустое пространство и толкнула холодные ворота. Те сдвинулись, тяжелые под опойковой перчаткой.
Ее удовольствие вскружилось и безмолвно взвизгнуло: каковы запрет и экстаз! Дом являлся главным секретом ее жизни – тем единственным, в чем отказывали ребенку, у которого было все. Никто в семье о нем не говорил.
– Ах, ja, дом на Кюлер-Бруннен, – отвечали они и сменяли тему. Все дни своей жизни она глазела на него, изучала и следила за ним мимоходом, от коляски до зрелости. Дом постукивал по ее панцирю, тревожа внутри пробуждение. И теперь она преодолела его внешнюю стену, закрыла за собой ворота в защите от вульгарных вторжений.
Она помедлила у денников, стоя на простой конструкции двора, прежде чем подойти к входу, пока в душе разыгрывалось предвкушение. К ее радости и удивлению, дверной замок был прост – старый и известный тип, какой она уже много лет исподтишка взламывала в домах, принадлежащих семье. Дверь этого дома – не ровня ее навыкам, и она упивалась мыслью о том, что поглотит так долго скрываемые секреты.
Она вернулась обратно через двор. От ворот оглянулась на замок и рассмеялась – чуть ли не чрезмерно громко. И вот это нелепое устройство столько ее сдерживало? Она бы могла открыть его уже много лет назад. Понадобилась всего одна пантомима дурости со стороны Муттера, чтобы дать ей разрешение вырвать билет к удовлетворению.
Она захлопнула и заперла ворота на навесной замок и ушла по темнеющей улице, напевая до самого дома и смакуя свою силу и сладкую слабость всего вокруг. Теперь ни к чему торопиться; развязка энигмы цепко сжата в ее руках. Она растянет потенциал, вместо того чтобы перескочить к развязке; пусть окупятся столько лет досадного недопущения. Теперь ей принадлежит каждая воображаемая комната.
Шесть дней спустя, когда Муттер ушел вновь, она проникла в дом.
* * *
Говорили, что многие годы никто не доходил до центра Ворра. А если и доходил, то уже не возвращался. Предприятия расширялись и процветали на самых южных окраинах, но из чащи до людей не доходило ничего, кроме мифов и страхов. Отец всех лесов; древнее речи, старше любого известного вида и, как говорили некоторые, их распространитель, замкнутый в собственной системе эволюции и климата.
Многослойная зелень и неохватные стволы, дышавшие здешним насыщенным воздухом, предлагали человечеству многое, но могли и поглотить тысячу людских жизней в микросекунду своего непрерывного, непостижимого времени. Столь обширна была площадь леса, что утвердила свои собственные временны?е требования, располосовав путь трудолюбивого солнца на часовые пояса вне обычных мерок; теоретическому страннику, пересекающему всю ширину Ворра пешком, пришлось бы остановиться в центре и ждать по меньшей мере неделю, пока нагонит душа. Столь густым было дыхание леса, что оно проминало окружающий климат. Бурлящие облака взаимодействовали с его тенью. Масштабная транспирация сосала соки из ближайшего города, который кормился лесом, пила из легких его обитателей и насыщала небеса кислородом. Лес вызывал грозы и не имеющие равных сдвиги погоды. Иногда он подражал Европе, на неделю-другую украдкой пронося лжезиму, роняя температуру, так что город выглядел и чувствовал себя подобно своему прародителю. Потом взбивал ветра и жару, чтобы кладка трескалась после оков невозможного мороза.
Ворр не смел перелетать ни один самолет. Непредсказуемый климат, головокружительные аномалии компаса и невозможность посадки превращали лес в кошмар пилота и штурмана. Все его маршруты превратились в заросли, джунгли и засаду. Племена, что, по слухам, там обитали, были едва ли людьми – кое-кто говорил, там все еще рыскают антропофаги. Безнадежные создания. Головы, растущие ниже плеч. Ужасы.
Лесовозные дороги обегали его периметр, позволяя коммерции опасливо покусывать беззащитные краешки. Не было иных коммерческих способов войти или выйти из его твердой тени, кроме поезда. Бездумно прямые пути, бежавшие к сердцу, выкладывались рельс за рельсом с голодом до древесины. Протягиваясь, железная дорога тут же забывала свое прошлое. На своих однообразных милях она несла сон.
Большей частью ходивший по ней поезд состоял из открытых платформ и железных цепей, созданных для свежесрубленных стволов. Но были и два пассажирских вагона для кратких и обязательных визитов или для тех, чье любопытство превосходило мудрость. Были и рабовозы – простые коробки на колесах, предназначенные для переправки рабочей силы внутрь леса. Рабы менялись на глазах у хозяев. Они преображались в других существ – существ, лишенных цели, личности или смысла. Вначале считалось, что недуг лишь последствие их заключения, но скоро выяснилось, что в них оставалось слишком мало человеческого, чтобы страдать от таких тонкостей эмоций или чувствовать их. Сам лес пожрал их память и переродил древозависимыми.
* * *
Зоопраксископ устарел. Его вытеснили, превзошли другие машины, определявшие движение и проецирующие поступь реальности. Но эту затею Мейбридж бросил уже в Америке. Он и его медная гидра из линз, шестеренок и света давно достигли того, что теперь опошливалось. Еще никто не видел новую машину – она оставалась скрытой от чужих глаз в проклятой комнате восточного Лондона.
Возвращение в Кингстон-апон-Темс после стольких лет и стольких путешествий казалось естественным. Мейбридж связался с оставшейся родней и попросил ее помочь ему постареть. «Дядя Эдди» стал мировым именем, человеком значительного влияния: они, конечно же, согласились.
Он знал, что не завершит последнюю машину. Ее эффект был бы катастрофическим – все, что принесло ему славу, в сравнении с ней казалось детскими игрушками, и он решил унести секрет с собой в могилу.
Много лет назад по крику, взывавшему из всех его архивов движения, Мейбридж понял: вплоть до этого момента он всецело заблуждался. Размеренное вычерчивание, занимавшее его жизнь, было ложью. Наблюдение – не первичная функция фотографии, а побочный эффект истинного предназначения. Постоянный поиск изображений жизни – это только добыча сырья. Весь смысл лежал в следующей части процесса – зерне, готовом дать вкус после беспощадного перемалывания: камера собирала не свет, а время, и больше всего она ценила время на пороге смерти.
Камера могла заглянуть между швами реальности и выискать суть, упущенную в континууме повседневности. Она питалась утечкой между мирами, недоступной невооруженному глазу и обывателю. Впервые Мейбридж это заметил, когда делал портреты побежденных вождей модоков[13 - Модоки – индейское племя, обитающее в США на границе двух штатов, Орегона и Калифорнии. В 1872–1873 годах между военными США и модоками произошла Модокская война, завершившаяся поражением модоков.] – столько лет назад, – хотя видел и в Гватемале, и в некоторых инвалидах, украсивших его портфолио движения. Они глядели в жизнь – и в камеру – отлично от прочих. Их портреты пели против мира, их глаза прошивали взгляд зрителя.
В стеклянных слайдах чувствовалась аура невидимой вибрации – но эффект переливался перед эмоциональным взором, а не в реальности. Это каким-то образом передалось снимкам: изображающие благородных или увечных моделей, обрамленных в пространстве, они гудели от явно выраженного резонанса, расщепляющегося в субъективном разуме зрителя. Поразительно, но эффект усиливался, когда снимок только проецировался на бумагу, а не наносился.
Зоопраксископ двенадцатого поколения не походил на другие. Явно не на первые четыре. Он просил другого имени – такого, что по-прежнему пугало изобретателя, хоть он его так и не нашел. Глядя на хитросплетение линз и затворов, никто бы не поверил, что может этот аппарат. Все бы ждали очередных красивых картинок, танцующих на стене, но встретили бы рябь света, вырезающую из оптического нерва хлыст движущихся образов…
Несмотря на самодовольство, Мейбридж оставался проницателен и достаточно умен, чтобы понимать: подобное заявление – на публике – повредит его положению и поставит под удар завоеванное место в истории. Те умишки, что чернили его достижения, легко бы растоптали Мейбриджа, буде посвящены в это открытие – но им никогда не украсть его триумф или секрет. Он позволит секрету просочиться, только когда от них останутся гнилые кости. Пусть его гений провозгласят другие, еще не родившиеся люди – как Хаксли для Дарвина или Рескин для Тернера, – люди растущего века, которые признают его просвещенность. Он скопит силы и, быть может, проживет достаточно, чтобы застать это воочию. Он создал устройство, он сказал новое слово. Но он насмотрелся, как иных его возраста в последние годы жизни предавали поруганию, как они пали жертвой собственной щедрости, давились крошками мудрости, слишком свободно розданной толпе. Ему было что передать будущему – и кое-что получше, чем объяснения. Он уже слишком стар для споров и сомнений. Он оправдан и прав.
И он вернулся в Англию – скрыть свои знания о медном создании, творившем невидимое, и избежать врожденного любопытства и вытаращенного интереса американцев, которые ранее так блестяще эксплуатировал. Теперь хотелось спрятаться в угрюмом безразличии Англии, быть незримым, пусть даже на виду.
Давным-давно – сейчас уж кажется, сотню лет назад, – он навещал остров Мэн, древний риф в Ирландском море между Англией и Ирландией, забытый обоими враждующими островами. Родители возили его туда показать, как крестьяне работают на плотной твердой почве и в жестоком всклокоченном море, и избежать вопросов семейного ужаса, тлеющего дома. В редкий раскаленный полдень, без теней и других укрытий, ему доверили в одиночестве исследовать округу, пока мать и отец прогуливались по пляжу, наказав не удаляться далеко от того места, где он мотался и шатался, не находя ничего интересного.
В убежище чашевидной скалы, прибитой к утесу выкрашенными в белый цвет коттеджами, он повстречал рыбака. Скука мальчика была как наживка для старого морехода, топившего собственное бесконечное уныние в мертвящем труде. Они говорили урывками, роняя фразы в песок, чтобы наблюдать за ними без комментария. Вода отошла и уступила завывающее пространство для их дыхания, позволяя речи принять форму соленых пузырей. Пиком общения стало содержимое побитого ведра с морским рассолом, которое рыбак принес и драматически вывернул в песок на изучение мальчика. Из ведра послышались скребущиеся, лязгающие звуки. Мальчиком тут же овладело любопытство. Подойдя и заглянув внутрь, он увидел пять крабов разных размеров, мучавшихся в скудной воде и отвесных жестяных стенках своей тюрьмы.
– Они пытаются сбежать? – пролепетал мальчик. – Выбраться?
– Вестимо, – кивнул рыбак после табачной паузы.
– Но почему у них не получается? – спросил мальчик. – Их же больше, чем воды.
– То мэнские крабы, – ответил мужчина. – Вишь – всякий раз, как один чуть-чуть не выползает, другие назад тянут.
Мальчик увидел это, понял, что это правда, как сам океан, и тут же испытал благодарность за факт из взрослой жизни. Он знал – даже тогда, – что будет пользоваться им всю жизнь.
Единственный раз он закрыл на него глаза на свадьбе, когда дважды испытал всепоглощающую любовь, что потрясла его строгое древо познания до корней.
Молодая жена вошла в жесткую жилу холостяцкой жизни новой кровью, согревающей и озаряющей каждую частичку упорядоченного бытия Мейбриджа, принося радость, которую он не умел ощутить, – и впервые не желал. Рождение сына ошеломило его скопом чувств – больше, чем он мог понять; каждый раз, когда он брал в мосластые руки ребенка, внутри Мейбриджа горел и ерзал шар жизни. Но то были помехи – то, что задумано преходящим, моменты обмана, лишающие чувства цели. Теперь сука сдохла, ублюдок сбыт с рук в другой дом, а он снова свободен. Свободен продолжать и никогда более не позволять столь вероломным чувствам отравлять его волю. Когда друзья приносили вести о растущем ребенке или о поразительном сходстве с отцом, которым сын уже обладал, Мейбридж отбривал их, отрезал от своего праведного разума. Он снова и снова менял дома – блуждал в пустынях и высоких горах без Христа или сатаны в спутниках. Он никогда не оглядывался.