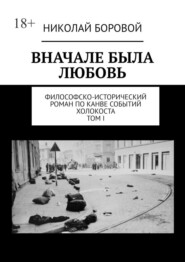скачать книгу бесплатно
ВНАЧАЛЕ БЫЛА ЛЮБОВЬ. Философско-исторический роман по канве событий Холокоста. Том I. Части I-II
Николай Боровой
Он – профессор философии Ягеллонского университета, смутьян и бунтарь, сын великого еврейского раввина, в далекой юности проклятый и изгнанный из дома. Она – вдохновенная и талантливая пианистка, словно сошедшая с живописных полотен красавица, жаждущая настоящей близости и любви. Чудо и тайна их соединения совершаются в ту страшную и судьбоносную ночь, когда окружающий мир начинает сползать в ад…
ВНАЧАЛЕ БЫЛА ЛЮБОВЬ
Философско-исторический роман по канве событий Холокоста. Том I. Части I-II
Николай Боровой
© Николай Боровой, 2021
ISBN 978-5-0055-0703-7 (т. 1)
ISBN 978-5-0055-0704-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ВНАЧАЛЕ БЫЛА ЛЮБОВЬ
Роман в трех томах.
Кракову, с поклоном памяти и любовью.
Автор предполагает, что множество людей самых разных жизней и судеб, гражданств, конфессий и идеологий, узнают в тексте романа, в его сюжете и событиях, в высказанных в нем идеях и опыте себя, и вполне возможно – увидят себя с не слишком лестной стороны… Автор заранее просит этих людей не обижаться на поставленное перед ними, перед их поступками, убеждениями и установками зеркало, а предлагает лучше задуматься о том же, о чем неустанно заставляет думать самого себя – что зеркало показывает…
ТОМ I
Часть первая
ВЕЧНОСТЬ ОДНОГО ДНЯ
Глава первая
Призрак счастья
…В это туманное и немного пасмурное утро 1 сентября 1939 года, у профессора философии Ягеллонского университета Войцеха Житковски, на своем «Мерседесе» неторопливо въезжавшего в со стороны дач в краковское предместье Клепаж, было не просто хорошее или даже отличное настроение. Говоря откровенно – пан профессор был просто счастлив, одновременно по детски и по взрослому; словно бы расстворившись душой и дородным, мощным телом в ощущении счастья и теплоты, покоя и чуть ли ни вселенской гармонии, он никуда не хотел спешить и потому пустил мерно и исправно урчащую машину как мог медленно. Всё радовало его – и довольно густой туман, и не торопившиеся разбегаться под властью вышедшего солнца тучи, неожиданно заволокшие город и окрестности еще вечером, и необычный для первого дня краковской осени, затекающий в приоткрытое окно и чуть пробирающий холодок, и мысли о предстоящем дне, знаменовавшем новый рабочий год. Эти мысли, впрочем, как и подсовываемое памятью указание на назначенную через пару часов торжественную церемонию, где ему предстояло конечно же выступить, а после – заседание ученого совета, наполняли сознание пана профессора как бы лениво и «исподволь», не затрагивая его внимания и переживаний. Целиком коридоры университетских зданий студенты заполнят оживленным, звенящим разговорами, бурлящим эмоциями потоком только через месяц. Однако, по давно сложившейся традиции, сегодня в Университете должны состояться несколько торжественных мероприятий, на которые приглашены и «новобранцы» – новоиспеченные студенты. Для них, «новобранцев» нескольких факультетов, намечены две лекции – преподаватели должны ближе познакомиться с будущими студентами, очертить перед ними предстоящую на академический год работу. Так повелось с давних времен. Ожидает встреча с коллегами, большую часть которых он не видел в летние месяцы. Еще неделя – и нерадивые лентяи из числа старшекурсников потянутся пересдавать «долги», неудачи на предыдущих экзаменах, потихоньку начнет бурлить привычная университетская жизнь с ее рутиной и радостями, творческими событиями и официальными церемониями, дискуссиями и интригами. Однако, мысли и «исподволь» настигающие воспоминания обо всем этом не затрагивали пана профессора и не способны были хоть сколько-нибудь поколебать заполнившее его существо, удивительное и загадочное чувство. Он решительно не желал в это утро ни чем тревожиться и ни о чем беспокоиться, даже в самых дальних мыслях, чтобы не приведи боже не дать расплескаться тому полностью охватившему, расстворившему его в себе ощущению счастья, покоя и гармонии, кажется полного совершенства мгновения, о котором недостижимо мечтал и молился гетевский Фауст – такому редкому чувству для сорокалетнего человека, философа не образованием и профессией, а самой своей сутью, рано обретенной и обильно приправленной жизненными испытаниями трагической мудростью. И даже откровенная банальность события, которое с самых первых мгновений сегодняшнего пробуждения наполнило душу профессора этим чувством счастья, согревавшим его в аккуратно прорезающей туман машине, не побуждала его привычно рефлексировать и иронизировать над собственными переживаниями. Профессор был совершенно счастлив, счастлив чувством покоя и безопасности, расстворенности в мире и мгновении, как бывает счастлив самый обычный человек наверное в любом месте земли. Счастлив самым что ни на есть простым.
Видит бог, которого наверное нет – у пана Войцеха Житковски были причины ощущать себя счастливым этим утром.
Собственно, если перейти сразу к сути, то причина счастья пана профессора Войцеха Житковски была и впрямь очень банальна – минувшей ночью, в уютном, обросшем старым садом и согретом огнем камина домике в районе дач, приобретенном профессором три года назад, как раз при получении почетной степени, его аспирантка Магдалена Збигневска, двадцати восьмилетняя красавица, подарила ему себя. Да-да, именно «подарила», в самом высшем и знаете ли чистом, литературном смысле этого слова – как дарит, со всем чудом истинной страсти и слияния отдает себя любимому мужчине небывало красивая женщина.
Трудно передать сонм чувств и переживаний, которые разгорались в душе пана профессора под разлившимся ощущением счастья и грозили, словно бы предвкушали прорваться, захватить не только его душу, но и ум ближе к обеду, когда ему вновь предстоит увидеть выспавшуюся и приехавшую в университет Магдалену – Магдуш, как он совсем по детски и трогательно шептал ночью, целуя ее, обнимая ее, прижимая ее к себе, иногда чуть не плача…
Однако – еще труднее понять и передать, что означало в жизни пана профессора это событие, обретение настоящей близости с необычайно красивой, молодой, но уже такой зрелой и умом, и духом женщиной, так просто и искренне подарившей ему себя. О, пан профессор Войцех совсем, знаете ли, не «сладострастник», совершенно нет, даже наоборот, в том-то и дело! То событие, которое сделало по настоящему счастливым профессора, умевшего с экстазом рассуждать о платоновских диалогах, увлекать аудиторию загадками кантовской гносеологии, с беспощадной иронией «разбирать по косточкам» новомодные социологические теории, вдохновенно раскрывать перед студентами тончайшие философские смыслы барочных полотен и бетховенских симфоний, в академическом кругу Кракова было как раз-таки вовсе не редкостью. Собственно – заводить романы, и подчас длительные с молодыми аспирантками, было довольно принятым в доцентском и профессорском кругу, даже считалось эдаким правилом «хорошего тона» и поступком, без которого настоящий поляк не может ощущать достойного «шляхетского» прошлого. В этом всё и дело. Громадный ростом, толстоватый сорокалетний добряк пан профессор, со всегда гладко выбритым, по десять раз в день и из-за самых разных причин заливающимся краснотой широким лицом, сочетающий в себе гневливую, зажигающуюся во мгновение и отдающую фанатизмом экспрессию холерика, шквальную, сохранившуюся и до сорока лет энергию сангвиника, глубоко застывшую в выражении глаз, невыдуманную меланхолию человека, знающего о смерти и видящего разумом истинную, зачастую уродливую и трагическую суть вещей, с давних времен, как и полагается истинному философу, совсем не таков, совсем!.. Грехи молодости – да кто же не грешил во времена оные и как мог не попытаться бросить себя в соблазны светской жизни еврейский юноша, отвергнутый родителями и сбежавший из еврейского квартала! – закончились очень быстро. Вместе с горечью разума и духовной зрелости, наступившей в существе будущего профессора Ягеллонского университета совсем рано, даже прежде, чем он в этом университете стал студентом, как-то пропало и упоение теми вещами, которые в таком возрасте не могут не увлекать и не казаться красотой, поэзией и сутью самой жизни, дыханием лучших лет, еще не омраченных бременем ответственности и разума. Однако же, оное бремя настигло Войцеха (урожденного Нахума) неподобающе рано, что сделало его будто старым и по странному отдаленным посреди компании брызжущих жизнью и оптимизмом молодых людей, заставило сменить факультет права на философский и перестать упиваться столь свойственными этому периоду жизни человека побуждениями. Очень молодым, он вдруг раз и навсегда понял, словно бы беспрекословно, неумолимо почувствовал – он не может слиться с женщиной, не испытывая к ней ясного, человеческого чувства любви, а делая так, поступает против самого себя. Вместе с мудростью и трагизмом разума, глубинной печалью зрелого и осознавшего себя духа, в жизнь будущего пана профессора, отвергшего свою общину, отвергнутого и проклятого в ответ ею, яростно боровшегося за признание в академической среде, пришло одиночество. Но вместе с тем – книги. Вдохновение. Творчество. Свою первую книгу пан Войцех Житковски написал в двадцать пять, вскоре закончил и издал вторую. Тридцатилетие ознаменовалось получением докторской степени и написанием книги по философии искусства. В тридцать пять, захваченный не столько идеями Ницше, сколько самими очерченными зловещим кумиром времени горизонтами мысли, он увлекся философией музыки и спустя два года, получив профессорскую степень, выпустил книгу о философском символизме в европейской музыке 19 века – она принесла ему известность в определенных кругах, она же – о судьба! – в конечном итоге привела в его объятия минувшей ночью красавицу Магдалену. Сам Теодор Адорно, баловавшийся сочинением того, что пан Войцех отказывался признавать музыкой, отозвался на его книгу, вступил с ним в полемику по главным для его труда идеям, что конечно не могло не льстить. Одиночество. Оно очень рано увлекло и захватило его, стало залогом его небывалой плодотворности. Говоря по чести – сжившийся и свыкшийся с ним, никогда не тяготившийся им, но всегда ощущавший его нехватку, нашедший в нем не только испытание, но условие, как часто подмечал для себя, настоящей и творческой жизни, пан профессор буквально до последнего времени был уверен, что оно – отпущенная до самого конца, обещающая оказаться непреодолимой судьба. Многие и многие годы он говорил себе – я никогда не любил женщины, никогда не встречал той, с которой мог бы разделить судьбу и свой мир или хотя бы представить подобное, и увы – это была чистая правда. Пан профессор Войцех Житковски знал, что такое желать любить, мечтать то ли о любви, то ли о той дымке совершенной разделенности и слитности с кем-то другим, которую мы часто обозначаем словом «любовь», но не знал, что такое любить женщину. В нем никогда не рождалось решимости со всей внутренней честностью и уверенностью в собственных чувствах, с предельной ясностью и подлинностью таковых сказать какой-нибудь из множества окружавших его женщин «я люблю тебя». Он просто никогда не любил женщины, не знал этого чувства – что же, собственно, тут непонятного? Ведь не воспринимать же всерьез все эти «новомодные» теории, которые он с таким неподражаемым юмором «разбирает по косточкам» на лекциях, зачастую вызывая неудовольствие студентов, норовящих ими увлечься… Нет любви – и нет, что тут поделаешь. Любовь, настоящая любовь – редкий цветок, ее нужно ждать и чаять, но посетит ли она жизнь и судьбу человека или минет стороной, совершится или же нет таинство встречи – жестокая и не подвластная человеку прихоть случая. Соединиться с кем-нибудь без любви и внутренней близости, словно выполняя работу и давно отлаженные, кем-то написанные роли, для дела создания семьи и продолжения рода, как принято в покинутой им в ранней молодости общине предков, опутать себя цепями заботы и необходимости – о, подобное было ему ненавистно, казалось смертью и с самых ранних лет, лишь представляя себе это, он начинал испытывать удушье и ярость, всё это казалось ему механической и бессмысленной жизнью, в которой не оставлено место для него самого, для главного в нем… Все эти «новомодные» властители умов, от Маркса до Фрейда – о, как же плоско и слепо они мыслят человека, существо человека, человеческую душу… как мало на самом деле знают и понимают они, мнящие себя обладателями «научной истины», раз и навсегда верной, как презирают они философскую мудрость прошлого, но сколько истины именно в ней, в ее подчас туманных символах и указаниях, а не в ставших лозунгами «научных теориях»!.. И когда пан профессор рискует утратить популярность у студентов, позволяя себе иронизировать над всеми этими «теориями» на лекциях, он не испытывает колебаний… Кто не думает о детях… но там, где нет любви – ничего нет и быть не должно… И почти до самых сорока лет не встретивший любви, не различивший взглядом и разумом женщины, которая была бы ему по настоящему близка духом или хотя бы такой показалась, пан профессор, громадного роста холостяк, басящий и читающий ставшие легендарными лекции, автор многих, обретших известность трудов, был искренне уверен, что до конца дней ему суждено прожить одиноким. И смирился с этим. Почти. До странного, кажущегося сном или фантазией чуда по имени Магдалена Збигневска.
Одиночество пана профессора, столь не принятое ни в академическом, «богемном» кругу, ни вообще у его сограждан, будь они хоть ортодоксальные евреи, хоть поляки из ревностных католических семей, давно обросло легендой. Вправду – одно дело, если бы речь шла о человеке, невзрачном внешностью и сутью, но тут-то дело другое, совсем другое! Разное поговаривали… о всяком в разное время перешептывались… И «новомодные теории» сделали свое дело, внесли в восприятие массивной и одинокой фигуры пана профессора лепту немалую – какие подчас невероятные, не имеющие отношения к действительности вещи, рассказывались за легендарной же, чуть ли не заслонявшей просвет в университетских коридорах спиной! Но пан профессор был человеком вдохновенным, талантливым и значимым, способный испугать или даже отвратить внешним видом, громоздкой фигурой и напором в общении, как цирковой маг или гипнотизер он заставлял забыть обо всем чуть ли не первыми словами своих лекций и книг, настоящее и подчас трагическое бурление мысли, которым он жил, и напряженная внутренняя работа, оное порождавшая, вовлекали и побуждали всякого слушающего задаваться вопросами и пытаться чем-то из глубины себя отвечать, Университет ценил его, интеллектуальные круги Европы – начинали замечать, и персону пана профессора в конце концов принимали такой, какова она есть: одинокой, странной, экстатически и надрывно вдохновенной, зачастую откровенно цурающейся самых простых житейских вещей и радостей.
Вспоминая по пути к Кракову подробности совершившегося ночью, такого в общем житейски банального, но своей правдой загадочного события, пан Войцех был поражен именно тем, что при всей поэтической страстности произошедшего (ожидаемой от женщины в расцвете лет и красоты, но несколько удивительной для сорокалетнего мужчины, грузного верзилы, в шевелюре которого начинает пробиваться седина), он не испытывал ощущения неискренности произошедшего, какого-то чувства стыда или нравственной нечистоты, нравственного преступления против самого себя, всегда настигавшего его во время, как он говорил, «грехов молодости», так безоговорочно и мощно его от этих грехов отвратившего. Вот-вот – в этом всё и дело: искренность! Простая человеческая, личностная и нравственная искренность. И близость – личностная, нравственная. Лишь ставшая в покрытые мглой и тайной совершающегося, одурманенные прохладой и запахом яблоневого сада мгновения полной и потому – какой-то чудесной, невероятной и дарящей вот то чувство счастья, которое безраздельно правило им. Философ остается философом и в эти мгновения. Он просто слился с человеком, которого узнал и полюбил, обрел – как обретают жизнь, видение истины, ощущение пути. Слово «истина» – не пустой звук для пана профессора, оттого-то и ходят легенды о той ярости, с которой он подчас ведет академические дискуссии о предметах, кажущихся далекими вообще от всяких чувств. И слово «путь» – тоже. Он доказал это в семнадцать, хлопнув дверью старого родительского дома в Казимеже, намертво решив, что будет жить иначе и пойдет иным путем, нежели предписывает ему «святая традиция предков»… Ох, как же нелегко пришлось ему на этом «ином» пути, но всё достигнутое паном профессором говорит, что и сам путь, и решимость на оный не были пустым звуком. И вот, события последнего времени показали, что слово «любовь», так часто произносившееся им в своих мыслительных построениях, но не становившееся реальностью чувства и внутреннего опыта, тоже – не пустой звук для него и не абстракция из философских рассуждений, какой была для Спинозы, да и не только. Пан профессор, туманным утром 1 сентября 1939 года неторопливо въезжавший в краковское предместье Клепаж, просто был заполнен ощущением счастья и удивительного, правдивого чувства любви. Он любил, обрел, по настоящему встретил близкую ему женщину. И был любим. Он был в этом уверен. И его широкое лицо, в привычной жизни как правило служившее полотном, запечатлевающим и бурление мысли, и сонм множества сложных чувств, нынешним утром выражало одно и очень простое, человеческое, подчас кажущееся недоступным – счастье…
Очень многое конечно же делало пана профессора счастливым в течение лет жизни – творчество и вдохновение, радость от воплощения важных и сложных замыслов, накал и серьезность дискуссий, возможность отстоять или по крайней мере хотя бы высказать в них нечто значимое, борьба за подлинные и святые вещи и неожиданный, кажущийся невероятным успех в ней. Да само осознание истины, всегда кажущееся чудом и похожее на вдохновенный, уносящий и грозящий если не сжечь или разорвать, то уж точно целиком поглотить экстаз! Многое, правда. И подчас с исключительной силой. Без творчества человек вообще навряд ли может быть счастлив – власть времени и смерти, застывшая в этом случае в его жизни и глядящая глумливой ухмылкой чуть ли не каждого дня, лишит его права на счастье, истерзает его душу ядом отчаяния и горечи. Пан профессор исповедует эту истину не один год. И знает о ней из опыта кажется с юношеского пушка на щеках. И конечно, счастье дарили свобода и достоинство, уважение настоящих и стоящих внимания людей, жизнь в согласии с совестью и самим собой, особенно – добытые в испытаниях и борьбе, доставшиеся по праву. Однако, еще никогда в его жизни ощущение счастья, чувство покоя и согласия с миром, удовлетворенности мгновением и существующим положением дел и вещей – подобное вообще гостило в его душе необычайно редко, не было настолько всеобъемлющим и пришедшим кажется до скончания времен. И причиной была его Магда – сама по себе похожая на сказочное чудо, до трепета любимая и сегодняшней ночью ставшая с ним одним целым… даст бог – судьбой и жизнью и уже навсегда. Счастье заливало пана профессора и безраздельно царило в нем, ибо он не просто любил и был любим, а нынешней ночью позволил любви торжествовать и править бал, прочно и навсегда, как он надеялся, прийти в его судьбу и занять в ней то место, которое пожелает. Потому что каких-нибудь жалких девять часов назад чудо и таинство любви, неожиданно и почти невероятно, но властно пришедшее в его жизнь с минувшего Рождества, обрело несомненную и полную разделенность, стало слиянием с любимым человеком до конца. В его жизнь и судьбу пришла женщина, близкая и дорогая ему так, что кажется – никаких слов из Мицкевича или Байрона не хватило бы передать это, которой он отныне желал жить даже более, чем его книгами, идеями, творческими порывами и планами и всем прочим, чем в основном был привычен жить до сегодняшнего утра. Счастье было в возможности жить глубокими и вдохновенными мыслями этой женщины, ее поразительным талантом и красотой, казавшейся лишь отблеском ее души и человеческой сути, ее планами и порывами, бурлящими в ней возможностями и силами, да кажется одними только ее ритмичными и уверенными шагами, которыми уже столько месяцев она привычна подниматься по лестнице в его апартаменты на Вольной Площади. И вот – с сегодняшней ночи это счастье становилось реальным и доступным, обещающим воцариться навечно. И перед этим всё как-то само собой отступало на дальний план или вообще исчезало, а мир с его тревогами должен был либо пойти к черту, либо на крайний случай пожелать пану профессору того же, что итак сейчас переполняло его – счастья.
Видит бог, которого скорее всего нет – человек существо несовершенное, и в этом своем сущностном качестве эгоистичное. И внезапно ощутивший то, что казалось недостижимым – счастье и согласие с существующим порядком вещей, пан профессор, хоть и философ, но всё-таки человек, плоть от плоти «сын адамов», искренне почувствовал в его туманном утреннем движении, что весь мир и создан собственно для того, чтобы он был счастлив. Что человек вообще должен быть счастлив. Обязательно должен. И как выясняется – вполне себе может. Удивительно ли, что все эти переживания оставили вне внимания и оценки пана профессора то, что сразу бы привлекло его в любой иной, самый обычный для его жизни день, в любое другое утро, когда вышедший из своей квартиры на Вольной Площади, он неторопливо прошел бы вдоль любимого, сращенного с событиями его жизни и судьбы Собора Св. Катаржины, срезал бы по Страдомской к Вавелю и после, неторопливо же, продумывая предстоящее, зашагал бы вдоль Архиепископской семинарии по аллее к Университету?
В самом деле – вспоминающий объятия и поцелуи Магдалены, ее страсть, изумительную выпуклость ее бедер, которой могли бы позавидовать возрожденческие венеры, палитру чувств на ее точеном, кажущемся скульптурным своей красотой лице, чудо бывшей между ними искренности и вообще всё то удивительное, что произошло минувшей ночью, пан профессор ничего не знал о тех стремительно совершившихся, словно вихрь налетевших как раз в эту ночь событиях, которые в ближайшие две тысячи ночей так страшно изменят облик и судьбу не только его самого и окружающих его людей, но всего мира…
Радио в уютном, утонувшем в старом саду доме, конечно было. И в любое другое утро, перед выездом с дачи в Университет, во время наспех выпитого кофе, пан Войцех конечно же включил бы его и таким образом в 7 утра знал бы тоже самое, что к этому времени знал уже почти каждый поляк. Но конечно – этого не могло произойти в описываемое здесь утро. Выходи пан Войцех в Университет из своей квартиры в доме на Вольной Площади, встреть он соседей, загляни он привычно в кабачок Маковски на Страдомской (чашки прекрасного горячего кофе, купленной там, как раз хватало на треть часа неспешной, задумчивой ходьбы до Университета по аллее) – он так же, как и всякий поляк, узнал бы о страшных вещах, настигших его страну и обещающих в корне изменить весь устоявшийся строй окружающей жизни. Взрывов, отголоски которых долетали до жителей Старого Города и центра, означавших налет немецких штурмовиков на военный аэродром за Вислой, пан профессор и его возлюбленная, уединившиеся в домике посреди заросшего сада в районе дач, конечно же слышать не могли. Обратить внимание пана Войцеха могли бы наверное и некоторая встревоженность на лицах начавших попадаться по въезде в город прохожих, и количество вдруг высыпавших на улицы полицейских, и заметавшиеся в необычном множестве по дорогам машины, но счастье и покой, властно заполнявшие его существо уже почти как добрые два часа, придавать значения подобным вещам и подробностям решительно не хотели. А потому – профессор старейшего Ягеллонского университета Войцех Житковски, вдохновенно призывавший на своих лекциях любить мудрость, без четверти восемь 1 сентября 1939 года, по странному стечению обстоятельств еще не знал того, о чем во весь голос говорил к этому времени наверное уже весь цивилизованный мир…
Глава вторая
Время вышло
Первым обратило внимание пана профессора поведение Ержи – старого привратника, привычно вылетевшего распахнуть решетку и почтительно склонившегося перед его машиной. Всё было как всегда, но движения Ержи были как-то необычно суетливы и сбивчивы, а взгляд, который тот вперил в стекло проезжающего «Мерседеса», был слишком пронзителен и долог – старый привратник словно пытался вступить этим взглядом в диалог с ним, навряд ли могучи даже как следует различить его лицо в сумраке туманного и пасмурного утра. В восемь утра, в первый день осени и рабочего года, университетский двор был конечно же многолюден. В разных местах двора толпились приглашенные на мероприятия студенты, давно не видевшие друг друга преподаватели и сотрудники, привыкшие в этот день набрасываться друг на друга с приветствиями, вопросами и новостями, академический год, во всем его бурлении должный начаться через месяц, в этот день, разгоравшейся университетской суетой, обычно заявлял о своем приближении. В этот день главный университетский двор, как и положено, был даже в особенности многолюден, ибо доценты и профессора всех иных факультетов, из нескольких, разбросанных по центру Кракова зданий, стекались сюда, в здание в неоготическом стиле возле костела Святого Марка, чтобы принять участие в церемонии, открываемой ректором, знаменитым Тадеушем Лер-Сплавински. Всё было как обычно, именно так и показалось пану профессору. Будь он чуть менее полон ощущением своего неожиданного счастья, он быть может различил бы на лицах и в немую протекавших за стеклом разговорах не привычное и радостное оживление, а волнение и напряженность… Кшиштоф Парецки, доцент философского факультета, специалист по античной философии и молодой друг пана Войцеха, с которым они вчера днем расстались, обсуждая эстетику Платона и предстоящее выступление профессора на сегодняшнем торжественном заседании, лишь завидев въехавший профессорский «Мерседес», торопливо прервал разговор, кинулся к машине, приоткрыл дверцу и чуть ли не бросился на товарища, едва тот только успел вытащить из салона грузное, массивное тело. Кшиштоф любит его и искренне восхищается им, почти никогда и ни чуть не стесняясь не скрывает своего восхищения и увлечения, и вот и сейчас – короткое и крепкое рукопожатие, встревоженный, полностью отданный ему и преданный взгляд, и после этого взволнованное и чуть хриплое «пан профессор, Вы знаете, Вы слышали, что Вы думаете?? Неужели правда война???»
Услышав слово «война», профессор Житковски почти что остолбенел и непроизвольно переспросил – «что, что простите?», хотя в первое мгновение ему на самом деле показалось, что он просто ослышался. Слишком уж безумным, абсурдным, каким-то фантастическим и оскорбительно неуместным казалось это слово посреди наполненного счастьем утра, в предвкушении короткого делами, торжественного и обещающего невыразимое счастье видеть Магдалену дня. Какая еще война?!
– То, что происходит с ночи – Вы считаете, что это действительно война или может быть просто провокация, цепь случайностей?
Взгляд профессора и его вопрос к другу – «А что, собственно происходит, Кшиштоф? Я, видите ли, по некоторым причинам не включал с утра радио и ночевал на даче…» объясняют ситуацию – тот ничего не знает о происходящем… Цепкие и пристальные взгляды вместе с поклонами, лишенными привычной почтительной благости, сопровождают обоих на пути до кабинета на втором этаже. Обрывки фраз и разговоров, так же сопровождающие их по пути наверх, гулкие под сводами здания в неоготическом стиле, вырисовываются в сознании пана профессора в ясную картину потрясения, владеющего обычно весьма благодушно настроенной, а в этот день – в особенности и радостно оживленной университетской публикой. Лишь зайдя в кабинет, Кшиштофа словно прорывает – не сдерживая эмоций, тот обрушивается на пана Войцеха шквалом взволнованных вопросов и сбивчивых слов, пытающихся донести другу разрывающие душу молодого поляка переживания. Кажется, что недавно получивший степень доцент философского факультета только его и ждал в надежде как-то разрешить разрывающие ум вопросы.
– Пан профессор, что же это – война?? Нет, скажите – война?
– Кшиштоф, успокойтесь и расскажите мне пожалуйста, в чем собственно дело. Я, видите ли (тут пан профессор несколько потупил взгляд и начал привычно розоветь щеками), этой ночью специально уединился на даче и был очень занят, погружен в работу, и совершенно не понимаю, о чем Вы говорите… О чем все тут переговариваются.
Цепкий и ироничный восприятием доцент Кшиштоф, в любой другой день уже излучал бы глазами и словами шутливость, и не преступая против правил шляхетности, конечно же намекнул бы другу и кумиру, что замечательная причина полнейшего неведения того о событиях ему вполне известна и как никто другой, он рад, что она такова, счастлив событию в судьбе старшего друга. Однако, сегодняшним утром всё это нисколько не затронуло его внимания, он сразу набросился на пана профессора с потоком новостей, чувств, вопросов.
– Да как же! Вы кажется единственный сейчас, кто не знает того, что известно уже всякому поляку, если конечно он не слеп и не глух! – Речь и острый, блестящий взгляд пана доцента полны глубокого волнения – В половине пятого утра немецкий крейсер в порту Данцига открыл огонь по нашей обороне на Вестерплатте. В шесть утра были слышны взрывы со стороны аэродрома за Вислой – точно пока ничего не известно, но говорят, что немцами разбомблено множество наших самолетов. А пан Мигульчек, который, Вы знаете, имеет родственников в горах, возле Закопане – они содержат небольшую гостиницу, в семь утра получил от них звонок, что словацкие войска занимают те деревни и городки, которые в прошлом году стали польскими! Вообще – говорят, что уже несколько часов немецкие войска по всей границе продвигаются и подступают к польским городам!
Всё это надо было понять, как-то суметь вместить в сознание. Сказать, что услышанное стало для пана профессора громом среди ясного неба – значит ничего не сказать. Некоторое время он просто сидит, вперившись в доцента Кшиштофа округлившимся взглядом и словно бы не слышит продолжающих литься рассуждений и слов…
– Что же это пан профессор – война?? Вот то, что мы все так долго в глубине души предчувствовали, вправду началось? Неужели бесноватый ублюдок решился напасть на Польшу?
Пана профессора на какое-то мгновение наконец-то посетило ощущение, что он продолжает спать и всё слышимое ему лишь снится – таким невероятным, фантастическим оно казалось. Он даже, мимолетно усмехнувшись себе, постарался представить, что пан Кшиштоф подговорился со студентами и коллегами и просто пытается его разыграть. Поверить в это было бы утешительно, но увы, беспочвенно – слишком много успели сказать профессору лица в коридорах Университета, да и обрывки долетевших до его ушей разговоров были полны настоящей тревоги и не оставляли сомнений. Да где там – взгляните лишь на взволнованно ходящего от окна к столу пана доцента, на выражение его лица, отброшенную за спину и прижатую рукой в кармане полу его прекрасно сшитого пиджака (подобное происходит с ним лишь в минуты наивысших и напряженных переживаний) – и станет понятно, что предмет его речей и рассуждений более чем серьезен.
– Так что же, пан профессор – осмелился напасть? Решился пойти против союзников Польши, против великих держав? Или просто хочет положить в рукав несколько лишних козырей в споре за Коридор и Померанию? Просто хочет захватить Данциг и побережье? А почему же тогда налет на аэродром в Кракове, отчего словаки решились атаковать южную границу? Зачем продвижение войск вглубь, если нет в этих сведениях ошибки?
Правда – пану Войцеху трудно целостно схватить восприятием и понять услышанное: счастье и покой по прежнему, обволакивая холодком пахучего туманного утра и изумительным ароматом волос Магдалены, вкусом ее губ и страстностью ее только что бывших объятий, безраздельно властвуют в нем. Химера ли счастья захватила его, или же впрямь случилось таинственное обретение кажущейся химеричной и недосягаемой мечты, но так просто отдавать пана профессора, сорокалетнего толстоватого добряка с краснеющим лицом, в руки реалий и под их хлесткие пощечины, ощущение счастья не намерено. Войцех закрывает глаза, морщит лоб и сдвигает брови, трет крепко между ними указательным пальцем – он всегда делает так, когда ему нужно быстро сосредоточиться, собрать воедино мысли и восприятие, привести в «боевую форму» и настроить разум. Еще вчера вечером царил не желающий сдавать позиций осени август, туман аккуратно, бережно укрывал поля под Краковом и розовеющее, медленно садящееся за них солнце, вовсе не казалось зловещим и вопреки обычному не порождало в душе профессора ни острого осознания грядущей и неотвратимой смерти, ни щемящей, рвущей душу тоски от ощущения, что жизнь неумолимо к этой самой смерти проходит. Вчера безраздельно, во всей ее загадочной красоте и искрясь несомненным смыслом, царствовала жизнь, обретшая облик прекрасной, словно сошедшей со старинных портретов польки, которая уже давно слилась с ним душой и мыслями, а в часы ночи, поющей цикадами и дурманящей запахом присогнувшихся от тяжести яблонь, впервые слилась с ним телом. Сегодня же, посреди собственного кабинета в Ягеллонском университете, из окон которого просматриваются стены и шпили костела Святого Марка, пану профессору кажется, что он продолжает спать или злой издевкой проснулся посреди декораций какого-то кинофильма и должен почему-то участвовать в съемках. Однако, в права вступает начавший работать, привыкший быть отлаженным, отточенным инструментом разум – кажется и вправду вокруг совершаются давно предчувствованные, предсказанные, трагические и бесконечно значимые события.
– Кшиштоф, дорогой – пан профессор старается начать мягко – Вы прекрасно знаете и понимаете, что в окружающем нас с Вами мире реальными событиями может стать самое немыслимое и невероятное, в здравом рассуждении и восприятии кажущееся сном или болезненным бредом… Причем может стать как-то незаметно и само собой, словно показывая, что кроме реальности «кэрроловских» кривых зеркал на самом деле ничего никогда и не было, а вменяемость, нормативность вещей вокруг нас – лишь иллюзия, маска, за которой бурлит страшными, древними и безумными страстями настоящее… Мы многократно обсуждали с Вами это… Всё это длится уже почти десятилетие, чем далее – тем более приучая нас к очевидной истине, что у бездны нет дна, а у кажущегося бредовым или невозможным – предела, разве нет? Разве мы могли предположить с Вами шесть лет назад, что в стране, сохранившей и приумножившей прозрения возрожденческого гуманизма, подарившей им стройность категориальных построений и формулировок, обожествившей самый холодный, безжалостно не оставляющий места для сомнений и поливариантных суждений разум, к власти, на пене экстаза и аффектов разогретой толпы, через брутальные инсталляции, придет бесноватый кабачный клоун? Разве нам тогда не показалось это сном, дурной газетной уткой, на которую выйдет незамедлительное опровержение? Разве могли мы через два года примириться с тем, что этот клоун упрочил свою власть над толпой, достиг ее настоящей безраздельности? Нам могло померещиться официальное тожество социал-дарвинистских теорий? Мы могли представить средневековое варварство и ритуальные убийства на улицах Берлина? Сжигание книг под горящие факелы – возле того университета, ректором которого согласился быть Хайдеггер, вы понимаете, Хайдеггер? Тайные тройки-судилища, рубку голов, бой еврейских витрин?!
Мысль пана профессора забурлила, закипела, заискрилась внутри него, и вместе с ней пришла так часто сопровождавшая вдохновенность и жизненность его рассуждений ярость, могучая эмоциональность громоздкого, истового в своих нравственных и философских позициях человека, занимавшего иногда весь проем неоготических университетских дверей (тем трогательнее, умильнее смотрелась на фоне его, напоминавшего польского пана из старинных времен еврея, полька Магдалена, похожая на средневековых королев, стройная как березка над Вислой и часто напоминавшая не влюбленную в университетского профессора аспирантку, а его дочь). Пан Кшиштоф, доцент и друг, бывший студент и аспирант профессора, влюбленный в учителя еще со студенческой скамьи, молчал, цепко глядел в лицо моментально разошедшегося Войцеха любящими и светящимися уважением глазами, внимал лившимся мыслям и вбирал их.
– Масса впала в какой-то гипноз… в безумие… знаете – она иногда кажется вот тем самым стадом свиней из Священного Писания, в которых вселились бесы… ею движут безумие, холодная покорность гладиаторов в готовности умирать и воля ко всеобъемлющему уничтожению – и заметьте, так это совсем не только у них, а почти повсеместно, от встречающих солнце японских вершин до вечно туманных и промозглых берегов Сены! Мы говорили с вами… Безумие нормативно, а норма и вменяемость, способность на позицию критического разума считаются и называются сумасшествием. Человек призван быть со всеми, шагать одним строем, готов к этому безраздельно, а того, который решится демонстративно сложить руки посреди зигующей и восторженно орущей толпы, кого простая человеческая порядочность и остатки здравого, чисто обывательского смысла (о по настоящему высоких материях уж и речи нет!) заставят выразить несогласие, сходу назовут «сумасшедшим», «подонком», «предателем» и «врагом» или чем-то еще в этом роде, знаете ли, и опять-таки – всё это совсем не только у них! Назовите мне не три дюжины, а хотя бы простой десяток значительных и влиятельных людей у них там, кто сохранил трезвость восприятия и способен выразить ее громогласно? Таких уж нет – они либо казнены, либо публично обличены, оплеваны массой и готовятся умирать в концлагерях, либо бежали в Америку или во Францию и глаголят там, где их слова и призывы способны принести наименьшую пользу.
Пан Войцех уже живет льющимся потоком мыслей, давно и глубоко волнующих его, ходит, заложив руки за спину по кабинету, старается формулировать захлестнувшие ум мысли четко, ясно, чеканно, а его массивная фигура заставляет пол и потолок, стены и старую мебель отзываться глухим эхом. Доцент Кшиштоф пристально смотрит, слушает и внимает, вникает в суть произносимого.
– Там, дорогой мой Кшиштоф, где безумие стало социальной нормой, покорность безумцам отождествляется с «патриотизмом», а готовность бестрепетно умирать и убивать на чужбине – с «гражданским долгом», где позиция совести клеймится безнравственностью и «предательством», может случиться что угодно и сюжеты из босховских полотен оказываются реалиями, не мигая и пристально глядящими вам в глаза. Вы знаете, дорогой, что коммунизм, как это со всех точек зрения ни странно, глубоко ненавистен мне и я согласен с теми русскими философами, живущими в Америке и во Франции, которые беспощадно критикуют коммунистическую идею, по справедливости усматривая в ней разновидность тоталитарного мифа и торжество объективистского «мефистофельства»… Вы знаете – коммунизм способен пленить и одурманить самых трезвых… Поди знай, сколько еще пройдет времени, прежде чем раскроется его истинная и уродливая суть и обвинения начнут сыпаться не в отношении к политической практике и «воплотителям» идеи, а к идее самой по себе, к заложенным в ней разрушительным противоречиям. Но не в этом дело. Я скажу Вам нечто обратное – до тех пор, пока руководящие нами бегут от ответственности и реалий, любой ценой желают сберечь капитал и хрупкость с трудом восстановленного, налаженного бюргерского благополучия, случиться может самое неожиданное и немыслимое. Могли бы мы с Вами, после речи Эйнштейна в Лиге Наций, представить себе прошлогодний «мирный договор»? Да что там сам договор! – профессор раздражено и зло махнул рукой и внезапно, резко повернувшись и чуть присогнувшись, уперся в глаза молодого коллеги и спросил – могли мы с Вами представить, что Польша, наша с Вами многострадальная Польша, полтора века кровоточившая под имперским игом и с трудом обретшая независимость, примет участие в этом постыдном, негодном фарсе, в уничтожении независимости соседней славянской страны, точно так же за эту независимость боровшейся? Вы мне сказали про родственников пана Мигульчека и словацкую армию в Закопане… Возможно, вполне возможно… А почему бы собственно и нет?? Разве подобное не было предсказуемо, разве не были бы правы словаки и не стало бы это неотвратимым следствием прошлогоднего негодяйства наших и европейских политиков?! Вы поляк, Кшиштоф, сын своей великой страны, но вы знаете – я будучи евреем, потомком переселенцев 14 века, точно такой же поляк душой, сердцем и умом, а Польша – такая же моя любимая и великая Родина, как и Ваша. Но патриотизм, дорогой мой Кшиштоф – это вовсе не одно лишь желание, как может показаться на первый взгляд и как повсеместно вдалбливают это в сознание толпы, чтобы твоя страна процветала. Патриотизм – это желание, чтобы твоя страна была справедлива и человечна, честна, и в первую очередь сама с собой, в отношении к собственным проступкам и способной овладеть ею лжи! Да, никогда не было никаких сомнений в безумности и безграничности имперских, территориальных притязаний Гитлера, для которых он обязательно нашел бы при необходимости коли не этот, так иной повод! Однако скажите, скажите мне, дорогой – разве мы уже более десяти лет, почти каждым нашим внутри политическим действием не даем этот повод, не усиливаем его, не откидываем саму необходимость таковой искать? Разве наша политика в отношении к населяющим Речь Посполиту народам, будь-то украинцы, мои соплеменники, далеко не столь горячо мной любимые или немцы в Померании, пусть еще не уподобилась гитлеровским мерзостям, но заслуживает всемернейшего осуждения, отдает средневековым варварством и конечно же неприемлема в стране, искренне желающей быть и считать себя цивилизованной? Разве антинемецкие настроения на севере страны не разогреваются продуманного нашими, нашими же собственными полоумками-националистами и «патриотами», мнящими Великую Речь Посполиту от Эльбы до Днепра? Разве не потакают власти республики этим настроениям, не закрывают глаза на действительно имеющие место быть притеснения немецкого населения?! Разве же бесноватый и полоумный подонок – нет, вот скажите же, скажите мне от всей вашей шляхетской чести (доцент Кшиштоф Парецки потомок известного аристократического рода) – извергая на экзальтированную толпу свои речи, не произносит в них известных слов правды и не мелькает в них то, что действительно имеет место и может быть поставлено в некоторой мере в справедливый упрек нам?..
Пан Войцех выпаливает последние, обращенные к молодому другу слова с теми возбужденными и гневными, в иных обстоятельствах чуть комичными от запала интонациями, которые привычны в их частых дискуссиях и для риторики пана профессора, искренне увлекшегося предметом, вообще характерны. Однако, в эти мгновения всё – события, речи и чувства, мысли и залившие душу тревоги – настолько серьезно, что доцент Кшиштоф не отвечает ему, просто продолжает внимательно вбирать и впитывать льющиеся слова, а на губах его не возникает той легкой и полной дружеского тепла улыбки, которая наверняка появилась бы в другой день.
От счастья и покоя, разливавшихся и сладостно застывавших в душе пана профессора какой-то час назад, не осталось тени и следа, даже той дымки утреннего тумана, который сопровождал его машину через поля и по просыпающимся, начинающим суетиться улицам Клепажа и Центрального Кракова. Душа и ум пана профессора бурлили, в мгновение закипели постоянно тлеющими в них переживаниями и рассуждениями, в которых вызовы настоящего и политические события переплетались с трепетом перед загадками живописных и музыкальных образов, критика любимого и яростно популяризируемого им немецкого философа Хайдеггера – с волхвованием о философских идеях русских писателей, любимых и почитаемых им ничуть не менее классиков современной европейской философии и литературы. Доцент Кшиштоф, молодой сотрудник университета и бывший студент пана профессора, кажется оставался его преданным и влюбленным студентом и ныне, готов был бы остаться тем и до конца дней, по крайней мере – полный ласки и обожания, чуть ли не нежности взгляд, вперенный им в профессора, сплавленный с напряжением ума и внимания, говорил именно об этом. О, как же не любимы властями и администрацией, а в последнее время даже опасны мысли, высказываемые сейчас паном профессором! Но пан Войцех остается самим собой, меняются лишь времена вокруг него, и Кшиштоф может подтвердить это с чистым сердцем. Он свидетель и зарождения этих мыслей, и их превращения в глубокие убеждения, отстаиваемые паном профессором со всей истовостью, с яростью древних философов, во имя истины готовых презреть и дружбу, и вообще всё на свете. Он помнит подобные речи перед студентами шесть лет назад. Он помнит страстную, повторяющуюся от повода к поводу попытку профессора Войцеха Житковски убедить молодых и не глупых людей перед ним в том же, в чем некогда пытался убедить русских читателей писатель-аристократ Лев Толстой, отчего и отвергла того русская церковь: существуют те общечеловеческие, или как говорят уже более десяти лет «экзистенциальные» ценности – ценности совести и любви, духа и свободы, которые возвышаются над ценностями «национальными», «социальными», «государственническими» и т.д., над любыми соображениями «патриотизма» и политическими интересами, и безусловность этих ценностей, ценности личности, жизни и свободы, судьбы и достоинства каждого человека, не может и не должна вызывать сомнений, а попытка предпочесть одно другому непременно становится торжеством ницшеанского «ничто», превращает в «ничто» жизнь человека, всё то, собственно, что определяет собой понятие «человечного». Доцент Кшиштоф помнит эти речи четыре года назад, с аспирантской скамьи, и тогда они поражали его еще более – всем была известна история жизни и судьбы пана профессора, «взбунтовавшегося» против религии и традиции предков еврея, на которого община наложила отвержение. Его поражала удивительная свобода и человечность мысли этого человека, способность того стоять в суждениях над самыми разными, подчас властными и трепетными, отдающими «ореолом святости» предрассудками, на каких-то, несоизмеримо более высоких и императивных позициях. Он знал, что для пана профессора над всем стоят истина, чистота и нравственная честность суждений, свобода отдельного человека, те императивы, которые диктует тому «кантовский» закон совести, человеческой и личной совести, и конечно же – справедливость, как императивы совести очерчивали представления о ней. Верность всему этому пан профессор доказывал Кшиштофу из года в год, на его студенческой и аспирантской скамье, а после – как молодому коллеге с блестящими перспективами – и конфликтами с администрацией, и решимостью самым резким образом критиковать политические реалии, ни считаясь ни с чем, и яростным оппонированием общепризнанным авторитетам, и смелостью высказывать и отстаивать воззрения и идеи, непопулярные ни в профессорской, ни в студенческой среде. Что бы и когда ни было – из года в год пан профессор был верен тому, что считал истинным и справедливым, беспощадно критичен и к себе, и к вещам, которые почитал заблуждением, при этом – никогда не стыдился признать собственной неправоты, если оная становилась ему очевидной. За всё это студенты по настоящему любили и уважали «неистового профессора», глубиной и эмоциональной силой рассуждений, искренностью позиции и яростной готовностью ее отстаивать, ни на что не оглядываясь сохранять ей верность, иногда казавшегося им вещающим с университетской кафедры библейским пророком. Не любящие евреев и знающие историю его жизни, не могли не признавать и не ценить его и его фанатичную приверженность правде, сочувствующие же евреям и подчас горько осуждавшие его неприятие родной, уже шесть сотен лет живущей через квартал общины, вместе с тем уважали его за честность суждений и нравственных позиций, не считавшуюся ни с чем, даже с самым близким себе и собственной судьбе, наиболее трепетным. «Истина – вот бог философа и нравственного человека», пан профессор любил повторять это, а еще говорил всегда – истинность для него тех или иных суждений и императивов человек должен подтверждать жизнью, собственной судьбой, его решениями и поступками, ведь и за самой его мыслью стоит драма его неповторимой жизни и судьбы, опыт обретения пути и основ, принятия ключевых решений. Всё в жизни и судьбе пана профессора говорило о том, что эта главная, последняя истина для него нерушима. Он был бескомпромиссен в полемике и выступлениях, решался идти на откровенный и чреватый неприятностями конфликт с вышестоящими, если считал, что это нужно во имя настоящих, справедливых целей. Он настолько цурался какого-либо участия в интригах и дрязгах коллег по цеху, неизменных, как он сам смеялся, со времен талмудических мудрецов и по наши дни, что за глаза иногда назывался ими «юродивым» в том значении этого понятия, которое всегда придавала оному церковь – человеком «блаженным», «не от мира сего». Студенты уважали, любили и ценили его, толпой шли к нему на лекции, каждый раз надеясь чуть ли не на откровение, таинство правдивого вопрошания вещей, живой и вдохновенной, творчески настоящной мысли, обращенной к вещам и честно, со всей истовой жаждой истины, вгрызающейся в их скрытые, но намекающие о себе смыслы. Коллеги могли не любить пана профессора, но признавали за ним его, а учитывая его авторитет у студентов – даже побаивались, оставляя интриги против него на самый последний случай. Собственно – пан профессор Войцех Житковски, урожденный еврейский мальчик Нахум, потомок старой краковской раввинистической семьи, казался жителям университетского здания возле костела Святого Марка настоящим польским паном из легендарных, воспетых нобелевским лауреатом Генриком Сенкевичем времен, гневливым и темпераментным, готовым разрывая себя любить и ненавидеть, не задумываясь обнажить саблю во имя правды и чести. И вот – глядя на профессора чуть ли не с нежностью и внимающий его рассуждениям как пророчеству, пан доцент Кшиштоф Парецки, стройный тридцатилетний красавец и лектор весьма перспективный и не дурной, вдруг снова почувствовал себя двадцати двухлетним студентом, обалдело глядящим на огромного и громогласного профессора, на первой лекции сумевшего завлечь его ум чуть ли не с первых произнесенных слов…
– Однако, дорогой мой Кшиштоф – то, о чем вы сообщаете мне сейчас и про что коллеги говорили в коридоре, если и вправду свершилось, было ожидаемо и предсказуемо вполне… не оставляло в последние годы ни наших речей, ни мыслей… И если в обаянии последних летних дней мы с Вами забыли об этом, то лишь во власти несовершенной человеческой природы и по привычке уподоблять значимость личных переживаний и событий значимости процессов, обуревающих подлунный мир…
Пан профессор замолчал на мгновение… Последние слова он с тоскливой горечью обратил к тому чувству счастья, единения с миром и жизнью, которое быть может впервые в жизни или по крайней мере – за очень многие годы целиком наполнило его, еще чуть больше часа назад властвовало над ним словно римский кесарь, а сейчас не оставило в его душе даже легкой дымки, сменилось тревогой, столь привычным для него трагическим ощущением происходящего, тем вдохновенным творческим напряжением вгрызающейся в окружающие вещи и явления, в самого себя, суть собственных чувств и переживаний мысли, которое – о знающий знает! – подобно безысходной, вечно тлеющей где-то внутри человеческой души муке. Сегодняшней ночью свершилось то, что все годы жизни казалось ему несбыточным, невозможным, загадочным чудом – он слился с по настоящему близким, родным ему духом, любящим его и любимым человеком… С человеком, в отношении к которому он мог со всей внутренней честностью и правдой, с ясностью для себя собственных чувств и готовностью отвечать за них, произнести безмерно банальное, но в своей настоящности безмерно же таинственное – я люблю тебя. Он вдруг, именно сегодняшней, похожей на сон ночью понял, что словно сама жизнь ему важно то, чем в живет в ее душе и мыслях эта величаво красивая, подобная античным богиням, надрывная чувствами, глубоко и цепко рассуждающая женщина… Так глубоко и тонко чувствующая музыку… Такая настоящая в ее опыте, в пережитом ею нравственно, и потому – не в лицемерии любовницы, желающей ослепить избранника и овладеть им, а со всей человеческой правдой и искренностью способная разделить, понять то, чем как целью и опытом, ценностью и последними основами решений и дел, он живет всю его непростую и полную терниями жизнь. Ему важно творчество – и она дышит самым разнообразным, вдохновенным творчеством, обнаружила столь редкую, странную для женщины способность к творчеству мысли и исканий истины, живому и вдохновенному осмыслению вещей, некогда названному «философия». Он с самых ранних лет был движим стремлением бороться со смертью, противостоять смерти жертвой и подвигом творчества, глубиной написанных книг, искренне ищущей истину мыслью, правдой решений, ни считающихся ни с чем, готовых отбросить и мучительные, подчас трагические вызовы повседневности, и ее соблазны… тем правом на память, которое дарует настоящность, правда творчески сделанного человеком. И вот – он встретил женщину, которая решилась признаться ему, что иногда сворачивается калачиком от ужаса и слез при мысли о смерти, не знает, что делать с этим, неотвратимо и безжалостно грядущим, неумолимым как судьба… Она, эта словно сошедшая с полотен Ренессанса красавица, имеющая все надежды на богатого супруга и счастливую судьбу любимой и почитаемой жены, матери многодетного семейства, оказалось – обладает той же страдающей, честной, мятущейся и томящейся в химерах повседневного душой, что и он и не смутно, а почти совсем осознанно стремится к одному с ним… готова разделить уродство и мистерию его длившегося до сорока лет одиночества, способного отпугнуть любую другую… войти в его судьбу, полную мучений и поисков, конфликтов и терзаний, зная наверняка, что как и для нее, истина и таинственное вдохновение творчества неизменно будут стоять для него над всем и никогда, ни с возрастом, ни под ударами судьбы, ни под властью любви к ней, не будут вытеснены привычным упоением семейной жизнью, радостями быта и простого отцовства… Всё это было чувством какого-то «потустороннего», невероятного счастья еще час, чуть более часа назад… Но сейчас, вспомнив в мыслях образ сладостно, счастливо потянувшейся Магдалены, ее полные любви, тепла и тяги глаза, он представил не лишь еще недавние мечты о счастье, а предстоящие их любви, неизбежные в заявляющих себя событиях испытания… А может быть и вправду – «потустороннее» оно, это счастье, «не земное», не имеющее права стать реальностью и длящейся во времени судьбой человека? Может и возможно оно как одно только хрупкое мгновение, когда безумие и слепота уверяют человека, что мечта и иллюзия стали реальностью и уже никогда более не покинут его?.. Образ возлюбленной, всплывший в мыслях профессора, вызвал не прилив тепла и трепет воспоминаний о совсем недавнем, не жажду обнять и расцеловать Магду, не чувство тяжести ног и удушья от невозможности перенестись к ней через десяток километров над предместьями Кракова, а горечь, тревогу, боль.
– Однако, Кшиштоф, дорогой друг мой, выводы делать еще рано, мы мало знаем… боюсь, события не заставят себя ждать, но несколько часов или быть может дней у нас еще есть и давайте же тешить себя если не иллюзиями, то хотя бы надеждой, искренней надеждой, что мы с Вами переусердствовали в рассуждениях и обобщениях и на этот раз трагические испытания минут и нас с Вами, и наш прекрасный Краков и Родину… Однако – не должно ли нам с Вами подняться в приемную ректора и выяснить, что же будет с торжественным заседанием, назначенным на одиннадцать, и двумя лекциями после, на которых должно было состояться наше знакомство со студентами?
Глава третья
Сомнения и мысли
В ту самую минуту, когда профессор Войцех Житковски предложил своему другу, молодому доценту Парецки, прервать длившееся полчаса уединение и начать узнавать, что собственно происходит, останется ли намеченный на сегодняшний день порядок событий прежним или же грядут известные изменения, в коридоре раздались звуки радио. Кому-то пришло наконец в голову включить радио в гулких коридорах университетского здания, и возле подвешенных у самого потолка репродукторов столпились студенты, высыпавшие из своих кабинетов преподаватели, почетные гости, приехавшие на планируемую церемонию. Специальный выпуск девятичасовых новостей призван был прояснить вопросы, не сходившие с уст университетского люда, да и всякого люда по всей стране по меньшей мере уже два часа. Знакомый любому уху мягкий теноровый говор Юзефа Малгожевского, с которым граждане Польши привыкли встречать чуть ли не каждый следующий день жизни, лил из горловин репродукторов слова, которые трудно было понять, казавшиеся невероятными, словно тяжкими камнями падавшие на ум, восприятие, слух. «Граждане Польши! Сегодня, в пять часов сорок минут, немецкие войска перешли польскую границу, зафиксирован факт немецкой агрессии против Польши, были обстреляны многие города. Однако – до последнего теплилась надежда, что речь идет о пограничном конфликте, о провокации властей нацистской Германии в их вечных наветах и территориальных претензиях к Польской Республике. Увы – развитие событий не оставило надежд. Захвачен Гданьск, чудом, благодаря героизму польских солдат и офицеров, немецким частям не удалось захватить Тчев. Взорваны мосты у Тчева, Одеберга и Ольжи. Соединения немецких войск заняли позиции у Цешина и Яблоньки, немецкие ВВС обстреливают польские военные аэродромы. Словацкие части, в соединении с немецкими альпийскими бригадами, сумели к этому часу захватить Закопане, Кросно и Санок. Всё-таки война! С сегодняшнего дня все задания и проблемы отходят на второй план. Вся наша общественная и частная жизнь переходит на новый этап – этап войны. Все усилия нации должны идти в одном направлении. Мы все – солдаты. Надо думать только об одном – борьбе до победного конца».
Кого не потрясли, не ранили, не заставили почувствовать наворачивающиеся на глаза слезы эти слова? От университетских коридоров до улиц городов, от ресторанов и магазинов до больничных палат – люди внимали им, вбирали в себя их трагический, страшный смысл, до конца всё же не понимая, что случилось, что на самом деле значит случившееся, какую долгую и страшную цепь событий, навсегда изменящих облик мира и перережущих линию человеческой истории на «до» и «после», оно влечет за собой… Чего не было в человеческих сердцах в эти и последующие мгновения, при звуках этих слов? Страх и невольно захлестнувшая паника, интуитивное предчувствие немыслимых бед? Боль, возмущение? Ярость, чувство гордости за свою несчастную, многострадальную, перенесшую неисчислимые и кровавые испытания Родину, у которой вновь пытаются отобрать независимость и достоинство, землю, само право на жизнь? Потрясенные, придавленные грузом и смыслов этих слов, по всей стране польской, в домах и квартирах, в учреждениях и на улицах, люди стояли возле радиоприемников и репродукторов, силились уяснить происходящее, зачастую не находили в себе решимости двигаться далее… Стояли, обменивались мнениями, заливались слезами или гневно-возмущенными, преисполненными настоящего, а не «квасного» патриотизма возгласами, после шли продолжать намеченные дела, заботиться и трудиться, и совершалось необходимое и намеченное, но в течение этих первых часов начавшейся войны, пожалуй всем до глубины стало понятно, что жизнь и мир уже никогда не будут прежними и никогда более не течь жизни по старому, еще отдающему благородством и моралью былых времен порядку, а грядет неведомое, трагическое, страшное… и что – поди еще узнай…
Так же и в Ягеллонском университете, одном из старейших в Европе, потрясенные новостями преподаватели и студенты долго не могли разойтись, отойти от репродукторов, оставить коридоры и закоулки, балюстрады и галереи, прервать полившиеся разговоры и унять бурлящие в них эмоции и мысли. Да и как иначе! Ведь сразу разрушился намеченный порядок дел и мероприятий и состоится ли намеченное через полтора часа торжественное заседание, будут ли после лекции, как сложится, да и начнется ли вообще грядущий академический год, как всё это будет согласовано с объявленной уже общевойсковой мобилизацией, было непонятно. Решить всё это, в самое ближайшее время и шаг за шагом, должен был ректорат, преподавателям и студентам же оставалось лишь одно – оставаться в здании Университета, ждать и говорить, говорить и говорить, выплескивать друг на друга вскипевшие мысли, предположения, чувства. Доцент Кшиштоф Парецки исчез в галереях второго этажа, увлеченный группой студентов, и у пана профессора возникла возможность хоть на несколько минут остаться в одиночестве в собственном кабинете. Со стен кабинета на него глядели лица заблудшего безумца Декарта, скептика Канта, высокомерного слепца Гегеля… Возле второго, выходившего во внутренний двор окна, висел портрет Томаса Мора – английского Сократа, великого человека и гуманиста, решившегося принять смерть, лишь бы не изменить истине и совести… Ученые мужи, мудрецы разных эпох, портреты которых писались с натуры или рождались фантазией живописцев, глядели на грузного пана профессора и изрядно злили его… Они тоже, конечно, видали виды… Знаменитое «всё свое ношу с собой»… Чуть ли не каждый норовит безо всякого смысла, ради словца красного повторять это латинское изречение, но редкий знает его истинное происхождение, настоящие и трагические обстоятельства, согласно легенде его породившие. Обрамляющая его античная легенда многие века бытовала из уст в уста и всякий раз звучала иначе. Кому-то оно известно из Цицерона, который упрощает рассказанной легендой его смысл, но пан профессор всегда обращался к интерпретации Сенеки, считал ее наиболее глубокой и интересной. Когда один из эллинистических тиранов захватывал город, в котором жил философ-киник Зенон-младший, осада была кровавой и страшной, и у философа погибла семья, все дети и жена, а дом его был сожжен. Прослышав о том, что в павшем городе живет знаменитый философ-мудрец Зенон, только что в буквальном смысле потерявший всё, что у него было, тиран приказал сохранить ему жизнь и привести его к себе. Желая поиздеваться над Зеноном и его философией, увидеть гордеца-«киника» сломленным и поверженным, тот сказал ему, что знает о настигшем его горе и любезно осведомился, не нужно ли ему что-нибудь, возможно ли как-то компенсировать ему утраты? Тут и родилось по словам Сенеки знаменитое «всё свое ношу с собой». Говоря иначе, кумир римского философа Сенеки откровенно бросал вызов в лицо воителю, указывал тому, что нет никаких его связей с внешним миром, дергая за которые возможно было бы сломить и подчинить его, заставить его испытать страдание и страх, что во внешнем мире нет никаких, пусть даже самых человеческих, неотделимых от жизни и судьбы человека привязанностей, рабом бы которых он был. Отказаться от всего, пусть самого человеческого и трепетного, уйти в отрешенность и внутренний холод для того, чтобы выжить в страшном, отданном во власть случая и чьей-то прихоти, лишенном всякой надежности и прочности обстоятельств мире, в котором каждый день, каждый вздох и глоток воды могут стать последними, такой страшной ценой защитить себя от страданий, сделать себя несломимым в возможных испытаниях. Такова была их мудрость, таковы были предстоящий им мир и бросаемые этим миром вызовы. К этому – внутренней стойкости перед лицом мира, несломимости в трагических испытаниях, свободе от унижения, боли и страха, искала пути философская мысль в те времена, такие задачи она решала. Смешно, но в середине двадцатого века ей предстоит решать те же задачи, ибо такой же страшный своей неустойчивостью и хаотичностью мир предстоит человеку, те же вызовы он бросает и на те же испытания человек в нем обречен. Благоденствие летнего вечера и счастье любви, осенним утром становится событиями нагрянувшей войны. Вчера планировавший упиться счастьем, отдаться любви, творчеству и вдохновению, назавтра быть может утратит простое человеческое право на достоинство и жизнь… но не всегда ли так? Не всегда ли ситуация такова, не она ли таится под покровом повседневного благополучия, за лицемерными масками налаженного уклада жизни и кажущегося прочерченным, устремленным в даль надежд и свершений пути? Не всегда ли смерть, судьба и случай властвуют человеком и способны превратить в свернувшийся от отчаяния и страха комок, в прах и «ничто» того, кто еще вчера строил планы и верил в жизнь и будущее? Всё так – всегда, просто это положение вещей редко обнажается и выходит наружу… И когда такое случается, мы, утло жаждущие спастись в иллюзиях от судьбы и неотвратимого, отворачиваемся от того, кого настигло и неспроста, конечно же, настигло несчастье, кто своим крушением безжалостно указывает на то, что неумолимо ожидает нас самих… Философ Зенон в один момент потерял почти всё, должен был быть убит горем и сломлен, но вот же – восхищается в «Нравственных письмах» Сенека – стоя перед лицом воителя и тирана, он спокойно и с достоинством произносит «всё свое ношу с собой». Этот ответ означал – во внешнем мире для меня нет никаких привязанностей, утрата которых могла бы сломить меня, стать для меня катастрофой, ничего по настоящему ценного. В иных модификациях этой античной легенды, которые предпочитал к примеру Цицерон, речь шла лишь об утрате имущества, то есть просто о довольно известной идее, характерной для учения киников мудрости пренебрежения «ценностями мира», химерическими ценностями обыденного, призванном сделать человека стойким в подстерегающих испытаниях. Сенека же, в его варианте легенды, придает изречению и мысли куда более трагический и радикальный, близкий ему самому, царедворцу Нерона смысл – ни к чему, пусть даже к самому дорогому, не привязывайся по настоящему и глубоко, чтобы не отдать себя во власть судьбы и случая, а утраты и удары судьбы не смогли сломить тебя… Таков был найденный ими ответ на вызовы лишенного всякой прочности, каждое мгновение грозящего испытаниями и катастрофами мира… О, как он ненавидел Сенеку и Зенона, эту легендарную «мудрость»! Внутренне умереть, остынуть и охладеть для того, чтобы смочь выжить, выстоять, чтобы влачить лишенную всякого смысла, любви к чему-то значимому жизнь. Нужна ли жизнь в которой у человека не осталось привязанности к истине или женщине, старым родителям или детям, в которой ему уже ни что не нужно, кроме как провлачить еще и еще одно пустое мгновение, рано или поздно всё равно обреченное оборваться в бездну? А что же делать тому, кто не способен умереть заживо, полон стремлений и любви, нравственной жизни и привязанностей, и потому – обречен страдать? О, ему и судьба – страдать, будто античному Прометею, приносить себя в жертву на алтаре вдохновения и порывов, истины и ценностей, императивов совести и побуждений любви, сжечь себя в любви и страдании, держаться, сколько хватит мужества и сил и в этом – быть человеком. Да разве уже не сломлен тот, кто во имя права жить и не страдать способен отказаться от ценностей и привязанностей, от близких и дорогих людей, предать их этим? Есть жалкая, костлявая мудрость отдающего смертью души и духа покоя. Есть трагическая, полная страдания и обрекающая на него мудрость жизни, мудрость борющегося за смысл и вечность, любовь и свершения, творчество и чистоту совести человеческого духа, остальное – дело выбора…
Мысли пана профессора мелькают, превращаются в вихрь, в бурный поток… Монтень… тот счел должным взять в руки оружие, подпоясаться поясом с пистолетами и надеть на себя кирасу. Мудрость и истина, императивы нравственного закона, о которых языком выверенных понятий заговорит через полтора века Кант, должны быть подтверждены жизнью и делом… А сам Кант – мерно прошагавший свою болезненную и долгую жизнь по улицам Кенигсберга, от университета к дому, никогда не покидавший пределов родного города, он умудрился пережить войны и революции, мыслить о наполнявших его время событиях и процессах, оказавшись в них не замешанным, оставшись от них в стороне… возможно – это последняя истина и мудрость? Но чего же тогда стоят все истины и убеждения, все не оставляющие места для бегства императивы? Постигать и прояснять их мыслью – увлекательно, верно, ну а как до того, чтобы жить тем, что императивно и безоговорочно?.. Самый уравновешенный и блеклый жизнью из всех философов, и тот говорил, что нравственная добротность жизни – условие всякого философствования… а не потому ли мы и находим у него больше вопросов и дилемм, нежели мужественной, состоявшейся попытки дать на них ответ? Не связана ли неразрывно мысль с жизнью и судьбой человека, не должна ли быть связана, если настоящна? Не призвана ли стоять за движениями мысли и познания именно жизнь человека с ее болью и трагедией, коллизиями и перипетиями, с поднимавшимися в ней перед человеком дилеммами, с принимавшимися в ней решениями, с владевшими человеком и направлявшими его путь исканиями? Пан Войцех снова бросает взгляд на портреты великих. Разум… Разум был их богом… не тот разум, которым человек живет, углубляется в совесть и глядит в ужас смерти, ад и трагическую муку жизни, загадки и мрак мира, посреди которого неповторимо, единожды и навечно совершаются его судьба и жизнь… в конечном итоге – служит человеку единственной опорой в решениях и выборе, разрешении вечных дилемм его судьбы, познании и строительстве себя… О нет, их богом был холодный, формальный разум, для которого смерть и жизнь, мир и сам человек есть лишь абстракция… не ведающий мук и слез человека, ставящих человека на грань бездны дилемм… подчас удивляющийся самой возможности, что жизнь и действительность есть нечто отличное от того, чем он оные мыслит! Этот разум зачастую и был для них единственной действительностью – о подлинной же, обрекающей на муки и пронизанной противоречиями, бросающей гибельные вызовы и окунающей в ужас ее неизбывной загадки, в которой предстоит жить, принимать решения и умирать, они бывало и знать ничего не желали! Парадоксами вот этого, словно не ведающего о жизни и подлинном мире разума, они стремились подменить те настоящие дилеммы, страшные и трагические вызовы, которыми тысячелетиями мучится философская мысль… Им, этим дилеммам и вызовам, не дано иссякнуть, ибо перед ними стоит не чистый и холодный разум, а сам человек в неповторимости его жизни и судьбы, его «пробуждения» и опыта, в его решениях и выборе. А ты попробуй живи разумом – настоящим, который обнажает подлинное, страшное и трагическое, окутанное мраком вечной неизвестности лицо жизни и мира… Ты решись идти за этим разумом, принять бремя налагаемых им нравственных обязательств, сумей жить и идти с «открытыми глазами», как не страшило и не мучило бы то, что глазам предстает… Гегель… безумный слепец, утонувший в собственных иллюзиях лицемер… Тот не цурался взлезть на коня да проехаться в свите императора по полю только что завершенного боя, между еще дышащих испариной трупов – узреть в воителе и тиране живое воплощение омрачивших его ум химер было важнее всего… Жизнь и смерть, свобода и истина, бог и «ничто» – всё это и многое иное было для него лишь движением логической формулы, ее играми. Спасибо ему – на веки вечные, чтобы там не выдумывали Ясперс с Гассетом, он указал тупик, путь, по которому более невозможно идти, сам ниспроверг в прах то, что отстаивал всю жизнь. После его примера начали мыслить иначе. После него, высокомерно и в безумной слепоте мнившего, что на нем философия должна закончиться, ибо ведущая к «объективной» истине метода раз и навсегда найдена, философия только и начала по настоящему расцветать, словно бы возродилась и воспрянула, пришла быть может к самым великим свершениям и обозначила впереди еще большие. Философ и власть… со времен Платона и Сократа эта дилемма хрестоматийна… А вот же – даже Хайдеггер, великий Хайдеггер ослеп, пусть ненадолго, но поддался безумию толпы, утратил способность различать и воспринимать очевидное… Где его голос сейчас, где его великий и «бодрствующий» разум, где его, им же самим воспетая личность и совесть? Страх… мыслить о смерти и умирать, быть свободным и мыслить о свободе, углубляться мыслью в совесть и следовать ей – вещи разные, хоть и глубоко связанные… Вдохновенно, прозренно рассуждать о свободе возможно только тогда, когда свобода – опыт и ценность, подтверждаемые самой жизнью, поступками, решениями и испытаниями… Какой соблазн писать труды о дилемме свободы в романах Достоевского, о свободе в философии Канта! А ты попробуй мысли о своей свободе… О той свободе, которая обязывает тебя самого к чему-то, требует от тебя, побуждает тебя принимать решения, вступать в конфликт, рисковать жизнью и судьбой… которую должно отстоять, выбороть как главную ценность и само условие жизни! Ты попробуй будь свободным, завоюй право на свободу, решись возложить на себя бремя ответственности, которое есть суть свободы… Сумей заплатить за это то, что должно… Ну, а он сам-то?… Он – как? В его сорок, в этот день, 1 сентября 1939 года, ему не в чем серьезно упрекнуть себя, ему случалось бороться за право на истину, за свободу и собственный путь, за нравственную цельность и добротность жизни… Чем он платил за это, что пережил в этой борьбе? Риск… мытарства и бездомность, изменявшие на 180 градусов жизнь решения, одиночество во всем этом и возможность полагаться только на собственные силы, на внутреннюю правду побуждений, ценностей, императивов… Отверженность кажется с любых возможных сторон, становившаяся нищенством, адом погруженности в быт, угрожавшая превратиться в гибель, катастрофу судьбы и всех возможностей… Всё это он пережил, прошел… На всё это он сам себя обрек как раз во имя пресловутого права на истину и совесть, свободу и мышление, без которого нельзя быть собой и ни что – ни преуспевание и богатство, ни благополучие и нега налаженного быта, обустроенной судьбы и карьеры, ни жизнь с ее радостями – не может иметь смысла… Вопрос о смысле не даром стоит из самых истоков философии, стоит и до сих пор, как будто никогда и ни кем ранее не поднимался, со всей своей трагической новизной, означающей ответственность человека за жизнь и самого себя… Во истину, прав русский писатель, аристократ и философ Лев Толстой – этот вопрос есть главный вопрос, последний и изначальный. О, лишь он, он один знает, каким трудом далась ему первая книга, потом вторая… в каких мучительных усилиях они рождались и какой адской ценой достались ему средства на их публикацию… И насколько тяжело ему было вернуться в «альма матер», в родной Ягеллонский университет после того, как он сам же демонстративно покинул тот, отказавшись от соискания докторской степени и не желая мириться с философией, у которой есть своя, академическая, освященная пылью веков и университетских стен полиция и жандармерия… С философией, у которой нет решимости быть собой, через неизвестность и тернии вести к истине, свободе и таинству сопричастности смыслам мира, которая, будучи закованной в длинные цепи университетских коридоров, чаще всего способна быть лишь трусливой «прислужницей» – то теологии с ее кострами, то науки с химерами «объективных» и «неоспоримых» истин. Он, пан Войцех Житковски, урожденный еврейский мальчик Нахум, сын и внук великих раввинов, автор книг и профессор Ягеллонского университета, имел и имеет ценности, в этой жизни боролся и платил за них сполна, это чистая правда. Он никогда не глядел в лицо смерти – правда и это. Настоящей смерти. Не той, которая окатывает ужасом в мыслях, маяча как судьба и неотвратимость, а которая вот – угрожает настигнуть уже здесь и сейчас, глядит и дышит тебе в лицо, посреди самых привычных обстоятельств. Он не знал прямой угрозы жизни. В лицо ему никогда не смотрело дуло наставленной винтовки. Его руки никогда не были скованы кандалами. В прошлую войну он не был на фронте. Когда она только началась – он был пятнадцатилетним юношей, не подлежащим призыву. Призвать его могли позже, по поступлению в Университет, и он был готов к этому и не искал возможности уклониться. Однако – помощь пришла сама собой и он, смалодушничав, принял ее. Великий раввин Мордехай Розенфельд, «гаон» поколения, проклявший и выгнавший его из дома отец, который произнес ему перед лицом общины «херем», узнал окольными путями о том, что сына-«первенца» собираются призвать. Отец видел в нем конечно же корпящего над талмудическими текстами раввина и возненавидел его так, как только еврейский отец-ортодокс способен ненавидеть сына-отступника, предавшего «путь отцов» и собственные, Мордехая Розенфельда, великого «гаона» и кумира еврейских душ и умов, отцовские надежды… Он тоже чувствовал не раз, что ненавидит отца, как ненавидел и отвергал от всего сердца олицетворенное тем – многотысячелетнюю веру с ее правилами и полным стиранием личности человека, покорно и словно в дурном сне несущую на себе эту веру, косную общину… Один бог знает, не из нее ли Гитлер со Сталиным почерпнули идею «расстворить» человека, его совесть и способность решать в довлении безликой, одноцветной, раболепно покорной авторитетам и правилам массы. И не она ли, многие века назад, составила вечный символ и отточенную, совершенную модель пресловутого тоталитарного общества, о котором сейчас так принято писать и мыслить, ибо реалии таких обществ со всех сторон обступают островки свободы и цивилизации… Но мысль о том, что его «первенец», рода храмовых священников, может погибнуть на рогатках или задушенный газом среди вонючих «гоев», будет брошен рядом с ними в какую-то, ставшую братской могилой выгребную яму без того, чтобы пять благочестивых евреев, как положено и велит Закон, прочли по нему «кадиш», сделала свое дело… Пусть не из остатков памяти об изгнанном сыне, но из заботы о чести семьи и рода, великий раввин и «гаон» поколения похлопотал, задергал за самые важные связи общины, и юношу Войцеха Житковски (Нахум Розенфельд уже к тому времени и по собственному желанию сменил имя и фамилию), освободили от воинской повинности, а ему самому окольными путями поспешили передать, что возле отцовского порога, несмотря на последнюю оказанную милость, ему до конца дней искать и делать нечего. Это был его грех, и он оного не стесняется. Как вообще ничего не стесняется и не скрывает. Но смерти он не видел, в лицо ему она никогда не дышала. Война и впрямь кажется разверзлась, настигла Польшу, и один лишь бог знает, на что способны бесноватый безумец и экзальтированно салютующая ему миллионная толпа, что может произойти в самые ближайшие дни, еще вчера казавшиеся безоблачными и не предвещавшие ничего, кроме увлекательной работы и наконец-то, чудом обретенного личного счастья. Как ни пытается он сейчас, в собственном кабинете и под портретами классиков философии, мыслить оптимистично и взвешено, в глубине души он понимает, что события сегодняшнего утра, нагрянувшие словно гром, холодный душ или морская буря, очень серьезны и быстро не разрешатся, лишь начинают собой длинную и страшную цепь неотвратимого… И даже он сам не знает, что он сможет, а чего нет, если ему в лицо нацелят дуло винтовки… Сможет ли он сам взять в руки оружие, будет ли готов умереть и убить, защищая свою страну, собственный дом и родной город, сросшийся с его судьбой и ставший ее телом старый Университет? Любимую, ставшую сегодня его Магдалену… родителей – своих, не желающих его знать, и ее, принявших его в доме радушно и уважительно? Пану Войцеху сорок лет, он зрелый, проживший более половины жизни, решавший и видавший виды человек, у которого есть все основания уважать себя… попросту нет оснований и причин не уважать. Однако, дуло в лицо – это дуло в лицо, рвущиеся бомбы и падающие под ними дома умеют убеждать, а липкий страх перед смертью может сделать покорным и по детски слабым, и поди знай, на что оказывается способен человек перед угрозой немедленной смерти или мучительной пытки, на что его хватит или нет… А что вместе с толпой, ослепленной лающим бесноватым ублюдком, придут муки, пытки и смерть – да так, как еще никогда не бывало и не знал мир, как дают почувствовать это те дышащие адом и пляской «ничто» идеи, которые поющая и кричащая горласто толпа несет над собой в качестве лозунгов, пан профессор ни сомневается ни на йоту… Прошлая война была торжеством циничных и ловких манипуляций, безумия и отчаяния людей, для которых более не было бога, а была лишь окатывающая ужасом, застилающая весь мир, безраздельно властвующая неотвратимость смерти… Смерти, от которой не уйти и не спастись, которую не отменить и не обороть как судьбу… Та война была безумием и «бунтом» людей, обреченных перед лицом смерти на бессилие, лишенных в ее грядущем воцарении всяких надежд, еще не осознанно, но могуче возненавидевших абсурдную жизнь, в которой дано лишь временить перед адом и ужасом смерти, ее неотвратимостью… Ставших потому готовыми умирать и убивать во имя пустоты, чудовищных химер, власть которых над ними равнялась мере воцарившейся в их сердцах и душах ненависти к абсурдной жизни… Окончание ее пришлось как раз на опыт духовного взросления и становления пана профессора, тогда еще просто еврейского юноши и сына великого раввина, носящего другое имя – неизменно трагический и пронизанный противоречиями. И в борениях свободы, во всплеске самостоятельной мысли и самопознания, формируясь как философ да и просто – во власти главных настроений времени, он много и глубоко думал о сути произошедшего и сотрясшего мир. С терзаниями и вдохновением, въедливой дотошностью мысли, требующей истины и во всем, ее волнующем, стремящейся дойти до сути, прийти к ясности и глубине осознания, постигал пережитую миром трагедию, которая без сомнения таила в себе что-то очень важное и быть может – в отношении к человеку, его миру и бытию последнее. Эти поиски и далее пролегли в философский и человеческий, личностный путь пана профессора, срослись со становлением его самостоятельного понимания вещей, с экстазом и вдохновением мышления, которым он жил, познания им себя. Опыт – осознания и обретения себя, свободы и пронизанной драмой свободы, разума и личности жизни, постижения самого себя до глубины, безжалостности и словно бы последней ясности, служил его мысли основой и маяком, пролагал ей путь в попытке осмыслить явления глобальные. И чем более он постигал окружающий его мир, опыт и самого себя, залазил мыслью в последние вопросы бытия и судьбы, как таковой сути человека, тем яснее понимал – пережитое было неотвратимо и лишь обнажало страшные, но ни чуть не осознанные и не разрешенные противоречия в мире «прогресса» и «объективных истин», которые продолжали вести к бездне и превращали оный в ад абсурда, торжествующего нигилизма и последней, словно до пыли низложенности и обесцененности человека… Та война была впервые прорвавшимся шабашем «ничто», указавшим на бездну, в которую катится под лозунгами «прогресса» мир… Она была дьявольским танцем мира, в котором человек стал «ничем», был помыслен как «ничто»… захлестнувшей миллионы людей волной отрицания и пустоты… Пропаганда – великая вещь и великая власть: горбоносая собака Геббельс конечно же прав, еще как прав! Но никакая власть пропаганды, никакие прокламации и манипуляции не смогут так ополоумить, ослепить миллионы обычных людей, сделать их покорными в смерти, готовыми бестрепетно бросаться в бездну всеохватывающего уничтожения, во имя химер и лозунгов превращать себя в пушечное мясо, умирать и убивать среди борющихся, ревущих, плюющих огнем машин, если прежде и до самых основ над ними не обрели власть отрицание и пустота… если жизнь не утратила для них последнего смысла и хоть какой-то ценности, не стала «ничем»… Разве же что-то изменилось к лучшему с тех пор, хоть на йоту? Разве растаяло как туман то, что делало для человека дар жизни «ничем», превращало его жизнь и судьбу в мире в ад голого абсурда, порождало в нем «бунт», безграничность ненависти к жизни, торжество отрицания? О нет, конечно же нет – стало лишь хуже, пан профессор мучительно видит это, многие годы видит!.. Еще более бессмысленна жизнь человека, превращенного в часть заводского конвейера, в винтик прогресса… Еще большее отчаяние человека таится под покровом привычной и налаженной жизни… И еще более властная ненависть к жизни движет им и готова прорваться, так часто читается в его опустошенном, кажется ко всему безразличном взгляде… И конечно же – эти глубинные, страшные и словно «потусторонние» силы, торжествующие в человеке уже безраздельно, делают его еще более готовым отдаться власти тоталитарных мифов, ввергаться в кровавые авантюры, покоряться воле сумасшедших… Всё это пан профессор понял для себя давно. И писал об этом, хоть и недостаточно, как теперь чувствует и корит себя. Но понимал он и другое – тогда, в ту войну, которая начиналась с патриотической пеной у рта, на каком бы языке рот не говорил, в опьянении «героизма и энтузиазма», под бряцание вытащенных из каких-то средневековых подземелий лозунгов и пляску безумных имперских иллюзий, царствовавших повсеместно, в человеческом мире еще оставалось нечто, способное отрезвить, послужить опорой в отрезвлении, буде придет час оного, стать «маяком» в попытке вернутся к основам… Сохранялись гуманистические ценности и символы прошлого, прочно вросшие в фундамент человеческого бытия… Еще не померкли христианский образ личности в человеке, ощущение ценности человека, таинства и святости смерти и самой жизни… Еще оставались осколки, отголоски того подлинного, что некогда было пережито человеком и определило облик его мира… Еще было к чему вернуться и о чем вспомнить… Еще было то, что способно послужить зеркалом и заставить вспомнить… И упавшему в бездну «ничто» миру, и человеку, привыкшему видеть в другом абстрактного «врага» и становиться бесформенной грудой плоти на рогатках, служить «глиной» для авантюр, во имя самых утлых химер и с пользой для кого-то умирать и убивать, еще было к чему вернуться… В поток мыслей пана профессора, по привычке и вместе с вдохновением, начинает вливаться гнев… Раздери черт – оставим метафизику и высокие материи – пускай лишь как пыль времени на вещах в старом чулане, заведенный порядок или привычки прожитых лет, от которых человек, даже и желая, но не способен отказаться и в глубокой старости, в мире человека еще сохранялась память о каких-то правилах благородства и чести, о величии милосердия и сострадания… Пусть кажущиеся потускневшими и странными, но представления обо всем этом и многом ином еще были живы, обладали действенной, жизненной силой, оставались в жизни и поступках, сознании и морали людей как освященные веками, к чему-то обязывающие и побуждающие установления, против которых до конца не решаются взбунтовать, которые пока не готовы смести одним махом, словно пыль со старых вещей… И в этой пыли старых, сохранившихся как привычка и память правил и установлений еще сохранялось то, что в любые времена человечно…. Отвести дуло от ребенка, случайно попавшего под прицел… Протянуть руку врагу, памятуя о том, что он такой же человек, «дитя и творение божье», как ты сам и высшим законом является не ненависть, а мир и прощение, солидарность людей и любовь… Застрелиться, если пусть даже по ошибке, а не в злом умысле, изменил долгу и делу, предал чье-то доверие… Хотя бы временами, но человек еще был способен ощутить какую-то ответственность за то, что совершает, понести ее и заставить себя заплатить по счетам… В его мире, пусть даже одной силой инерции, не до конца стертого и погубленного, забытого наследия веков, еще сберегалось и сохраняло влияние то, что этого требовало, побуждало к этому, о чем-то последнем и главном напоминало… Всё это еще сберегалось, оставалось как память и привычка, освященные веками устои, совсем недавно, кажется… Пусть лишь как трепетная и призванная возвышать иллюзия, это еще сохранялось в мыслях и разговорах, приходило в человека из книг и образов полотен, к чему-то обязывало его и побуждало о чем-нибудь задуматься, пережить внутри себя что-то важное… Разве же сохранилось что-нибудь из этого сегодня, в мире торжества самых уродливых и низких истин, мнящих себя истинами мифов «объективизма», в котором человек – функция, безликая и исполнительная машина, отвыкшая что-нибудь решать, ощущать и нести за что-то личную ответственность, безразличная к совершаемому ею, собственной судьбе и ценности ее существования, обреченная быть безразличной даже к настолько трагическому и важному, неотвратимому – смерти, а потому жаждущая смерти, бестрепетно готовая броситься в бездну смерти, одновременно холодно и яростно ненавидящая жизнь? О, как же моментально и бестрепетно добропорядочные бюргеры оказываются готовыми вскинуть над плечами штыки, оставить теплые зады жен, сводчатые залы пивных и ломящиеся колбасой полки, идти умирать и убивать, неведомо куда и по сути – неведомо зачем! Как покорны они обреченности служить «расходным материалом», «глиной», орудием для чьих-то безумных фантазий и откровенно преступной воли… И как же всё это стало нормой, неотъемлемым условием и инструментом «прогресса», движения к «великим целям», что бы таковыми не называлось… С каким безумным и сплоченным воодушевлением, которое словно олицетворяет власть «ничто», ставший состоянием душ, жизней и умов культ отрицания, уничтожения и смерти, они рявкают глотками и вскидывают на площадях, объединенные в миллионную толпу руки, показывая покорность и готовность на это… Что за страшные вещи способны творить или одобрить ныне совершенно обычные, социально нормативные и добропорядочные люди, лишь следующие в их деяниях законам обществ, нравам и святыням, идеалам и императивам всех вокруг! Как безразличен человек к жизни и смерти, святости и ценности любого другого, будь тот молод или стар, напоминай ему собственных родителей и детей или же смотри на него глазами его жены… И как безразлично покорен в необходимости убить и умереть… Злодеи совсем недавнего прошлого еще способны были ощутить раскаяние и муки совести, повеситься или пустить себе пулю в лоб, суда совести не выдержав и совершив над собою неотвратимый, безжалостный суд. А злодеи нынешние, с горечью и содроганием в который раз думает пан профессор, часто – вовсе не выродки, но социально нормативные, законопослушные и покорные обыватели, подчиняясь и расстворяясь в одинаково думающей и поступающей толпе, никакой ответственности за деяния не ощущают и совершают, оправдывают и всемерно одобряют чудовищные вещи, при этом, в их нигилизме и безликости, не испытывая кажется даже малейшего непокоя и разлада, чувства катастрофы… Отбирают чьи-то жизни с той же нигилистической и холодной покорностью, с которой готовы в любой момент отдать во имя химер и преступных манипуляций собственные… И того, что могло бы напомнить о совести и достоинстве, личной ответственности и обязанности следовать ей в противостоянии, пусть даже страшной ценой жизни, испытаний и крушения судьбы, более нет… Как словно бы не осталось ничего, напоминающего о подлинной сути и ценности человека, о его достоинстве и святости… О вещах, крах и низложение которых означают катастрофу, на страже которых испокон веков стоит опыт духа, совести и любви, еще не так давно и пусть хоть отголосками, но всё же сохранявшийся в мире и бытии человека, в образах и символах культуры, привнесенный в нее толщей веков и бесконечностью случившихся в них человеческих судеб, мыслей и откровений, борений и попыток, неумолимо проступавший даже в том, что его затирало и губило. Это, вместе с кажется последними ценностями, на глазах познало окончательный крах, лежит в руинах, причем сталось так в очень короткий срок и за пафосом прогресса и великих, «гуманных» идей, в торжестве всеобщих ценностей и целей, объективистского и якобы «научного», развенчивающего мифы и возносящего в человеке социальное, но на деле глубоко мифологичного взгляда на человека… Святость и ценность человека, его неповторимой и венчаемой смертью жизни, рухнули вместе с воцарением «объективистского», «социологического» взгляда на человека, его предназначение и судьбу в мире… С гегемонией якобы научных и объективных, но на самом деле глубоко мифологичных, тоталитарных и нигилистических идей… В реалиях ставшего на них мира, существования и судьбы человека в этом мире, который даже с первыми, робкими проблесками разума, предстает ему как ад… О да, эти мысли давно в уме пана профессора фундаментальны и невольно всплывают сейчас в шоке перед событиями, в попытке как-то осмыслить происходящее! Он произносил их с кафедры и по самым разным поводам не раз… Жаль только, что годами жившие в нем и обретавшие ясность, они так и не стали книгой… Словно бы самое последнее рухнуло – освященный тысячелетиями опыт совести, память о личности и свободе, хоть какой-нибудь ценности человека… Всё это рухнуло в шабаше «великих», якобы даже философских и научных идей, в торжестве тоталитарных мифов, под такие идеи рядящихся, уродливых и «наукообразных», глубоко нигилистичных, как показало короткое время. В победно утвердившем себя взгляде на человека, его предназначение и судьбу. В воцарившихся химерах «объективизма», мнящих себя знанием и последней истиной. В гегемонии «всеобщих» ценностей, которая стала чудовищным, дьявольским обесценением личности, неповторимого человека и его жизни… За минувшие до сегодняшнего дня двадцать лет, в мире человека рухнули остатки того, что хоть как-нибудь оберегало это, обо всем этом напоминало… Еще никогда превращение человека и его жизни в «ничто», не становилось настолько сутью и обликом мира, не торжествовало в ополоумевших мир, целиком подчинивших тот идеях, не представало вместо зла и катастрофы чем-то должным, беспрекословным… Не обращалось привычными, беспрекословными и словно само собой разумеющимися реалиями, под покровом которых зреют катастрофа, взрыв и торжество отрицания, готовится пуститься в адскую пляску нигилизм, ставший ситуацией и состоянием самого человека… Человек окончательно стал «ничем», утратил всякую подлинную ценность, как в «ничто» превратился для него самого, мира и правящих в оном идей, дар его неповторимой жизни. И сегодня, если только что, словно ушатом холодной воды нахлынувшие на него и целый мир события не обманывают, эта страшная истина кажется решила явить себя во всей содрогающей наготе, стать кровавой бездной отрицания и уничтожения, грозящей поглотить мир… И произошло это именно на глазах и совершенно откровенно, застыв в каждодневных реалиях, лозунгах и провозглашаемых идеалах, которые, подобно религиозным догматам, осенены ореолом святости и высшей, беспрекословной правды, в самых фундаментальных для облика окружающего мира и событий в нем представлениях… Святость и ценность человека рухнула вместе с торжеством рациональных, «наукообразных» химер, преподносящих себя в качестве «объективных истин», сумевших за короткий срок извратить мир человека, жизнь и судьбу человека в нем, превратить их в ад и глумящуюся, победную пляску абсурда… И лишь стоит ныне подлинному разуму, испокон веков обнажавшему смерть и означавшему суть и трагедию личностного бытия, проснуться и подать голос, вступить в права – этот выстроенный на химерах объективного познания мир предстает человеку адом и торжеством абсурда, в котором он и его жизнь есть «ничто», лишены последней ценности, низложены… «О, всё это делало еще одну масштабную катастрофу, грозящую превзойти быть может иные, необратимой!» – пан профессор разражается восклицанием в мыслях, ибо они обращены к урагану событий, которые кажется катастрофу разверзли… Тем более, что на пути к бездне, словно мираж или бывший сегодняшним утром туман, исчезло самое последнее… От морали, опыта и идей, уходящих во мглу веков, по странной издевке, вопреки бесовству прогресса и объективного разума, еще хранивших остатки человечного, память о ценности человека и его личности, не осталось кажется даже и тени. Объективный взгляд и победное шествие прогресса расставили всё на свои места, а потому торжествуют идеи и мораль, в которых общество и нация, процветание и благо повседневности, труд и производство вещей – «всё», человек же, с трагизмом его неповторимой, часто очень короткой и отданной во власть мира и случая жизнью – «ничто», «средство» и «вещь», статистическая единица в карнавале труда, удовлетворения потребностей и абсурда, которым стал мир… Благородные иллюзии и химеры былых эпох, означавшие гуманизм, торжеством объективного разума наконец-то повержены – да так, что кроме бездны отрицания, нигилизма и властвующей безраздельно, окутанной в ад отчаяния пустоты, последнего низложения и обесценения человека, очевидного разложения остатков некогда провозглашенных и царивших, ставших дорогой и фундаментом ценностей, ничего кажется и нет… И нет даже пыли и теней, которые всё же сохраняли у последней черты, чтобы не происходило… Даже при одних мыслях об этом, ставшем сегодня новой катастрофой, кажется, пан профессор содрогается душой, хотя такие мысли для него не новы… О, предчувствованное и неумолимо назревавшее, кажется вступает в права, обращается судьбой и катастрофой! – лишь это он понимает сейчас… Ополоумленные пропагандой, гомоном дышащей ненавистью толпы и властью пустоты и отчаяния, в бунте против проклятия и бремени абсурдной жизни готовые душить друг друга газом, рвать на части гусеницами танков и снарядами огромных мортир, ложиться на рогатки, гибнуть и убивать во имя «фатерляндов» и великих империй, уродливых тоталитарных мифов и химер, солдаты прошлой войны всё же еще были способны отрезветь, брататься и различить друг в друге людей, вспомнить о возможности этого… В окружающем их мире, пусть даже просто силой инерции и не до конца вымертвленных привычек, идей и представлений, в тысячелетних образах и символах культуры еще было подобно осколкам то, что сохраняло эту способность в человеке, могло напомнить о ценности человека и его жизни, о заповеди солидарности и любви, а не уничтожения и ненависти… За двадцать лет, которые прошли перед мучительно бодрствующим разумом и духом пана профессора со времен той войны, очень многое поменялось в человеке и мире человека… Того, за что можно было бы уцепиться на краю бездны, к чему было бы возможно вернуться, способного остановить, отрезвить безумное стадо свиней, в которых вселились бесы, более нет – пан профессор ясно видит это. И это страшит его, давно страшит… Ни в чем невозможно более различить ни память о личности человека, ни ощущение его ценности… И еще более стал человек в сознании и реалиях эпохи «вещью», «особью» и «частью рода», «куском плоти» с набором естественных рефлексов, полезным орудием для «больших дел», чуть ли не просто «винтиком» и «глиной». Еще больше движут им пустота и отчаяние, еще более бессмысленны его судьба и жизнь… И если не дай бог произошедшее – начало новой большой войны, то будет всё то же по сути, но только хуже и страшнее, безграничнее по масштабам, и ни кто не скажет и не сумеет представить, что быть может предстоит пережить миру… Еще страшнее будет пляска «ничто»… Еще безграничнее окажется цинизм в отношении к человеку и гораздо худшая, быть может подлинно жуткая судьба предстоит ему в вихрях событий, всё так. События сегодняшнего утра лишь их неожиданностью и брутальным вторжением в хрупкое счастье пана профессора вызвали у него шок – он давно предчувствовал катастрофу, обреченность чему-то страшному случиться. Он давно знал и чувствовал, что кипящий в своих недрах, внятно содрогающий почву цивилизованной жизни вулкан человеческого нигилизма, неотвратимого от нигилизма безумия тоталитарной массы, непременно взорвется, уничтожив и выжегши всё вокруг, превратив в руины и пепел здание тысячелетней культуры. Очень многое поменялось за короткое время, страшно и в самую худшую сторону… Словно окончательно подошел мир к краю способной поглотить бездны нигилизма, всеобъемлющего отрицания, последней обесцененности и обничтоженности человека в нем и торжествующих в нем идеях, в его предстающих чем-то должным и беспрекословным, освященных мифами «объективизма», которые выдают за истину, но на самом деле адских и страшных реалиях. Обнажившиеся в ту войну, обуревающие и губящие мир прогресса противоречия, которые означают обреченность человека на нигилизм и его собственную, чуть ли не адскую низложенность и превращенность в «ничто», утрату им для мира всякой ценности и сакральности, стали за минувшие два десятилетия лишь хуже, подвели к какой-то последней черте – такова очевидная и содрогающая правда. А вот то, что еще сохранялось тогда как осколки и тень былых времен, обретенного в них опыта, память о подлинной сути и ценности человека, оберегающих ее императивах морали, всё же бывшее способным, вопреки страшному и впервые прорвавшемуся торжеству нигилизма, к чему-то возвратить или хотя бы остановить у самой последней черты, у края бездны – более нет… И если предчувствия не обманывают, то самых страшных, болезненных фантазий не хватит, чтобы представить, чем обернутся разворачивающиеся на глазах события, до какой пляски ада смогут дойти… А что всё это будет означать в отношении к его собственной судьбе и испытаниям, которые она отпустит? Что он сумеет в них, на что окажется способен, сохранит ли верность себе, за которую всю жизнь боролся, от его судьбы и пути до этого дня не отделимую? Во власти потрясения перед нагрянувшими событиями, пан профессор полон одновременно страшных и кажущихся ему пророческими предчувствий. Очень важные мысли льются потоком и отдаться бы им, сесть и как следует записать на бумаге, но не до этого… События, их породившие, очевидно обещают затронуть судьбу всех и каждого, его самого и близких ему людей, хоть и нет тех слишком много. И еще сильнее и властнее их – волны чувств и переживаний, страха и разнообразных, вырисовывающихся какой-то смутной мглой неведомого тревог, которые затрагивают именно собственную жизнь и судьбу, настоящее, самое важное и близкое… Если всё верно и происходящие события – вправду начало, первые капли бурлящей и прорывающейся наружу магмы, лишь первые такты и звуки нового, дьявольского карнавала «ничто», то что же ждет его самого, ставшую ему дорогой и любимой женщину? Его Университет и город, его страну? Какие предстоят испытания? Что он сможет, на что решится или нет, если война и смерть заколотят к нему в дверь и какой-то безумец-«колбасник» или «белокурый арийский ангел», наслушавшись другого лающего безумца, придут к нему на порог и наставят в лицо дуло винтовки?.. Что же – посмотрим… если приведется, не дай бог…
Глава четвертая
О, Боже
Однако, часы на Ратуше напевно и чаруя пробили десять – пан профессор и не заметил, как полившиеся потоком мысли отобрали целые полчаса. В дверь постучали. Пан Юлиуш Мигульчек, секретарь декана, в огромных, с трудом облегчающих его близорукость очках, тот самый, который имеет родственников в горах на словацкой границе, открыл дверь, почтительно и глубоко склонился, чуть не вызвав у профессора Житковски слезы: всё было как обычно. Как обычно старый и очень добрый поляк глядел своими «рачьими» в линзах глазами. Как обычно испытывал удовольствие оказать глубоким поклоном почтение всеобще уважаемому человеку, и красота его отдающих старыми шляхетскими манерами, временами полонезов и изгнанников-дворян движений, как обычно же радовала глаз и душу. Да всё и должно было быть как обычно – именно так Юлиуш Мигульчек, уж лет тридцать наверное секретарь декана, должен был зайти сегодня в кабинет к профессору и пригласить его сначала на торжественное заседание, которого две недели ждала подготовленная речь, а после – на две первых торжественных лекции к «новобранцам». Всё должно было быть как обычно, как предполагалось, планировалось и думалось еще вчера. Но кто же знал, что пока пан Мигульчек с чепцом-сеткой на голове, чуть похрапывая, пытался обрести редкое в его годы благо сна, пока доцент Кшиштоф беззаботно кутил с друзьями в кабачке на Рыночной площади, празднуя наступление нового, обещавшего немало радостей и событий рабочего года, пока пан профессор Войцех Житковски, на пахнущей яблоками даче, тонул в волнах неожиданно нагрянувшего счастья и объятиях прекрасной возлюбленной-аспирантки, где-то далеко, во основном на Западе и Севере, однако так же и на Юге, строились в боевой порядок солдатские части, прогревались моторы и заливался в баки бензин, отдавалась честь, взметались в воздух в приветствии решительные, словно механические руки и делались последние приготовления, а переодетая в форму польских солдат группа «эсэсовских» диверсантов готовилась совершить под покровом последней летней ночи свое черное дело – расстрелять собственных солдат на пограничном пункте и этим дать повод бесноватому маньяку развязать самую страшную в истории человечества войну? Кто же из них, мирных и мерных в образе жизни обывателей, ищущих сон семьянинов и чиновников, вечно терзаемых профессоров философии, жаждущих приступить к учебе новых студентов, молодых карьеристов и усталых трудяг, встречавших эту последнюю мирную и летнюю ночь 1939 года в Кракове, Варшаве, Гданьске и Познани, Закопане и Аушвице мог знать, что еще две недели до этого их судьбы и судьбы их детей и родителей, их страны и многих других стран, были безнадежно и безжалостно предопределены игрой двух хитрых и циничных сумасшедших, решивших поделить мир… что обратного хода всем страшным, грядущим и ни кем до конца не мыслимым событиям уже нет, ибо уже отпечатаны протоколы секретных соглашений, и поставлены на них подписи, и два маньяка, плоть от плоти детища безумного и нигилистичного времени, уже шутливо делят последние крохи должного вот-вот быть разрезанным политического пирога?..
– Пана профессора просят прибыть к одиннадцати часам в большой зал Коллегиум Новум – лекций, намеченных на обед, не будет, и не будет ученого совета, но планировавшаяся церемония, решили у пана ректора, пусть и в измененном порядке, должна состояться обязательно – пан Юлиуш Мигульчек почтительно и напевно, как многие годы привык, обращается к Войцеху, они встречаются глазами. Они знают друг друга очень давно, собственно – близорукие глаза пана Мигульчека сопровождают всю жизнь Войцеха Житковски в Университете. Он был секретарем декана, когда новоиспеченный Войцех поступил в Ягеллонский университет студентом права. Он журил Войцеха за не слишком хорошую успеваемость в конце первого года на факультете права. Он, различив в глазах восемнадцатилетнего Войцеха по настоящему серьезную решимость бросить право и наметившуюся карьеру адвоката, и перейти на факультет философии, проникся борениями в молодой судьбе и душе и помог будущему пану профессору уладить все бюрократические тонкости. Он был свидетелем вдохновенных лет учебы Войцеха, блистательной защиты Войцехом дипломной работы по только что заявившей о себе в голос немецкой экзистенциальной философии. Часто виделся с ним в годы «бегства» из Университета, встречал его победное возвращение автором признанных книг, имеющим право на то, что было недоступно талантливому и подающему надежды выпускнику. Он поздравлял Войцеха с получением докторской и профессорской степени, да вообще – он, этот благородных манер человек из старой краковской семьи, стал для жизни и судьбы пана профессора фигурой знаковой. И вот сейчас, искренне и давно симпатизирующие друг другу, они смотрят друг другу в глаза и очень многое понимая о происходящем, ищут слова, чтобы выразить всё переполняющее их душу и ум. Глубокую встревоженность в душе старого поляка не могут скрыть ни огромные линзы его очков, ни выработанные в течение многих лет напевные интонации в голосе.
– Кажется мне, пан профессор, что Польшу грозят настигнуть очень печальные, горькие дни – неторопливо и тихо произнося это, сопровождая слова взволнованными вдохами груди, пан Юлиуш Мигульчек пристально смотрит в глаза профессору. Он то ли констатирует, то ли задает вопрос, то ли высказывает мучительное подозрение и предчувствие.
– Пан Юлиуш… Войцех неожиданно позволяет себе сентиментальность, которая в куртуазном академическом кругу Кракова могла бы при иных обстоятельствах быть принятой за фамильярность. Уверенный в том, что произошедшее влечет за собой гораздо худшие беды, чем пан Мигульчек даже может себе представить, профессор Житковски подходит к нему, с глубоким почтением и слегка склонившись, кладет ему на плечо огромную руку и с неожиданным теплом произносит:
– Как не желал бы я думать иного, но очень боюсь, что на этот раз Вы правы… Но я верю пан Юлиуш, что наша Великая Польша, наша Родина, пережившая полтора века кандалов и виселиц, унижения и рабства, сумевшая добыть себе свободу, через что бы не пришлось пройти ей, сумеет отстоять ее и в этот раз!. Убежден в этом и еще в том, что нет цены и препятствий, которые смогли бы остановить поляков в их борьбе за свободу!
Пан Юлиуш поднимает на Войцеха глаза – они полны тепла и настоящей благодарности. Услышав подобные слова в любых других устах, пан Мигульчек непременно бы хитро и подозрительно прищурился, положившись на толщину линз и подумав, что перед ним – «записной» и «на дрожжах» патриот, кричащий про Речь Посполиту от Эльбы до Днепра, от которого на деле можно ожидать чего угодно. Но в устах «неистового профессора», не раз казавшегося своими убеждениями анархистом-революционером, открыто презиравшего и обличавшего то, что он называл «идолами державничества и патриотизма», с упорством рисковавшего публично критиковать власти и их политику, подобное звучало речью сердца, самой искренней, невзирая на стиль.
Голова Кшиштофа возникает в не до конца закрытой паном Мигульчеком двери.
– Панство, прошу Вас, прошу немедленно в вестибюль! Радио!.. только и бросает он, и исчезает.
И снова то же – профессора и доценты, студенты и простые сотрудники, люди разных лет, глубокие и пустые, обремененные мукой разума и по власти лет беспечные, порядочные и не очень, но объединенные неожиданно настигшим судьбу их страны общим горем, безмолвно застыли возле репродуктора, из которого полились крики толпы и тщательно отрепетированный лай. Кто-то нашел и пустил трансляцию речи бесноватого ублюдка в Рейхстаге.
Пана Войцеха всегда поражало, как рационален и прагматичен, по умному хитер и лицемерен может быть истинный сумасшедший, насколько убедительны и логичны могут быть его доводы, а речь – выверена и стройна… какие дальние, продуманные планы способен строить тот во власти своих иллюзий, в погоне за ними. Пан Войцех, популяризатор и ревностный сторонник Хайдеггера, профессор философии, прекрасно знает язык, на котором бесноватый ублюдок произносит речь, почти все здесь понимают этот язык, смысл произносимых слов доходит до большинства столпившихся под репродуктором вполне, отбирая последние надежды на то, что разворачивающиеся события – не война, а лишь обострение ставшего постоянным территориального спора. Да, за всю свою длинную речь, отродье австрийской шлюхи ни разу не произносит слово «война», бесноватый ублюдок хитер, умен именно так, как может быть умен безнадежный безумец, для фантазий и планов которого не осталось никаких преград, превращающий в их сцену реальность и весь окружающий мир, сумевший увлечь ими и свети с ума большинство окружающих его людей. Всё то же – Данциг и Коридор, притеснения детей и женщин, унижения миллиона немцев, которые не способна стерпеть ни одна великая держава! О нет, он не хотел и не хочет открытого силового противостояния (слово «война», подмечает Войцех, не произносится даже здесь) он хочет только мира, он всеми силами борется за мир в последнее время, он сколько было возможно стоял за разумное, справедливое и равноправное разрешение противоречий между Германией и Польшей – его вынуждают к силовым мерам и правда на стороне Великой Германии. Проклятый Версаль, который немецкий народ заставили подписать с дулом у виска – ноябрь восемнадцатого года более никогда не повторится, он обещает это! У него нет конфликта с западными странами – он предлагал и по прежнему предлагает им дружбу, интересы Германии останавливаются у Западного вала и не распространяются за границы западных государств (о хитрый подонок – подумал Войцех – он старается сохранять корректность заявлений, он боится объявления войны Англией и Францией, а значит – стремится потянуть время, и значит планы у него серьезные и дальние… оно, о боже, оно, свершилось… война!) У него нет конфликта интересов и с Советской Россией, напротив – он рассчитывает на ее дружбу и уверен в таковой. Вот при этих словах по спине пана Войцеха пробегает настоящий холодок и выводы становятся окончательными – конечно война, война за полное поражение и подчинение Польши, ведь если бесноватый так уверен в реакции русских коммунистов и Сталина на вторжение в Польшу, на их подобное физическое сближение, значит – о смилуйся великий боже! – не спроста, вовсе не спроста, а для «развязывания рук», как и почувствовал профессор Житковски, был подписан тот августовский договор, так всех удививший и есть, наверняка есть в нем быть может неизвестная общественности, но ясная договоренность касательно произошедшего утром и еще только намеченного. Многие тогда – чуть более недели назад, даже успокоились и решили, что двое сумасшедших договорились и перестанут наконец-то держать Европу под прицелом и передернутым затвором, и даст бог, вместе с прошлогодним соглашением и вправду воцарится мир. Но он, он то тогда ясно ощутил обратное и вот – его предчувствие оказалось верным! Лай продолжает литься из репродуктора. Он благородный рыцарь великого немецкого народа, он не будет воевать против женщин и детей и если враг будет вести себя гуманно и достойно, такими же будут и действия немецких солдат. Он требует от каждого истинного, преданного Родине немца, подчиняться его воле с повиновением и слепой верностью – в этом залог всеобщего успеха и национальный долг каждого. Долг каждого немца – в любой момент быть готовым умереть во имя великой Германии, он требует это от каждого, кто же думает, что сумеет уйти от этого национального долга – падет и будет уничтожен. Истинным немцам – не по пути с предателями. Он – первый немецкий солдат и первым готов умереть, принести себя в жертву Великой Германии, его жизнь во имя страны и дела может отобрать в любую минуту любой, и такой же жертвы он требует во имя Германии от каждого немца. Он часть своей страны и своего народа и пройдет то же, что пройдут они, он требует от каждого самоотверженности и самопожертвования для великой цели и готов служить тому примером. Старый принцип остается верным: совсем не важно, будут ли живы они сами – важно, чтобы был жив народ, чтобы жила Германия!
Вот она, пляска «ничто» и воцарившаяся в человеке ненависть к жизни, вот он, карнавал отрицания, вот оно – торжество «коллективных» ценностей и идеалов, химер патриотизма и державничества, за которым на самом деле таится откровенное превращение человека в «пыль», лишь оформляющее власть над человеком отрицания и пустоты! Вот оно, ставшее нормой и моралью, отлитое в «идеалы» превращение человека и жизни в «ничто», в господстве химер «революций», «великих и процветающих империй», «прогресса цивилизации» и «благоденствия наций», во всех привычных нам реалиях уже давно торжествующее над человеком как судьба! Вот оно, жуткое и уродливое лицо истины и ей-богу – уж лучше бы он раз от разу удостоверялся не в истинности собственных предположений и идей, а в их ошибочности! Даже в эти минуты пан профессор остается философом, напряженно вникающим мыслью в смысл окружающих вещей и совершающихся событий, не может быть просто чувствующим тревогу и страх перед событиями человеком, оскорбленным в его достоинстве гражданином и поляком. И не может не вдумываться и не отстраняться от происходящего, не смотреть на него наискось, с точки зрения смысла. Не способен унять, утихомирить и остудить мучительно терзающий его, почти никогда не прекращающий бодрствовать и работать разум. Не может жить не разумом и напряженным, непрестанным осмыслением происходящего, вниканием в него, а чувствами, тем более – когда эти чувства так сильны и трагичны, так настоящны и искренни…
Посреди шума взорвавшихся вместе с последними звуками лая разговоров, пану профессору внезапно становится дурно… его давит в груди, глаза и сознание заволакивают какой-то туман и темнота. Аккуратно протискиваясь грузным телом через группы спорящих коллег, он пробирается к готическому окну, открывает то, облокачивается о подоконник и чуть свешивается, опускает веки. В ноздри ему неожиданно ударяет теплый, но дышащий свежестью аромат зелени из аллеи напротив. Самым привычным образом стучат колесами, звенят и рокочут трамваи, исправно следующие по расписанию. Всего этого нет, всё это лишь снится – ему снова приходит подобное наваждение. Всё это трудно, попросту невозможно понять, переварить умом, охватить и впитать в себя. Из окон вестибюля, как и из окон всего Коллегиум Новум, видна аллея, тянущаяся целиком вдоль северной границы Старого Города, начинающаяся возле рынка Клепаж и упирающаяся в Королевский замок. Он любит эту аллею, по ней, в самом прямом смысле, проходит его жизнь. Именно ею уже многие годы, почти каждое утро, подстегнув себя чашкой горячего кофе у Маковски и погружаясь мыслями в темы предстоящих лекций, он идет в Университет. Войцеху иногда кажется, что под его каждодневными шагами уже давно бы продавилась борозда на укрывающем аллею, мелком и буроватого цвета гравии, если бы за этим гравием тщательно не ухаживали. Эта аллея – безмолвный, но надежный свидетель его судьбы, его нравственных борений, принимавшихся им решений и рождавшихся в нем вдохновенных откровений мысли, самых разных, бурливших в нем переживаний и чувств. О, сколько же было понято и мысленно написано им, шагая по ней! Сегодня он изменил привычке – приехал в Университет на машине, из совершенно другого места, не прошел по любимой алле, но собирался сделать это вечером, после заседаний и лекций, вместе с Магдаленой, даже мечтал об этом. Как ни странно, внезапно накатившая вечером пасмурная, холодноватая и туманная погода почти развеялась, приближался полдень, небо прояснилось и Краков радостно откликнулся засиявшему солнцу блеском стекол и металлических вымпелов и шпилей на черепичных крышах, над карнизами и козырьками средневековых порогов. Вчера вечером, а после ночью, он полностью потерял рассудок, отдался власти и простых страстей, и самых глубоких, подлинных чувств и побуждений, ему показалось, что счастье возможно. Вчера вечером были еще лето и мир… Он обсуждал сегодняшнее выступление, которому не суждено скорее всего состояться… строил планы… не мог отвести взгляда от Магдалены, и не потому даже, что ощутил их должное состояться соединение, а потому что несколько последних дней с уверенностью чувствовал и понимал – он ее любит, она пришла в его судьбу и должна остаться в той, его судьба станет, непременно станет из-за этого другой, лучшей. Он не ребенок. Он прожил больше половины жизни. А вот же – его мучительно бодрствующий и терзающийся, глубокий и искушенный ум, всё же не способен принять, охватить ураганом случившееся потрясение, пролегшую между вечером и утром пропасть, разверзнувшуюся под почвой «обычного» бездну грядущих и неотвратимых, пугающих и неизвестных испытаний, изменений… быть может самых настоящих бед. Вчера были лето и мир, планы и счастье, будущее ощущалось хоть сколько-нибудь известным, определенным и обозримым, подвластным пролагающей линию действий, целей и событий воле, а сегодня бесноватый ублюдок призывает по радио стадо внимающих, ополоумленных скотов «принести себя в жертву»… И их жертва, то есть несомая ими на концах штыков и дулах винтовок смерть, их предназначенность умирать и убивать – не абстрактна, а имеет в виду его, Войцеха Житковски страну, его город, любимых и дорогих ему людей… Это убивать его самого и его евреев-родителей из квартала Казимеж, дорогих ему невзирая на отверженность и многолетнюю разлуку, его Магдалену и пытливых умом студентов, призывает бесноватый ублюдок, жаждущий крови на алтарь своих иллюзий и требующий от толпы полоумных «жертвы во имя Великой Германии»… Вчера и ночью были счастье и покой, надежда на то, что они не промелькнут мимолетной дымкой и химерой, а сегодня утром, быть может совсем уже не далеко, грохочут пушки и солдаты умирают, исполняя долг и пытаясь отстоять свою землю перед полчищами заигравшихся в средневековье безумцев и варваров… О, боже… Пан профессор конечно же не был верующим человеком и не мог быть им, но имя того, кого нет, поминал в мыслях часто, это было неотъемлемой частью его внутреннего диалога с собой и иногда, в минуты наиболее напряженных и тягостных переживаний, произнесение в мыслях «о, боже!» позволяло ему испытать хоть мимолетное облегчение… Вот и сейчас, в происходящих внутри него попытках уразуметь, охватить пониманием налетевшие ураганом события и изменения, узреть мыслью то, что стоит и грядет за ними, он произносит мысленно «о боже!» – ему не остается ничего иного…
Глава пятая
Вива, Республика Польска!
Тадеуш Лер-Сплавински, ректор Ягеллонского университета, в окружении секретаря и нескольких деканов, вышел из своего кабинета на втором этаже и невзирая на обуревающие его чувства, подчеркнуто не спешно и сдерживая шаг, направился по широкому готическому коридору в большой зал Коллегиум Новум. Там, в огромном университетском зале для торжественных церемоний, были намечены выступления и приветствия студентам, речи должны были прочитать он, несколько известных профессоров и приглашенные почетные гости. Всё это готовилось последние несколько недель, было окончательно обдумано и подготовлено вчера, и из-за событий сегодняшнего утра обречено не состояться. Нагрянувшие ураганом, эти события не просто отменили уместность и порядок запланированной церемонии – они обессмыслили, сделали исчезающей туманной пылью всё то, что должно было быть за ее время произнесено с почетной кафедры, и им, и другими. За прошедший час пан ректор сумел ясно, четко понять происходящее и принять четкое решение – почти ничего из намеченного состояться не может, ничего из задуманного произносить не имеет смысла. Он отменяет торжественные лекции «новобранцам», планировавшиеся после обеда, заседание ученого совета, совершенно переиначивает церемонию в большом зале Коллегиум Новум – она будет максимально короткой, на ней выступит с речью только он сам. Никто не знает, как даже в самые ближайшие часы и дни будут развиваться события, и посреди рвущихся каждый час подобно бомбам новостей пытаться надевать мину, изображать действительность всех нанесенных на бумагу планов, проектов, идей и настроений, извергать на аудиторию речи, имевшие отношение к жизни, которая была еще вчера, неожиданно холодным и туманным вечером, но никак не связанные с той, которая настигла сегодня утром – глупо, лицемерно и попросту безнравственно. Всё поменялось, в одно мгновение, в пугающем и неизвестно куда ведущем направлении, и надо иметь решимость и трезвость принять это как данность и соотнести с такой данностью то, что должно быть сделано. Конечно же – так тщательно, с такой бесконечной любовью продуманная им для сегодняшней церемонии речь, затрагивающая учебные планы, цели предстоящего академического года, представление новых профессоров и новые международные перспективы Университета, за которые он так борется и ратует, произнесена быть не может, ни единое слово из нее более не имеет веса. Никто не знает в эти мгновения, что будет со страной и самим Университетом, что действительно в стройных планах и проектах, а что погублено и невозможно, да и не до них, конечно же не до них уже, по крайней мере – пока ситуация не обретет хоть какую-то ясность. Он, сорока восьмилетний профессор и академик, известный в Европе ученый, намеревавшийся очертить сегодня контуры первого под собственным ректорством академического года, не собирается выглядеть перед коллегами и студентами балаганным комедиантом. Он оставил текст своей речи в кабинете, у него нет ни одного подготовленного слова и он не знает, что через несколько минут скажет людям, обратившим к нему внимание и взгляды. Он за эти, оставшиеся по коридорам, галереям и балюстрадам минуты, должен найти, что сказать им, увидеть хоть контуры мыслей, которые облечет в слова. И потому пан ректор, невзирая на клокочущую у него внутри бурю, чуть отдалился от коллег, почувствовавших его желание побыть в одиночестве и помолчать, и как можно более сдерживает шаги по коридору…
О, не так, не так он рассчитывал прожить сегодняшний день, не к этому стремился! Как же слаб человек, как зависит от воли вселенских стихий и игры случая, как тщетны его планы и хрупко то, что он пытается строить, и что кажется ему надежным! Ректором пан Тадеуш Лер-Сплавински избран, собственно, в конце минувшего академического года, на заседании 9 мая. Он конечно еще не успел ощутить себя ректором, как-то проявить себя и повлиять на университетскую жизнь, на учебный процесс – он только дал состояться намеченному и выстроенному его предшественником. Но новый академический год – вот, что должно было стать полем для идей, планов, задумок и усилий новоизбранного ректора, его веры в польскую науку и любви к родному университету, «альма матер». И всё то, что должно было произойти и осуществиться в предстоящем году, так увлекало и волновало, вдохновляло мысли и волю пана ректора, он намеревался раскрыть перед коллегами и студентами в сегодняшней речи, искренне надеясь поразить их не только размахом планов и программ, а их почти несомненной достижимостью. О, как же он ждал своего избрания, как много надежд и задумок было с этим связано! Он жил своими планами, жил совершенно конкретными шагами по их осуществлению, обмысливание которых сопровождало его жизнь каждый день, от утра к ночи, а иногда и самой ночью. Он далек от карьеризма, в свои пятьдесят он признанный ученый, действительный член Польской Национальной Академии Наук, почетный доктор и профессор многих университетов, исследователь-лингвист, которому вдосталь настоящего профессионального признания и уважения, у которого нет причин сомневаться в значимости сделанного им. Он шел на пост ректора, движимый не тщеславием или соблазнами карьеризма, а именно самыми трепетными образовательными планами и идеями, верой в потенциал «альма матер», в огромные, быть может не только всеевропейские, а мировые возможности старейшего Краковского университета, внезапно ощутив, что его воле и опыту, его состоявшемуся влиянию в научном мире доступно реализовать их, а если даже не реализовать, то хотя бы утвердить, оставив их окончательное осуществление для преемника. И вот – подумав это, пан Лер-Сплавински потупляет голову вниз, в мелькающий под его ногами паркет коридора, и сжимает зубы – все эти надежды, трепетно вынашивавшиеся планы, вступившие на путь осуществления инициативы, быть может сегодняшним утром безвозвратно погибли, обречены погибнуть в вихре развернувшихся и не известно к чему ведущих событий. Призванное стать блистательным, быть может судьбоносным для Университета ректорство, может вообще не произойти, бесславно и безрезультатно пропасть, а вместе с ним – воля, планы, порывы и стремления, идеи, такие важные возможности… Издевкой судьбы, что ли, а нее ее благоволением, избрали его четыре месяца назад коллеги?.. Нет! Быть может, совсем нет! Да – развернувшиеся в последние несколько часов события кажется по настоящему переломны и страшны, и более всего тем, что могут принести с собой, что неведомо даже развязавшим их, выпустившим их на волю. Да – никто не знает, какие испытания предстоят его Польше, его родному Кракову и Университету, который он закончил в самом преддверии прошлой войны. Отныне, с часов сегодняшнего утра и неведомо до какого времени, никто более не знает и не может сказать хоть с мизерной толикой уверенности, что будет, и ужас, панику перед этой разверзшейся бездной неизвестности, в один момент рухнувшей под ногами почвой, он читает в глазах окружающих, в интонациях их разговоров, даже в самих движениях и позах их тел. Что же, может быть и так, что его избрание ректором – не издевка, но задумка судьбы, ее предначертание, и именно он должен стоять у руля университетской жизни в дни, а кто знает, не годы ли грядущих испытаний, и как раз его воля и решимость, его жертвенность и готовность служить делу, его проверенная жизнью способность к борьбе и стойкость, должны провести Университет через эти испытания, каковы они бы ни были! Да – он внезапно, ясно и с пугающим его самого, могучим подъемом ощущает, что это именно так, что такова начертанная ему миссия и в нем, почти пятидесятилетнем ученом-слависте, есть даже с избытком нравственных сил и молодости души, чтобы вынести предстоящее на своих плечах, пусть оно совершенно неведомо. О нет, не слаб, а силен, велик и достоен человек, и в особенности – под ударами судьбы, ибо ему дана возможность бороться и выстоять, силы его в борьбе бесконечны и остаются такими даже тогда, когда в помрачении ума и отчаянии ему кажется, что они иссякли, и закончится они могут только с ним самим, с его жизнью, с его последним вздохом! Чтобы ни случилось и какие бы испытания ни были отпущены судьбой – он, профессор и ректор Ягеллонского университета, будет бороться и не важно, чем эта борьба может закончиться и какую цену потребует, и сейчас, глядя себе в душу, он ясно видит и с уверенностью знает – он готов к этому, у него хватит на это решимости и сил. И взгляд профессора внезапно начинает сверкать решимостью и уверенностью, а его шаги по коридору становятся более твердыми и быстрыми…
Вестибюль перед большим залом в здании Коллегиум Новум. Быстро наступающая вместе с его появлением тишина. Почтительные поклоны коллег. Они немедленно прерывают разговоры и заходят в зал, где большинство уже давно сидит по рядам и гулко обсуждает волнующее до глубины души и ума всех. Ректор университета, профессор и академик Тадеуш Лер-Сплавински заходит в зал, в почти сразу наступившей полной тишине поднимается на кафедру, в повисшей долгой паузе смотрит в него. Самые разные люди, сидящие на рядах, наполнившие зал до последнего места, пристально вперили в него глаза и внимание. Он каким-то чудным образом умудряется индивидуально разглядеть и вычленить в общей массе очень многих из них, большинство из них он вообще знает долгие годы, чуть ли всю жизнь, собственно – они и сотрудничество с ними, совместные дела и цели, полемики и дискуссии и есть его, Тадеуша Лер-Сплавински жизнь. Он глядит в эту воплощенную в конкретных лицах и взглядах свою жизнь, и его душу наполняют гордость и те могучие порывы, которые делают человека готовым отдать жизнь во имя чего-то по настоящему значимого и любимого, и он еще раз убеждается, какой же жемчужиной польской нации и польского духа, каким достоянием родной Польши, всегда был и является ныне Ягеллонский университет в Кракове. Вот великий Игнац Хшановски, два года назад, в свои семьдесят, увенчанный золотыми лаврами Академии Литературы. Он учил молодого филолога Тадеуша сорок лет назад, раскрывал перед тем тайны польского языка, истинные и бесконечные смыслы со школьной скамьи знакомых строк, заставлял иначе увидеть и прочувствовать образы хрестоматийных романов и поэм. Пройдут десятилетия, быть может века, а его труды по прежнему будут становиться фундаментом сознания исследователей. Благодаря ему мы по настоящему понимаем самих себя и родную речь… Мицкевича и Сенкевича, всю сложность и противоречивость во взаимоотношениях великих изгнанников-«романтиков», видевших татарские степи и Париж, берега Черного моря и Швейцарские Альпы, но никогда не ходивших под тенью Флорианских ворот в Кракове и по Краковскому Предместью в Варшаве. Какими разными они ни были, как драматически не спорили бы подчас друг с другом, с разных сторон глядя на общее дело, на те же идеи и судьбу их страны, но одно роднило и сплачивало их нерушимо – неотделимая от их жизни и дыхания любовь к Польше, жажда видеть Польшу свободной. Благодаря ему, глубоко и мудро, с пристальным трагическим спокойствием глядящему со скамьи первого ряда старику, кумиру многих поколений аспирантов и студентов, мы знаем тайны, пронизывающие пятьсот лет польского слова. Вот рядом с Хшановски сидит Леон Стернбах, еще более пожилой великий старец, всё так же, как и в молодости, на манер польских шляхтичей, лихо подкручивающий к верху роскошные, но полностью поседевшие усы, родившийся в Вильно еврей. Польской академической коллегиальности, быть может последнему оплоту истинной польской шляхетности, претили ксенофобские предрассудки – сын известного виленского банкира-еврея, профессор Стернбах был гордостью польской литературы и науки, достоянием и гордостью самой польской нации, в каждом вызывал лишь трепетное почтение. Три года назад, решившись выйти на пенсию, но сохранив пост почетного профессора, он подарил Университету свою колоссальную, уникальную по качеству и подборке томов библиотеку, сопровождаемую собственными, многолетними и путеводными пометками. Никто не сделал столько для развития европейских связей Ягеллонского университета, сколько профессор и академик Леон Стернбах – ученый, признанный в научных обществах Вены и Парижа, Праги и Лондона. Благодаря ему изучение классических языков и созданной на них литературы, находится в Университете на самом блестящем уровне. Вот чуть поодаль сидят Михаил Седлецкий – выдающийся зоолог, потомок знаменитой академической семьи Кракова, и его коллега по факультету естественных наук профессор Ядвига Волошинска. Взгляд пана ректора различает на скамье третьего ряда грузную, массивную фигуру профессора философии Житковски, и начинает лучится ласковостью и любовью. «Гневливый Сократ», «неистовый профессор», похожий на вечно бурлящий вулкан университетский «пророк», которого боготворят студенты. Вечно терзающийся, не жалеющий себя, безжалостно приносящий себя на алтарь творчества и исканий «смутьян» и «бунтарь», которому всегда и везде тесно, нестерпимо в любых рамках, благородная и страдающая душа которого не знает, и наверное никогда не узнает покоя. Пишущий книги, которые завлекают и не могут оставить равнодушным с первых строк, с этих же строк, зачастую в пренебрежение академическими канонами философских и научных текстов, горящие вдохновенной, полной трепета и искренностью вопрошания мыслью. Смелый критик реалий, откровенный и честный сторонник непопулярных идей и вызывающих неприязнь сомнений. Настоящий философ. Тот настоящий поляк и гражданин, бескомпромиссный ревнитель справедливости, которым, как часто думалось и думается пану ректору, может быть только рожденный в Польше еврей. Его отношения с коллегами и наставниками всегда были полны острых углов. Хшановски, к примеру, декан философского факультета в годы обучения Житковски, в своем стройном, воспитанном на классическом наследии мышлении, так и не понял и не принял мышления молодого Житковски – дышащего «бунтарством», напряженностью и терзаниями, мукой «бодрствующего» и ищущего духа, ничтоже сумняшися готового ниспровергнуть самое святое на пути к истине, к ответу на сонм непрерывно кровоточащих, словно рана не заживающих вопросов. Их непонимание заставило Житковски в отчаянии и «бунте» демонстративно оставить Университет, отказавшись от блестящих перспектив докторства, так редко сразу доступных пусть даже очень талантливому выпускнику. Он – личная гордость пана ректора. Благодаря содействию пана ректора, Житковски вернулся в Университет ассистентом профессора и вскоре стал доцентом, прошел «хабиат» – именно пан Лер-Сплавинский дал поразившую всех, высокую по оценкам рецензию только что вышедшим книгам Житковски о русских истоках экзистенциальной философии, и написал ходатайство ученому совету и тогдашнему ректору университета Мархлевски, о необходимости проявить мудрость и принять в ряды преподавателей человека, свершения которого на ниве философии обещают стать гордостью Ягеллонского университета. И хоть жить с профессором Житковски и держать его в списке сотрудников, по причине бескомпромиссности оного не легко, ой же как не легко, вспомнить хотя бы его официальные выступления во время прошлогодних «мирных событий» или его неискоренимую, ни с чем не считающуюся привычку переводить на лекциях и в публикациях вечные и самые ключевые дилеммы этики и метафизики в плоскость событий и явлений настоящего, пан ректор счастлив, что делит с этим, вечно и до глубины терзающимся, не дающим покоя окружающим, тучным и громоподобным «смутьяном» университетские стены и коридоры. Такие люди должны быть рядом, обязательно должны – чтобы душа не переставала работать и что-то требовать, а ум не начинал себе лгать, не уставал усомняться в том, что давно кажется очевидным и неоспоримым. Вот эти люди, цвет и гордость его страны, молча замерли и глядят на него, во вперенных друг в друга взглядах понимают друг друга и то бесконечно многое, что бурлит в их душах и проносится в их мыслях. Они ждут от него слова.
Готовясь произнести это слово, ректор Ягеллонского университета, профессор и академик знаменитых учебных заведений Европы и Польши, пан Тадеуш Лер-Сплавински конечно еще не знает, как пророчески верны его предчувствия относительно грядущих трагических испытаний. Он не знает, что многим из тех людей, которым он сейчас глядит в глаза, о которых с гордостью и теплом думает как о достоянии его страны и культуры, в самом скором времени суждено будет потерять свободу, некоторым – погибнуть в концентрационном лагере от болезни или будучи зверски забитыми насмерть «эсэсовским» охранником. Более того – многое предчувствующий и в нравственной решимости ко многому готовый, профессор Лер-Сплавинский не знает так же, что подобная перипетиями судьба ожидает и его самого.
– Уважаемое панство! Уважаемые и дорогие коллеги! Уважаемые гости, приглашенные на предполагавшееся сегодня торжество, дорогие студенты! – красивый, напряженный голос пана ректора полился под тонущими в высоте сводами аудитории – Все мы радостно спешили сегодняшним утром под своды и стены родного Университета! Все мы предвкушали сегодняшние, радостные и торжественные события, строили творческие планы и намеревались сегодня их обсудить. Многие из нас должны были выступить с речами и ваш покорный слуга, которого несколько месяцев назад вы облекли честью руководить одним из старейших в Европе университетов, на благо дела и родной Польши, как раз сейчас, в предполагавшихся им словах, должен был очертить перед вами намеченные ректоратом, захватывающие воображение планы работы и творчества на будущий год. Увы, дорогие мои, всему этому не суждено состояться. Задуманное не будет произнесено, а казавшиеся вчера нерушимыми планы, сегодня навряд ли многого стоят и никто не знает, что ждет Университет, страну и нас самих даже в ближайшем будущем. Проснувшись утром и услышав новости, мы обнаружили перед собой совсем не то, что ожидали, планировали и предполагали накануне – уже несколько часов нам предстоят совершенно иная жизнь, повернувшая в полном тумана и испытаний направлении, и родная страна, небо над которой более не мирно и не безоблачно, которую настигли беды. Все мы конечно же надеемся в наших сердцах, что час горьких испытаний минет Польшу и события, о которых мы слышим из репродукторов каждый час, не означают того, чего мы так опасаемся, что так тревожно предчувствуем, и жизнь страны и Университета, наша с вами жизнь, вскоре вновь вернется в привычное, намеченное русло. Мы будем надеяться, пока события, судьба и новости польского радио дают нам на это право. Мы должны надеяться. Но факт остается фактом – сейчас, когда мы с вами собрались в этом старинном зале, где-то быть может уже совсем недалеко рвутся снаряды, грохочут орудия и польские солдаты и офицеры умирают, исполняя свой долг, защищая родную землю перед лицом внезапно атаковавшего, давнего и безжалостного врага. Мы должны надеяться. Но мы должны и обязаны быть готовы к испытаниям, которые отпустит нам и нашей многострадальной стране судьба! Мы должны и обязаны быть готовыми выстоять в этих испытаниях, приложив к этому все данные нам богом силы и возможности, имеющийся у нас жизненный опыт. Мы должны быть готовыми бороться в грядущих испытаниях до последнего, до тех самых пор, пока жизнь снова не станет прежней, какой мы рассчитывали встретить и увидеть ее сегодняшним утром. Мы должны помнить о том, что Польша, страна великого духа и великой культуры, выстоявшая в вековых бурях своей исторической судьбы, терпением и героической борьбой завоевавшая свободу, никогда не откажется от нее и никогда вновь не позволит ее у себя отобрать! Мы должны помнить и о том, как решающе важен именно в часы исторических потрясений и испытаний свет университетского знания, что оплотом свободы и национального духа, воли к борьбе и победе, становятся в них не только поля сражений, а еще и университетские аудитории, позволяющие нам сохранить память и сознание того, кто мы и что мы должны, какие цели стоят перед нами, дающие сберечь в упорстве преподавания и верности знанию наше культурное и духовное достояние. Дорогие мои! Чтобы не случилось, мы, студенты и преподаватели, простые сотрудники и профессора Университета, обязаны помнить о том, какая высокая миссия возложена на наши плечи, что Университет должен продолжить работу при любых обстоятельствах, а своей верностью делу мы сами должны стать примером и точкой опоры для всех вокруг, вселяя в сердца людей веру в неотвратимость нашей победы над судьбой, не позволив им сломиться духом и сердцами. Уважаемое панство, коллеги и студенты! Очень многое было намечено на сегодняшней церемонии, многое же должно было быть сказанным. Из всего задуманного вы услышите лишь эти мои, на ходу рождающиеся слова, я считаю неправильным строить какие-либо планы и мероприятия до тех пор, пока ситуация не обретет определенность. Как только моя речь закончится, я более не буду удерживать Вас, но конечно – не буду и гнать. Вы сможете заняться важным для вас в эти минуты, но если кто-то из вас пожелает задержаться в родных стенах Университета – вы знаете, как эти стены любят и всегда ждут вас. Как только руководству Университета станет хоть мало-мальски известно, что в выстроенных рабочих планах остается возможным, а что нет, оно найдет способ незамедлительно оповестить вас…
Здесь речь и голос пана ректора внезапно срываются – перед его льющейся, наживо облекающейся в слова мыслью, вдруг разверзается та самая бездна неизвестности, утратившего всякую определенность и устойчивость, грозящего страшными и неведомыми бедами будущего, в которую он так ясно взглянул по дороге в зал, и он внезапно понимает, что более не знает, что сказать… Под гулкими сводами залы замирают тишина и пауза, и пан ректор Лер-Сплавински пробегает цепким, напряженным взглядом по лицам. На них, молодых и старых, светящихся опытом и глубиной или внезапно сменивших беспечность и радость юности на серьезную задумчивость, он словно в зеркале видит то, что внутри переполняет его самого – тревогу, озабоченность, силу порывов и любовь к родной стране… Такие разные, запечатлевающие в себе разные времена и судьбы, они едины между собой, едины с ним самим во владеющих ими порывах и чувствах… Он видит в них, что сказанные им только что, на ходу родившиеся слова, выплеснутые в словах мысли и чувства, искреннее и правдивее которых быть не может, нашли глубокий отклик в сердцах собравшихся… И вот, пан профессор внезапно понимает, а еще больше чувствует, чем должен закончить свою речь. И набрав сколь можно больше воздуха в грудь, как можно более протяжно, удлиняя звуки и разрывая слова, занеся руку со сжатым кулаком и сопровождая ее могучими взмахами каждый слог и каждое слово, он кричит, посылает в зал – ВИВА РЕСПУБЛИКА ПОЛЬСКА!!.
Огромный, старинный и только что молчавший зал, будто под нажатием кнопки взрывается – люди начинают аплодировать, на разные лады и голоса кричать, повторять только что произнесенное ректором и иное, вскочив с мест, поддаваясь непонятному порыву и вопреки логике, почему-то обнимают друг друга, трясут друг другу руки, а у многих, в особенности у тех, кто старше, на глазах проступают слезы, да если вглядеться – покраснели глаза и у внезапно обессилевшего пана Тадеуша… Разные судьбами и годами, полом и родом, качествами характера, эти люди, со всей человеческой чистотой и искренностью, в глубоком и правдивом порыве их сердец, а не в гипнозе от отрепетированных речей кровожадного безумца, при их неотвратимой и правомочной разности, внезапно ощущают себя чем-то одним – поляками, гражданами и детьми великой страны, которой угрожает опасность. Старики-профессора обступают пана ректора, пожимают ему руку, некоторые обнимают его, возгласы и речи людей сливаются в единый гомон под высокими старыми сводами, но еще более сильно под ними в это мгновение именно чувство гражданского единения, ощущение себя людьми в любви к родине, в тревоге за ее судьбу одним целым, чем-то бесконечно родственным и слитым, а не чуждым, как при обычных и безопасных обстоятельствах, в дрязгах и буднях привычной жизни.
– Вива Республика Польска! – вскочив, не помня себя, со скамьи и чуть ее не опрокинув, ревет басом и «неистовый профессор», пан Войцех Житковски. Он всегда уважал и любил человека, слова которого так проникли сейчас в его душу, так отозвались в нем. Он скептичен к стенам университетов и тем, кто населяет их, к суждениям, которые в изобилии между ними рождаются. Истина открывается не в университетских коридорах и аудиториях, человек обретает ее наедине со смертью, мраком и загадками мира, мучительными противоречиями жизни и наполняющим его изнутри опытом, вынося на своих плечах бремя свободы, решений и ответственности. Как любят говорить немецкие философы Хайдеггер и Ясперс – философия не есть занятие профессоров, она есть дело человека, рабов в той же степени, что и господ, и видимо при любых условиях и обстоятельствах. Однако этого человека, словно олицетворяющего собой всё то лучшее, что есть в университетской, академической среде, бывшего быть может одним из тех последних настоящих ученых и исследователей, для которых истина не пустой звук, а дело, которым они занимаются – судьба и путь, но не способ социального обустройства, требующего от человека пройти, провести душу и ум через лабиринты изощренного ханжества, он давно и искренне любил и каждое, произносимое тем слово, казалось Войцеху рождающимся в его собственной душе, слетающим с уст его самого. Он хочет протиснуться к пану ректору, чтобы пожать ему руку и сказать слова благодарности, но внезапно чувствует, что его душат рыдания… Сжав плотно челюсти, пытаясь не дать слезам навернуться на глаза, он протискивается до двери, облокачивается на стену у окна в вестибюле, в который вытекает из залы множество людей…
– Войцех! – за спиной пана профессора внезапно раздается чистый интонациями, мягкий, чуть приглушенный возглас.
Глава шестая
Не красота спасёт мир
Наконец-то! – Магдалена Збигневска, двадцати восьмилетняя красавица блондинка, скульптурной красотой лица похожая на польских королев со старинных портретов, «нашла в себе мужество», как она сама посмеялась над собой в мыслях, и решилась открыть глаза. Проснулась Магдалена уже не менее как получаса, но заполнявшее ее по пробуждению ощущение блаженства и абсолютного покоя, никакого желания открыть глаза, встать с постели и заняться положенными и намеченными делами, вернуться в жизнь не вызвало, напротив – ей хотелось, чтобы чудеснейшее мгновение счастья и начавшегося дня застыло. Ей некуда было спешить, в отличие от иных дней, воспоминание о намеченных планах и должных состояться делах не окатывало ее привычным ощущением тревоги или озабоченности, не заставляло сосредотачиваться, напрягаться мыслями и душой, и ей хотелось, чтобы мгновение, когда она начала слышать пение птиц в яблоневом саду, на почти влезающих в приоткрытое окно ветках, и легкий, редкий шум дачного предместья, застыло и длилось как можно дольше. Так она и пролежала битые полчаса, а может и дольше – наслаждаясь ощущением совершенного покоя, пахучим холодком из окна и обрывками звуков, прочно воцарившимся в ней с пробуждением чувством и сознанием – как же все у нее хорошо. Потом, конечно, ее душу и мысли стали заполнять воспоминания о множестве мгновений минувшей ночи, о сказанном… о пережитых чувствах и о том, что в какой-то момент ей показалась, что она совершенно обезумела и забыла себя, о поцелуях и объятиях Войцеха (еще не раскрыв глаз, при этих особенно воспоминаниях она, и без того блаженно улыбающаяся, как-то с восторгом и легким гоготком засмеялась и замотала головой, разметав роскошные, длинные и чуть вьющиеся, цвета немного полежавшего сена волосы, заерзала спиной на постели). Кто бы мог подумать, что этот человек, грузный басящий медведь (если бы он был рядом, то она наверное вцепилась бы руками в его шевелюру, сколько хватило сил повертела бы ему голову, а после нежно прильнула губами к волосам и лбу), способен и на такую страсть, и на такую чуткость и трепетность отношения к ней! Что всё вообще может быть в эти мгновения и в этой ситуации так… Чудесно. Чисто. Искренне. Не оставляя ни малейшего привкуса стыда и разочарования после, как это бывало в ее жизни. Всё сильнее, как утренний прибой на море, подступавшие и накатывавшие воспоминания, были сложны и наполнены, заставили ее вдумываться в пережитое и собственные чувства, а значит – хочешь или не хочешь, надо было вставать. И неожиданно для себя, Магдалена резко и с упругой легкостью села на кровати, а после вскочила на ноги, подняла руки над головой, подчеркнув чудесной стройности, облегаемую ночником фигуру, завертелась, будто в балетном па, и еще раз засмеялась от изумительного чувства счастья, покоя и совершенства мгновения. В ее жизни свершилось чудо – она полюбила, обрела, встретила близкого человека, слилась с ним. Она знала этого человека и близость с ним была правдива, а не порождена властью иллюзии или заблуждением. Она была с ним, в чувстве к нему совершенно искренна, она любила его, желала ему добра и счастья, понимала этого человека в самых разных гранях и чертах его существа, в его мыслях и поступках, в его подчас страшных, сжигающих и терзающих мучениях, которые ее совсем от него не отпугивали. Они были по сути очень близки и понятны, во многом знакомы ей… Она не просто была способна и готова разделить их, принять в человеке, которого полюбила, эту его трагическую сторону… Ее к этому в нем тянуло, влекло, причем с самого начала… Она видела в этом его человеческую настоящность, чем-то очень важным и давним в себе это разделяла, отчего их близость, случившаяся в ее судьбе встреча с ним, их состоявшееся сегодняшней ночью слияние до конца, были для нее в особенности счастьем, а драгоценны – словно сама жизнь… Ведь так и с жизнью! Она по самой ее сути трагична, наиболее важным в ней подчас нестерпимо мучительна и становится чуть ли не адом, но при этом бесконечно ценна и может быть полна смысла, таит в себе удивительные возможности, которые дарят смысл и кажущееся невероятным счастье… Магдалена не раз поражалась мыслям об этом, а сейчас они в особенности ее радуют и лишь усиливают чувство счастья, покоя и чуда мгновения… Ведь этой ночью она обрела то, что не менее творчества является в жизни условием смысла и счастья, делает счастье полным – близость, самую настоящую и несомненную, ее правдой поразительную, слияние до конца с любимым человеком, разделенность в нем, возможность срастить с ним судьбу, жить его сутью и душой. Она уже довольно долго жила его существом, его чувствами, планами и побуждениями, понимала их и в этом была им сопричастна, откликалась им и разделяла их собственной сутью и опытом… Она жила им так же, как за фортепиано живет смыслами и чувствами, которые застыли в извлекаемых ею из клавиш звуках. Она чувствовала, нет – она сегодня утром знала и была уверена, что и отношение его к ней таково же… И это было счастье.
Свет, проникавший в спальню на втором этаже из приоткрытого окна, а так же доносившийся с вечно почти пустых, сонных улочек дачного предместья шумок, убеждали Магдалену, что уже далеко не раннее утро, но это совершенно ее не тревожило. Ей некуда спешить. Когда она приедет в Университет совершенно не важно и вообще – отныне время и заботы решительно должны застыть, отказаться от своих претензий, пойти к черту! Вечером она здесь же, в домике посреди яблоневого сада, будет готовить Войцеху и когда настанет темнота, раскроет окна гостиной внизу и станет ему играть, поглядывая на его растекшуюся по старомодному кожаному дивану фигуру. А значит – ей предстоит сказочный, полный чуда, счастливый день. И плевать она хотела на время. А почему, собственно, ждать до вечера? Рассмеявшись прекрасной идее, она застучала чудными, босыми и упругими ногами по деревянной лестнице, скакнула в гостиную за старый рояль – покупка для нее инструмента и была, собственно, поводом ее приглашения на дачу, откинула крышку и сильно, с некоторой ироничной нарочитостью ударяя по клавишам, заставила прекрасно настроенный инструмент зазвучать помпезными, полными победной уверенности и старомодной шляхетской манерности звуками шопеновского «Grande Polonаese» – только эти звуки соответствовали охватившим ее чувствам. Доведя фразу до ритмического завершения, она вновь рассмеялась, обрушила с грохотом крышку инструмента, залетела, проскочив через кухню, в ванную. Ей вдруг захотелось увидеть себя, увидеть, что же собственно этот человек, с искренним обалдением на его широком, краснеющем, иногда кажущемся детским лице, шепча и бормоча, называл ночью «чудом». Скинув ночник, она вдруг со спокойным, рассудительным и пристальным вниманием посмотрела на свое отражение в большом зеркале. Да, она красива. У редких девушек сегодня встретишь такую выпуклость бедер, тонкость талии, стройность и чистоту контуров ног… грудь у нее полна и упруга, волосы хороши, что до лица – не один только Войцех сравнивал ее с королевами на старинных портретах. Ей и вправду посчастливилось родиться и расцвести красивой, избежать мучительной участи женщин, на которых мужчинам не просто не хочется, а иногда трудно и неприятно глядеть. Да, она красива, и множество мужчин с давних пор желают ее. Она давно почувствовала, что красива, и это чувство, как нечто неотъемлемое, подобно тому невольному уважению, которое вызывает у окружающих Войцех – огромный, высокий и мощный телом мужчина – сопровождает ее жизнь с лет юности. Сначала, лет в пятнадцать, она поняла это по способности неожиданно приковывать внимание и взгляд и мужчин, и женщин, где бы она ни появлялась. Глаза мужчин начинали восхищенно блестеть, а глаза женщин – блестеть столь же восхищенно, но с оттенком завистливого уважения и признания. После – лет в восемнадцать, она ощутила это по тому могучему, странному во взгляде мужчин, что заставляло их самих невольно смущаться и опускать глаза, начинать суетитьcя при ее появлении где бы то ни было, быть забавно и по старомодному галантными и пытаться всемернейше угождать. Всякий из них желал как можно более проводить с ней время – ее поражало стремление к этому даже мужчин, значительно старше ее. Она привыкла к их мгновенному и полному вниманию с ранних лет и как к чему-то, совершенно неотделимому от ее жизни и присутствия в мире. Они желали обладать ею, делать ночью с ней обнаженной, сверкающей красотой совершенного тела то, что с лет юности ей самой украдкой и часто подсказывала фантазия, о чем девушки начинают, звонко смеясь, шептаться еще в старших классах гимназии. Возможность делать с ней и подобными ей женщинами это, для мужчин необычайно важна – она поняла это рано, и поскольку речь шла о том, что по умолчанию ощущалось окружающими людьми в жизни исключительно важным, не очень отдаленным стал и тот момент, когда она, невзирая на довольно строгое воспитание в традиционной католической семье, решилась узнать, о чем же идет речь и позволила одному из наиболее ревностно и настойчиво обхаживающих ее мужчин, старшему ее на четыре года студенту из консерватории, красавцу-композитору, необычайно уверенному в себе, но в ее присутствии эту уверенность терявшему, сделать то, что он так хочет. Ложью будет сказать, что она была совсем разочарована. В первый раз это было по большей мере чудно и интересно, заставило еще больше ощутить уверенность в себе и своей власти над мужчинами. После – доставляло огромное наслаждение телу и всякий раз становилось доводившим до паморока, застилавшем сознание, заставлявшем надолго забыть о жизни, о делах и заботах, словно опьянявшим потрясением. Однако – очень быстро выяснилось, что мужчины, с которыми это происходит, после этого как правило становятся ей неприятны и скоро становятся неприятными ей и в обычной жизни… Она пользуется ими, как оказывалось понято по здравому размышлению, а они – ею, и всё это в конечном итоге становилось неприятным тем образом, который она называла словом «нравственно», имея в виду какие-то тяжелые внутренние, глубоко личные переживания, было неприятно и подчас совершенно неприемлемо в той же мере, в которой исключительно важно и радостно для тела и ощущений, необходимо для давно заявившего о себе природного побуждения. Более всего ее поражало ощущение глубокой чуждости ей мужчин после того, как она сливалась с ними телом, желание отдалить их от себя, не видеть их. Дальше – больше. Довольно быстро она, необычайно красивая и вызывавшая желание и внимание у всех встречавшихся ей мужчин, начала и чувствовать, и понимать, что причиняет боль себе, поступает вопреки себе, преступает против чего-то, в самой себе очень важного, когда позволяет себе и мужчинам удовлетворять эти очень сильные, всем известные побуждения. Наконец, по прошествии не очень долгого времени, она со всей ясностью ощутила, что как бы ни были сильны эти побуждения, какое облегчение и наслаждение для тела не приносила бы близость с мужчинами и как магически доступна не была ей эта близость практически с любым из них, к которому она выказала бы простое внимание или благоволение, она просто больше не может продолжать причинять себе боль, унижать и осквернять себя, позволяя себе это, не может и во внутреннем решении не хочет поступать так. Ощутила это Магдалена безоговорочно, в правде и силе внутреннего нравственного чувства, против которого ни при каких обстоятельствах, под властью самых сильных побуждений и соблазнов нельзя преступить. В еще недавно по своему радостном и важном, совершавшемся и приходившем в ее жизнь без каких-либо преград, настолько кажется естественном, неотделимом от жизни и человеческих побуждений, таком наконец доступном ей, она неожиданно и загадочно ощутила нечто, противоречащее ей самой, неприемлемое ей, разрушающее ее нравственно, словно бы ее саму, Магдалену Збигневску, отрицающее. Она вдруг обнаружила, что чувствует эту себя саму и этой ей такое естественное, доступное и неотделимое от жизни, важное и приятное для тела – отдаться желанию и страсти, позволить красивым, вежливым и в достаточной мере поухаживавшим мужчинам желание удовлетворить, обладая ею и ценя ее за подаренную им возможность, использовать их для подобного и дать им использовать себя, более, со всей внутренней непререкаемостью и решительностью неприемлемо, невозможно. Она больше не может поступать так. Такие отношения ей более неприемлемы и мучительно, подчас до настоящего потрясения неприятны. Это было неожиданно. Это было странно и заставило ее начать думать, разбираться в себе, пытаться понять себя в таком новом, внутреннем и противоречивом опыте. И было над чем подумать! Ведь приглядываясь к большинству мужчин и женщин вокруг себя, разных возрастов, судеб и социальных слоев, образованных и простоватых, она со всей безошибочностью видела, что это является для них в отношениях наиболее важным – это и еще дети да налаженный, уютный быт, называемый ими «семья». А когда это в их отношениях, по тем или иным причинам становится невозможным или же возможным не так, как им хотелось бы, их связи распадаются, они начинают изменять друг другу, обнаруживают взаимную чуждость и иногда даже – что вообще друг друга ненавидят. Ей же, которой радости любви и жизни, в любом желаемом ею преломлении, доставались безо всякого труда, в той форме и в таком количестве, которые она сама устанавливала, эти самые, столь вожделенные всеми вокруг и для большинства исключительно важные «радости» стали неприятны, нравственно мучительны и по здравому размышлению, в обращении к своим настоящим внутренним побуждениям и чувствам, вопреки их естественной приятности и востребованности в общем-то не нужны. То есть конечно быть может нужны, ибо природа требует своего, но как-то не так, при условии и значительно после чего-то куда более важного и нужного, чего-то личного. И двадцати двух летняя красавица-полька, блестящая пианистка третьего курса музыкальной академии Кракова, останавливавшая взгляды и дыхание мужчин от восемнадцати до пятидесяти, начала думать, чего же.
Цепь долгих, и вследствие важности и загадочности, радикальности дилеммы напряженных размышлений, привела ее к выводу, что ей, чтобы еще раз позволить себе отдать себя мужчине, по видимому нужно мужчину любить, испытывать к нему что-то очень личное, внутренне правдивое и ясное. Что с мужчиной, которому она позволит себе отдаться, ее должно связывать что-то личное, внутреннее, нравственное, гораздо более глубокое и настоящее, более важное, нежели желание. Этот мужчина должен быть ей понятен, интересен и близок как человек. Она должна ощущать себя связанной с ним делами и планами, самыми важными внутренними побуждениями, жизнью и судьбой, наконец, а не не одним лишь желанием обладать его телом и испытать удовлетворение от того, что он обладает ею. Она должна ощущать всю внутреннюю ясность и правду чувств к такому человеку, человеческих и личностных чувств, а то самое главное внутри, что ее тревожит и заботит, к чему-то побуждает, определяет ее решения, ее зарождающиеся в мыслях планы и цели, должно найти в таком мужчине отклик. Вот в этом всем, многом и сложном, она вдруг увидела непререкаемое условие такого еще не давно простого и доступного – возможности стать близкой телом и отношениями с каким-то из многочисленных, окружавших ее обожателей. При мысли о том, чтобы еще раз позволить себе слиться с кем-то, кто ей по сути не ведом, не близок душой и по настоящему не интересен, использовать его для этого и после ощутить нравственную боль и пустоту, мучительную чуждость того, кто только что был в ней – она начинала чуть ли не с испугом кричать себе мысленно «нет, только не это!», и сжимала челюсти…
Да, она красива, в свои двадцать восемь даже более, чем в двадцать два, но уже в двадцать два, при мысленной констатации этого, она стала задавать себе безжалостный вопрос – ну и что, собственно? Да, это заставляет мужчин вожделеть ее, обещает никогда в обозримом будущем не оставаться в одиночестве, быть уважаемой и популярной, получить достойное предложение руки и родить красивых детей, и поговори с кем-нибудь из сверстниц – подобное единственно и нужно женщине в жизни. Факт в том, однако, что всё это, доступное ей благодаря ее красоте, ей как выясняется, совершенно не нужно, мучительно и пугающе не нужно, или по крайней мере – нужно после очень многого иного, куда более важного. Да, она красива и мужчины жаждут обладать ею, ну и что? Кому из них при этом важно и понятно то, чем она живет внутри себя? Многие ли из этих, восхищенных ее красотой мужчин, разделят тот ужас при мысли о смерти, который уже так много раз накатывал на нее, овладевает ею зачастую при совершенно обычных, спокойных обстоятельствах, после упоения ночной близости с кем-то? Кто из них поймет и разделит весь тот сонм тревог, мыслей и терзаний, смутных еще побуждений, борений и пронизывающих самую привычную жизнь мук и вопросов, который пришел в ее жизнь вместе с этим ужасом? Кто из них испытывал подобное, как-то решал и разрешил это для себя, сможет объяснить, что же с этим – жутким, неотвратимым, что обязательно будет и предстоит, хоть пусть маячит пока еще вдалеке, делать? Кто знает, что делать с таким простым, не отделимым от жизни, но таким жутким – предстоит умирать? Она вглядывалась в мужчин и вообще людей разных возрастов, силясь найти того, кто как-то это решил и поднимал для себя, интуитивно стараясь приблизиться к пожилым, ибо кому же, как не им, думать об этом в первую очередь. Обнаруженное было загадочно и не утешительно – большинство людей, как выяснялось, простых и из мира музыки, средних лет и пожилых, ничего не желают об этом знать, думать обо всем этом, таком простом и неотвратимом, как-то разрешать это панически боятся, не хотят подчас беспрекословно, просто живут, стремясь совершенно не знать думать о том, к чему всё идет и чем всё кончится, что неумолимо ждет. Талантливые мужчины из музыкальной академии, сверстники или уже состоявшиеся, в основном тщеславны, жаждут успеха, популярности у таких, как она, статей в газетах и восхищенно завистливых разговоров за спиной, но этого главного, как попытаешься поговорить с ними, поднимать для себя не хотят. О сверстницах и речи не шло – им, да и вообще многим окружающим, она стала в этих своих вопросах и переживаниях чужда, и иную бы из-за такой чуждости заклевали, но она, царственная и будто с картин красавица, талантливая и подающая колоссальные надежды пианистка, чьи пальцы не теряли ловкости и быстроты даже под листовскими этюдами, заставляла принимать и признавать ее такой, какова она есть. В музыке она слышала и находила это – о да, в музыке находила! Звучащим пафосом бетховенских аккордов, божественной тайной волнительных мелодий Шопена, оркестровой вселенной недавно трагически умершего Малера, очень многим иным… Особенно близок ей был в этом Шопен – у него одиночество и неразделенность в главном, ужас перед смертью, весь сонм мучительных переживаний, с подобным связанных, звучат наиболее убедительно и вдохновенно, проникновенно и ясно, заставляя подчас содрогнуться, чуть ли не умереть самому от полноты чувств и переживаний над клавишами, вынимая из них звуки. Начинаешь вдумываться в нотные записи и играть музыку – и находишь, понимаешь в ней это и многое иное, с этим связанное, вступаешь с ней об этом в диалог. Но попробуй найди диалог об этом, таком важном и изначальном, с окружающими людьми, так часто не глупыми и талантливыми – и наткнешься лишь на пропасть и пелену тщательно оберегаемого неведения, так что лучше уж и не пытаться…
Да, она красива, но что с того? Да, она красива, но в ней, Магдалине Збигневской, молодой девушке, выросшей в старинном доме на Гродской, вдохновенной пианистке, с экстазом играющей Шопена так, что удивляются даже видавшие великих исполнителей краковские профессора, в ней самой, в ней как человеке и личности, разве же нет чего-то более важного, что должно привлекать и вызывать внимание гораздо больше ее красоты, но кажется иногда, малоинтересует и остается не различенным, не узнанным? Что обязаны разделять гурьбой вьющиеся вокруг нее мужчины, которым до этого, главного для нее и в ней, как правило нет никакого дела? Да, послушают конечно, иронично поблескивая глазами, сделают умный вид и изобразят восхищение перед ее «неординарной душой», как непременно скажут, а желают то одного и очевидного, ставшего даже ее оскорблять – уложить ее в сумраке на кровать и обладать, наслаждаться ее красотой, и во имя этого главного для них, готовы потерпеть даже «умные разговоры». Да, она красива и мужчины жаждут обладать ею, но кому из них она интересна как человек и личность, она настоящая, с тем главным, что определяет ее жизнь и поступки и совершенно не сводится даже к роли «супруги», «хозяйки дома», «матери» и т.д., совсем не сводится? Ведь знает, всякий знает, что и за «предложением руки и сердца» в большинстве случаев всё равно таится это, упоение и обезумленность тем, в отношении к чему всегда должна сохраняться трезвая и ироничная критичность…
Всё это по долгому и напряженному размышлению было так. И всё это было проблемой. Потому что означало одиночество, это во-первых. А одиночество, призванное продлится неизвестно сколько – тяжелое испытание, для женщины в особенности. Во-вторых – потому что большая часть окружающих всего этого не могли понять, жили, вступали в отношения и находились в них совершенно иначе, другого ждали от них, и быть «белой вороной», обреченной на непонимание в таком трепетном, знаковом для женщины вопросе, как одиночество и связи с мужчинами, обещало стать испытанием еще тем. Одиноко идущий по жизни мужчина, если он привлекателен и талантлив, кажется загадочным и вызывает бешенный интерес, но одинокая женщина, даже если очень красива, рано или поздно начинает отторгать и кажется аномалией. А в-третьих – природа властно требовала своего и приструнить природу, подчинить ее себе, противоречить ей во имя каких-то высших и неоспоримых побуждений, так же было не просто и подчас очень мучительно. Женщина – рабыня своего пола, увы… И логика природы, и социальная логика ее судьбы как правило не оставляют места для подобных борений и запросов – надо выйти замуж, надо создать семью, родить детей и стать хозяйкой чьего-нибудь дома, время для этого ограниченно и если нет выхода и нужно сделать это с не любимым и не близким человеком, будто выполняя работу и кем-то предписанные свыше обязанности, значит смирись, доля твоя такова, скажи спасибо, если состоятелен, вежлив и умен, готов ради тебя на что-то. Да, она была исключительно красива, талантлива и не глупа, мужчины желали ее и всё это обещало ей не быть одинокой, то есть иметь кого-нибудь, кто заполнит ее дела и время ее жизни, будет рядом… Но способно ли это было избавить ее от настоящего, разверзшегося словно пропасть и неожиданно пришедшего в ее жизнь одиночества личности, одиночества нравственного, означавшего отсутствие близкого, способного разделить ее душу человека? Разве же такое одиночество возможно преодолеть усилием воли и похожими на кавалеристскую атаку попытками непременно, уже сейчас найти и встретить близкого себе, которые обычно обращаются лишь ложью, слепотой и придумыванием чего-то там, где есть лишь пустота? Ведь выдержать одиночество и научиться ему очень трудно – она поняла это сразу, как только чистота и жажда любви, близости и встречи, правды отношений, ее на одиночество обрекли. И в страхе перед одиночеством, не вынеся его муки, человек бежит и готов на что угодно, даже выдумать любовь и близость, вроде бы достойного вызвать чувство любви – эта истина уже в те молодые годы была пережита ею и казалась ей одинаковой для мужчин и женщин, ибо касалась самой сути. Страх одиночества и его мука, отчаянное и паническое стремление от него убежать, использовав во имя этого кого-нибудь, совсем не важно, кого конкретно, в те годы, в ее цветущие и должные быть полными радости двадцать два, казались ей, талантливой и вожделенной красавице, даже большим источником лжи и грязи в отношениях, чем власть желания или социальные условности… Одиночество личности и сути, нравственное одиночество, таящее в себе глубочайшую правду свободы и жажду любви, встречи и обретения, близости, не знает жалости и требует научиться ему – это она поняла давно. Разве люди не находятся во власти такого одиночества? Разве оно может быть преодолено не одним только чудом встречи, а чудо это, Магдалена быстро поняла, еще узнай, случится или нет? Разве не еще более страшно одинок человек, когда соединен судьбой и жизнью с тем, кто ему чужд, не близок до конца, с кем соединили не любовь и свободный выбор, а необходимость, роли, какие-то обязательства?.. В двадцать два Магдалена поняла – предстоит одиночество. И она научилась быть одинокой. И ноктюрны Шопена, вылетающие из под ее тонких пальцев и удивительно сильных, точных движениями рук, звучали с какой-то невероятной глубиной чувств и проникновенностью, она словно научилась шептать, исповедоваться ими о том, что в таком раннем возрасте было пережито ею внутри. И окружающим мужчинам, по причине ее красоты, таланта и ставшей уже совсем очевидной человеческой неординарности, она стала этим еще более загадочной и желанной… Она отдалась одиночеству, ожиданию и жажде любви, разделенности и встречи с кем-то, по настоящему близким… И стала еще больше восхищать и привлекать мужчин, и в особенности потому, что жестко проводила черту, если «шляхетный флирт» вдруг оказывался чреватым чем-то более серьезным. Она казалась им в ее одиночестве горделивой, недоступной и блюдущей достоинство своей редкой красоты, желающей чего-то, под стать красоте и таланту исключительного, и от этого десятки мужчин разных возрастов еще более восхищались ею и сходили от нее с ума…
Двадцати восьмилетняя Магдалена смотрит на себя в зеркало. Да, она красива, сейчас еще более, чем тогда. Она находится в расцвете красоты и лет, когда женщина, планирующая артистическую карьеру, должна возможности своей красоты и молодости не то что не губить и обходить вниманием, а использовать вовсю. Да, она красива, но этой красоте быть не вечно – она понимает это, когда глядит на свою мать, некогда тоже легендарную красавицу, и ее, в отличие от большинства женщин, это не пугает. В ней есть нечто гораздо большее, нежели красота, нечто большее дает ей основания для чувства собственного достоинства и уважения к себе, и она желает, чтобы мужчина, судьбу которого она разделит со своей, знал, любил и ценил в ней это большее. Она желает, чтобы мужчина, который станет мужчиной ее жизни, познает ее страсть и любовь, любил в ней более настоящее и важное, нечто более надежное, нежели ее красота. И вот, несколько месяцев назад такой мужчина нашелся, а сегодняшней ночью она до конца слилась с ним, отдала ему себя и познала чудо счастья. Чудо настоящей, чистой в ее искренности и чистоте близости телами. Чудо любви и слияния с близким, любимым человеком. С ее внешностью, включенностью в музыкальный мир Кракова и уже подступающей известностью в музыкальном мире Варшавы, она давно могла бы принять ухаживания многих – талантливых, состоятельных и шляхетского рода мужчин, удачно выйти замуж… Всё это, при такой кажущейся очевидности и логичности, в ее случае было не возможно, потому что до самых последних месяцев ей не встретилось мужчины, которого она любила бы, близкого и родного ей сутью, связать с которым судьбу и свой мир, она почувствовала бы хоть отдаленную готовность и возможность. Вот, теперь в ее жизнь вошел Войцех – настоящий человек, который ее любит, с которым можно разделить самое сокровенное… И даст бог, вместе с чудом настоящей любви, обретением человека, который не может перестать быть интересен и дорог, в ее жизнь придут и самые простые, «обывательские» мечты и надежды женщины, над которыми она так часто, а бывает – и с оттенком презрения, трунит в мыслях…
Да, она красива, но ей нет до этого никакого дела, ей это совершенно не интересно… Да ей иногда даже противно от этого, ибо ничего, кроме этого, мужчины в ней не способны и не желают видеть, а она требует, ультимативно требует, чтобы они видели иное. Ей иногда отвратительны, оскорбительны округленные от восхищения и жажды обладания взгляды – что известно хозяевам этих взглядов о ней самой, о ее душе и о том, чем она живет в мыслях и внутри, в ее судьбе? Способны ли они различить и прочитать в ней всё это, отозваться этому? Да ее иногда охватывала ярость от того, чему до скрипа зубами завидует почти всякая женщина – от безумности желания и восхищения в глазах мужчин, от факта, что с ее талантом и настоящей человеческой сутью и душой, с высотой ее переживаний и упорным трудом над собой, который наполняет ее жизнь и становится таинством фортепианной игры, со всем, что есть она, Магдалена Збигневска, она зачастую всё равно остается для этих неисправимых ничем скотов только соблазнительной, красивой и вызывающей вожделение плотью, телом, которым желают обладать на разный манер в сумерках! И всё равно не ее душа и талант, не ее труд ценны им, не ее человеческая глубина и настоящность, не суть испытываемых ею побуждений и чувств, а ее, ставшее с годами еще более соблазнительным и вожделенным тело. Да она подчас яростно ненавидит собственную красоту, которая стала для нее чем-то наподобие «железной маски» у знаменитого героя Дюма, из-за которой зачастую не видят, не желают и не способны видеть ее саму, главное и настоящее в ней! Она, чуть ли не боготворимая красавица, бывает завидует дурнушкам, внешность которых не мешает мужчинам различить и оценить их пусть даже самые простые, полезные для жизни и семейных дел человеческие черты! Разве то, что испытывали к ней множество мужчин, имело какое-то отношение к ней лично, было связано со знанием ее, с глубоким внутренним соприкосновением с ней их душ, было человечно и могло быть названо словом «любовь»? Большинство из них вообще способно было любить женщину? Да конечно же нет и теперь, познавшая любовь – в себе и в мужчине, она знает, что нет и как же права она была все эти годы одиночества! Она заслужила правдой, чистотой и мужеством одиночества то, что судьба окончательно подарила ей сегодняшней ночью – счастье и любовь! «Способность любить – редкий цветок», так несколько месяцев назад изрек всегда упоенный мыслями Войцех, и эти слова были необычайно близки и понятны ей, запали ей в память… Человек взращивает эту способность в самом себе – трудом над собой, суровой безжалостностью к себе, собственным побуждениям и соблазнам, внутренней нравственной честностью и стремлением к ясным, правдивым чувствам, умением мыслить о себе… решимостью на одиночество… И если она, Магдалена Збигневска, обрела награду – то вполне заслуженно… Она в последнее время, перед знакомством с Войцехом, стала чуть ли не стесняться, ненавистно цураться своей красоты, откровенно грубить в обращении многочисленным обожателям и ухажерам, безо всяких экивоков и глядя нередко с уничижительным презрением, обрывать немедленные при знакомстве с ней попытки флиртовать, так что даже слух пошел, мол превращается красавица Магдалена Збигневска в настоящую и самую банальную «старую деву»… А вот теперь, с Войцехом – думает Магдалена, спокойно и с легкой улыбкой глядя на свой изумительный профиль – она своей красоте счастлива и счастлива вызывать в Войцехе желание, которого он, словно большой добрый ребенок, подчас стесняется, которое старается сдерживать даже в те мгновения, когда подобное глупо, счастлива ловить на себе его взгляды, светящиеся желанием и трепетной нежностью одновременно. Всё стало просто, всё обрело свое, не большее, но и не меньшее место. Она ощутила и поняла сегодняшней ночью – отдать себя и собственную красоту любимому человеку, доставить ему этим радость, словно то же самое, что помочь ему или поддержать его в трудностях, побороться за осуществление его надежд, то есть сделать ему добро и благо… но не это их соединяет и влечет… И не это, конечно же, есть суть любви… Это – лишь красивая, по простому радостная, но малая составляющая их любви, их ставшего чудесного единения и обретения друг друга. Войцех, она верит, будет любить ее даже тогда, когда ее грудь обвиснет, лицо покроется морщинами, а ноги станут испещрены венами. Не это влечет его к ней. Не это их соединило. Не это сохранит их близость во времени.
Все эти мысли, переживания и воспоминания, проносятся в Магдалене, пока она разглядывает себя в зеркало, приводит себя в порядок, варит кофе на старой деревенской кухне, в окружении подвешенных под потолком медных сотейников и связок с луком. Она всегда любила деревню, тишину, таинственность окружающих деревенские дома садов, архаичность деревенского быта. Даже это сегодня чудесно… нет, сегодня решительно ее день! Да и вообще – она почему-то уверенна, что счастье пришло в ее судьбу и жизнь отныне прочно, вот ей же богу…
Таким образом, в тот час, когда сотрудники Ягеллонского университета уже дважды стояли под репродукторами в неоготических коридорах и слышали выпуски трагических, словно гром с неба неожиданных новостей, когда профессор Житковски успел многократно обмыслить эти новости и обсудить их с Кшиштофом Парецки и паном Мигульчеком, а ректор университета Тадеуш Лер-Сплавинский сдерживал шаг в зал для церемоний, думая о словах, с которыми должен обратиться к публике, когда польские части вступали отчаянные бои с немцами под Данцигом, Тчевом, Закопане и многими другими городами, дипломаты же разных стран, в многочисленных кабинетах и цепко глядя друг на друга, обсуждали случившееся и необходимые немедленно действия, Магдалена пребывала в блаженном неведении относительно происходящего в мире и ее стране. Для нее всё еще длилось чудо последнего, неожиданно похолодавшего летнего вечера, бывшей за вечером ночи и обещанного пением птиц в саду и запахом яблонь счастья близости и любви. Удаленная от профессора Житковски на добрых пять километров и четыре часа их раннего в полутьме расставания, она испытывала, собственно, те же чувства и то же могучее дыхание самых трепетных и личных надежд, что и он, просто как-то по своему. Лишь уже очень высокое стояние солнца, замелькавшего над кронами яблонь, заставило ее подумать о том, что происходит вокруг и увидеть примостившееся над вязками лука, на полочке для молочных крынок радио. Включив его, она как раз попала на одиннадцати часовой выпуск новостей, в котором тенор Юзефа Малгожевского сообщил ей то же, что три часа перед этим и всей Стране Польской… Магдалена присела на табуретку возле плиты… через несколько мгновений выражение ее лица стала каким-то невероятно сосредоточенным… Спокойным, но быстрым движением, она отставила чашку с кофе, такими же спокойными, быстрыми, четкими и контролируемыми движениями поднялась наверх, надела темно-синее платье, в котором вчера приехала и спустилась к выходу, внезапно обнаружив, что они с Войцехом в пол седьмого утра не договорились на счет ключей. Точнее, что он по привычке забрал их с собой. Это задержало ее лишь на секунду – плотно и спокойно притворив за собой дверь, она вышла на тихую, практически безлюдную, поросшую яблонями, орехом и голубыми елями улочку дачного предместья. Вчера, едущие в машине и не способные думать ни о чем другом, кроме того, что как они предчувствовали, должно было между ними произойти, решившие расстаться утром подобным описанному образом, они не задались так же и тем простым вопросом, как Магдалена будет выбираться из предместья днем, когда решит вернуться в город. Городские автобусы ходили сюда редко, а извозчики и таксисты заезжали, лишь когда доставляли пассажиров, пешком же до ближайшего трамвая было далеко. Однако, Магдалене повезло – пан Смольчански, старый и живущий одиноко через два дома врач, по каким-то неотложным делам спешил в Краков, уже запряг сам, как привык, любимую двуколку, пустил ее доброй рысью и через менее чем полчаса Магдалена увидела шпиль за рыночной площадью Клепажа, а еще через несколько минут быстрым, спокойным и четким как музыкальный размер шагом, очень для себя привычным, поднималась на второй этаж Коллегиум Новум, в большую залу, где как она знала, должна была проходить в этот момент торжественная церемония. Она была удивлена, обнаружив распахнутые в вестибюль двери, льющийся через них академический люд… увидеть широкую спину и возвышающуюся над толпой шевелюру Войцеха возле окна, ей было не трудно. Здороваясь со знакомыми, она протиснулась через многочисленные, оживленно говорящие понятно о чем группы людей, и почти упершись в спину профессора Житковски произнесла аккуратно – Войцех!..
Глава седьмая
Власть музыки
Профессор Житковски рывком обернулся. Магдалена стояла перед ним, совершенно другая, чем он оставил ее всего четыре с небольшим часа назад – не разомлевшая, как и он, от их чудесного счастья, а собранная, всё уже знающая и какая-то особенно мудрая в выражении лица и глаз, пристально и спокойно заглядывающая в глаза ему и словно пытающаяся прочесть там то, что он, давно успев узнать о развернувшихся событиях, о таковых думает. Ее глаза говорят ему, что произошедшее ночью, не теряя своей значимости для них, по умолчанию должно быть сейчас отставлено в сторону. Как еще непривычно и радостно, трогательно слышать это «Войцех!», как оно ласкало бы в иной ситуации слух – ведь знакомые уже несколько добрых месяцев, на «ты» они перешли только минувшей ночью. Особенная близость, возникшая в отношениях «неистового профессора» и его красавицы-аспирантки, известной краковской пианистки, конечно уже некоторое время бросилась в глаза многим, однако здесь, в вестибюле, полном взволнованно обсуждающих трагические события коллег, он не считал возможным позволить себе то, что невзирая на эти события, конечно желал сделать и в иных обстоятельствах бы сделал непременно – броситься к ней, сжать ее в объятиях, сколько доступно, поцеловать ей лоб и волосы. Он конечно же не собирается скрывать всё, что между ними произошло, напротив – как только они поймут, в каком формате подать окружающим их родившуюся и состоявшуюся любовь, она немедленно станет известна, но не сейчас и не здесь. Он сдерживается, лишь кладет ей огромную руку на плечо, чуть сдавливает, произносит – «Здравствуйте, пани Магдалена, прошу Вас со мной в кабинет!». Они направляются по готическому коридору.