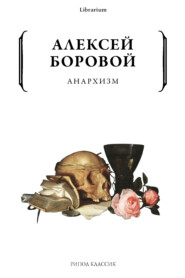скачать книгу бесплатно
Они мираж пред властью моего «я»! Права как права, стоящего вне меня или надо мной, нет. Мое право – в моей власти. «…Я имею право на все, что могу осилить. Я имею право свергнуть Зевса, Иегову, Бога и т. д., если в силах это сделать… Я есмь, как и Бог, отрицание всего другого, ибо я есмь мое все, я есмь единственный!»
Но огромная внешняя мощь штирнеровских утверждений тем решительнее свидетельствует об их внутреннем бессилии. Во имя чего слагает Штирнер свое безбрежное отрицание? Какие побуждения жить могут быть у «Единственного» Штирнера? Те как будто социальные инстинкты, демократические элементы, которые проскальзывают в проектируемых им «союзах эгоистов», растворяются в общей его концепции, отказывающейся дать какое-либо реальное содержание его неограниченному индивидуализму. «Единственный» – это форма без содержания, это вечная жажда свободы «от чего», но не «для чего». Это – самодовлеющее бездельное отрицание, отрицание не только мира, не только любого утверждения во имя последующих отрицаний – это было бы только актом творческого вдохновения – но отрицание своей «святыни» как «узды и оковы», и в конечном счете отрицание самого себя, своего «я», поскольку может идти речь о реальном содержании его, а не о бесплотной фикции, выполняющей свое единственное назначение «разлагать, уничтожать, потреблять» мир.
Бездельное и безотчетное потребление мира, людей, жизни и есть жизнь «наслаждающегося» ею «я».
И хотя Штирнер не только утверждает для других, но пытается заверить и себя, что он, в противоположность «религиозному миру», не приходит «к себе» путем исканий, а исходит «от себя», но за утверждениями его для каждого живого человеческого сознания стоит страшная пустота, холод могилы, игра бесплотных призраков. И когда Штирнер говорит о своем наслаждении жизнью, он находит для него определение, убийственное своим внутренним трагизмом и скрытым за ним сарказмом: «Я не тоскую более по жизни, я „проматываю“ ee» («Ich bange nicht mehr ums Leben, sondern „verthue“ es»).
Эта формула пригодна или богам, или человеческим отрепьям. Человеку, ищущему свободы, в ней места нет.
И нет более трагического выражения нигилизма, как философии и как настроения, чем штирнерианская «бесцельная» свобода[1 - Однако штирнерианству неопасны обычные «разъяснения» его из лагеря марксистов. Попытки характеризовать его как «буржуазную отрыжку», бьют мимо цели. В штирнерианстве есть элементы, совершенно чуждые «капиталистической культуре». А чисто анархические моменты отрицания, разумеется, не могут быть восприняты Бернштейном, Плехановым и проч.].
Таким же непримиримым отношением к современному «религиозному» человеку и беспощадным отрицанием всего «человеческого» напитана и другая система абсолютного индивидуализма – система Ницше[2 - О Ницше и особенно «системе» Ницше надлежит, впрочем, говорить с чрезвычайной осторожностью, дабы «упрощениями» и «стилизацией» не исказить подлинного Ницше. В замыслах его – исключительно глубоких, сложных и художественно значительных – легко открыть любое «миросозерцание» и найти любое «противоречие». Внешне, в плане общих проблем индивидуализма, Ницше доступен любому «приспособлению». И моя задача здесь заключается не в общей характеристике учений Ницше, не в выявлении их essentialia, но лишь в указании на неизбежность морального тупика для неограниченного индивидуализма, поскольку он имеет место у Ницше.].
«Человек, это многообразное, лживое, искусственное и непроницаемое животное, страшное другим животным больше хитростью и благоразумием, чем силой, изобрел чистую совесть для того, чтобы наслаждаться своей душой как чем-то простым; и вся мораль есть не что иное, как сильная и продолжительная фальсификация, благодаря которой вообще возможно наслаждаться созерцанием души…» («Ienseits von Gut und В?se», § 291).
Истинным и единственным критерием нравственности является сама жизнь, жизнь как стихийный биологический процесс с торжеством разрушительных инстинктов, беспощадным пожиранием слабых сильными, с категорическим отрицанием общественности.
Все стадное, социальное – продукт слабости. «Больные, болезненные инстинктивно стремятся к стадной организации… Аскетический жрец угадывает этот инстинкт и стремится удовлетворить ему. Всюду, где стадность, требовал ее инстинкт слабости, организовала ее мудрость жреца» («Генезис морали», § 18).
И в противовес рабам, «морали рабов» – Ницше творит свое учение о «сверхчеловеке», в котором кипит самый верующий пафос.
Из созданных доселе концепций сверхчеловека следует отметить две, полярные одна другой: Ренана и Ницше.
Первый хотел создать сверхчеловека – «intelligence sup?rieure» – истреблением в человеке зверя, выявлением в нем до апофеоза всех его чисто «человеческих» свойств. Идеал Ренана – чисто рационалистический: убить инстинкты для торжества рассудка. Ренановский сверхчеловек – гипертрофия мозга, гипертрофия рассудочного начала, апофеоза учености.
Сверхчеловек Ницше – его противоположность. Ницше стремится убить в сверхчеловеке все «человеческое» – упразднить в нем проблемы религии, морали, общественности, выявить «зверя», побить рассудок инстинктами, вернуть человеку здоровье и силы, потерянные в рационалистических туманах. «Мы утомлены человеком», – говорит он (Там же, § 12).
И он поет гимны – силе, насилию, власти.
«Властвующий – высший тип!» («Посмертные афоризмы», § 651.) Он приветствует «хищное животное пышной светло-русой расы, с наслаждением блуждающее за добычей и победой» («Генезис морали», § 11), «самодержавную личность, тожественную самой себе… независимую сверхнравственную личность… свободного человека, который действительно может обещать, господина свободной воли, повелителя…» (Там же, отд. 11, § 2). «Могущественными, беззаботными, насмешливыми, способными к насилию – таковыми хочет нас мудрость: она – женщина, и всегда любит лишь воина!» («Так говорил Заратустра».)
Ницше не боится рабства. «Эвдемонистически-социальные идеалы ведут человечество назад. Впрочем, они… изобретают идеального раба будущего, низшую касту. В ней не должно быть недостатка» (Приложение к «Заратустре», § 671).
Но стоит сопоставить гордые формулы самоутверждения с их подлинно реальным содержанием и мы перед зияющим противоречием.
Вместо сильного, этически безразличного «белокурого зверя» мы видим тоскливо мечущееся обреченное человеческое существо, готовое на жертвы, мечтающее о смерти – победе, как желанном конце.
«Велико то в человеке, что он – мост, а не цель… Что можно любить в нем, это то, что он – переход и падение…»
«Выше, нежели любовь к ближнему, стоит любовь к дальнему и будущему: еще выше, чем любовь к людям, ценю я любовь к вещам и призракам», – вдохновенно учил Заратустра.
В этих словах – основы революционного миросозерцания. Любовь к дальнему и будущему, любовь к «вещам» – высшая мораль творца, перерастающая желания сегодняшних людей, отвергающая уступки времени и исторической обстановке.
«Не человеколюбие, – восклицает Ницше, – а бессилие человеколюбия препятствует миролюбцам нашего времени сжечь нас» («По ту сторону добра и зла», § 104).
Так спасение духа становится выше спасения плоти. Нет жертв достаточных, которых нельзя было бы принести за него, и нет для спасения духа бесплодных жертв. Они не бесплодны, если гибнут во имя своего идеала. Бесплодные сейчас – они не бесплодны для будущего. На них строится будущее счастье, будущие моральные ценности. Эти жертвы – жертвы любви к дальнему, любви к своему идеалу, и в их трагической гибели – залог грядущего высшего освобождения человеческого духа.
«Я люблю тех, – говорил Заратустра, – кто не умеет жить, их гибель – переход к высшему». «Я люблю того, у кого свободен дух и свободно сердце; его голова – лишь содержимое его сердца, а сердце влечет его к гибели». «Я люблю того, кто хочет созидать дальше себя и так погибает». «Своей победоносной смертью умирает созидающий, окруженный надеющимися и благословляющими… Так надо учиться умирать… Так умирать – лучше всего, второе же – умереть в борьбе и расточить великую душу…» («Так говорил Заратустра»).
В этом трагическом стремлении к гибели заключен высший возможный для человека нравственный подвиг; это не штирнеровское «проматывание» жизни! Но как согласить это вдохновенное ученье со стремлением вымести из человека все «человеческое»!
Не прав ли Фуллье, что «пламенное прославление страдания, как бы прекрасно оно ни было в смысле морального вдохновения, малопонятно в доктрине, не признающей никакого реального добра, никакой истинной цели, по отношению к которым страдание могло бы служить средством».
И другое неизбежное противоречие – между отвращением к стадности и жаждой быть учителем и пророком – раздирает учение философа.
Пусть говорит он о «пустыне», пусть агитатора называет он «пустой головой», «глиняным горшком», пусть заявляет он, что «философ познается бегством от трех блестящих и громких вещей: славы, царей и женщин…», но разве не зовет к себе всех «пресыщенный мудростью» Заратустра, чтобы оделить своими дарами?
И подлинный ужас встает, когда проповедник сверхчеловечества признается в интимнейших своих чувствах, которые не суждено слушать «толпе»: «Мысль о самоубийстве – сильное утешительное средство: с ней благополучно переживаются иные мрачные ночи» («По ту сторону добра и зла», § 157).
Это – гибель всего мировоззрения!
Начать с гордых утверждений полного самоудовлетворения в одиночестве и кончить школой, любовным подвигом, трагической гибелью и трусливым бегством из жизни. Разве это не целая последовательная гамма разочарований…
Штирнерианство – бесплодное блуждание в дебрях опустошенной личности, ницшеанство – скорбный клик героического пессимизма.
Последовательный индивидуализм неизбежно приводит к солипсизму, то есть к признанию конкретным «я» реальности только своего существования, к утверждению всего существующего только как своего личного опыта. «Я» – Абсолют, Творец всего; остальной мир – фантом, продукт моего воображения.
Солипсизм есть категорическое упразднение всего социального.
* * *
Анархизм и абсолютный индивидуализм могут быть названы антиподами.
Анархизм есть также культ человека, культ личного начала, но анархизм не делает из эмпирического «я» центра Вселенной.
Анархизм обращается ко всем, к каждому человеку, к каждому «я». И если не каждое «я» равно драгоценно для анархизма, ибо и анархизм не может не делать различий между подлинно свободным человеком и насильником, пытающимся строить свою свободу на порабощении другого, то каждое «я» – и малое, и большое – должно быть для анархизма предметом равного внимания, каждое «я» имеет равное право для выявления своей индивидуальности, каждое «я» должно быть обеспечено защитой от посягательств другого «я».
И если абсолютный индивидуализм стремится утвердить свободу только данного конкретного «я», анархизму дорога свобода всех «я», дорога свобода человека вообще. Абсолютный индивидуализм не только мирится с рабством других, но или относится к нему безразлично или даже ставит его в угол своего благополучия. Анархизм и рабство – непримиримы. Общество, построенное на привилегиях и ограничениях – несвободно. Там, где есть рабы, нет места свободным людям.
«Я истинно свободен, – писал Бакунин, – если все человеческие существа, окружающие меня, мужчины и женщины, точно также свободны. Свобода других не только не является ограничением, отрицанием моей свободы, но есть, напротив, ее необходимое условие и подтверждение. Я становлюсь истинно свободен только через свободу других… Напротив того, рабство людей ставит границу моей свободе…» («Бог и Государство»).
Анархизм поэтому чужд солипсизму. Для него равно реальны все люди, для него, наоборот, ирреален тот эгоцентризм, то выделение и чудовищная гипертрофия личного «я», личного начала, которые порождает абсолютный индивидуализм.
Также различны они – анархизм и последовательный индивидуализм – и в области практической деятельности.
Абсолютный индивидуализм не знает методов социального действия. Он не имеет социально-политических программ, не собирает партий, не образует союзов.
Чистый индивидуализм, который во всем окружающем, не исключая людей и разнообразных форм человеческого общения, видит только средство удовлетворения своих эгоцентрических стремлений, относится с полным безразличием к отдельным типам организованной общественности, к отдельным политическим формам.
Социально-политический прогресс для него не существует, ибо общественные симпатии его к тому или другому бытовому укладу обусловливаются не соображениями общего блага, обеспечения справедливости, утверждения свободы и т. п., но исключительно личными вкусами. И в этом смысле античное государство с институтом рабства, феодализм и крепостничество, вольный город и цеховая регламентация, буржуазное правовое государство, социалистический строй, анархистическая община – для него совершенно равноценны.
Требуя неограниченной свободы для себя, он отдает свои симпатии Платоновскому «Государству мудрых», мандаринату, диктатуре, – аморфному, ничем не связанному «союзу эгоистов». Его не смущают одиозные привилегии или моральные несовершенства излюбленного им строя. Насилие, хищничество, закабаление – все средства хороши для достижения главной цели: утверждения своего неограниченного господства, торжества своей воли. Слабому, темному, погибающему – противопоставляются «Я», герой, великий человек, сверхчеловек. «Целые расы могут послужить навозом для великих», – писал Стриндберг. «Весь мир, – говорит философ Эмерсон, – должен стать питомником великих людей».
Анархизм есть не только социальная теория. Он также социальная практика. Анархизм утверждает и ищет практические методы социального действия.
Несмотря на непримиримые противоречия между отдельными течениями анархистской мысли, есть своеобразная программа-minimum, объединяющая все оттенки анархизма. И эти принципы обусловливают и его тактику.
В ряду этих принципов, прежде всего, отрицание – отрицание власти, принудительной санкции во всех ее формах, а следовательно, всякой организации, построенной на началах централизации и представительства. Отсюда отрицание права и государства со всеми его органами.
В области собственно политической – отрицание политических форм борьбы, демократии и парламентаризма.
В области экономической – отрицание капитализма и всякого общественного режима, построенного на эксплуатации наемного труда.
Наконец анархизм в новейших стадиях его развития приходит к убеждению, что революция вообще и анархическая в частности не декретируется «верхами», революционным правительством и не срывается «сознательным инициативным меньшинством» или случайной кучкой «заговорщиков», не совершается «низами», являясь творческим выражением «бунта», идущего непосредственно из «массы». Но дух «созидающий», в отличие от духа «погромного», может найти себе выражение не в случайных и «бесцельных» взрывах толпы, но в свободной ассоциации, поставившей сознательно определенные цели в духе анархического мировоззрения. Отсюда анархизм понимает социальное творчество как самодеятельность заинтересованного класса.
Классовая аполитическая организация является поэтому не только лучшей, но и единственно моральной и технически целесообразной формой анархического выступления. Акты «одиночек» и «кучек» могут в известных случаях иметь педагогическое значение и могут быть нравственно оправданы, но к ним сводить всю анархистическую тактику – значило бы обречь ее на полное бесплодие.
Так анархизм из бунтарского настроения личности преобразуется постепенно в организованный революционаризм масс.
Теперь должно быть ясно коренное различие между абсолютным индивидуализмом и анархизмом.
Первый – есть настроение свободолюбивой личности, ни к чему ее не обязывающее и потому, по существу, безответственное. Второй – социальная деятельность, строящаяся на исповедывании определенных принципов и влекущая для каждого деятеля моральную ответственность.
Первый ведет к установлению власти, усилению гнета, второй несет в себе подлинно освобождающий смысл. Первый предполагает освобождение единиц за счет общественности, второй освобождает личность через свободную общественность[3 - Индивидуалистические принципы лежат в основании и либерального мировоззрения. Но либеральный индивидуализм не имеет ничего общего с анархическим, ибо в основу его легли разнообразные формы ограничения личной свободы – право эксплуатации одних другими при добровольном признании власти как начала, обеспечивающего «общее благо».].
Наконец чистый индивидуализм, как на это неоднократно указывалось, антиномичен, т. е. внутренне противоречив и неизбежно ведет к самоотрицанию.
У сильной индивидуальности безграничная свобода, бесспорно, является стимулом к чрезвычайному развитию личной мощи за счет слабых индивидуальностей. Это неизбежно должно повести к своеобразному «аристократическому» отбору, который для обеспечения своей свободы и безопасности порабощает все окружающее. Но, с одной стороны, устранение борьбы и мирное пользование неограниченной властью ведет неизбежно к вырождению избранных и преобразует в последующих поколениях силу в слабость, с другой, вызывает в порабощенных дух протеста против ослабевшего властителя и зовет их к борьбе, неизбежно кончающейся поражением поработителя. Эту мысль прекрасно выразил Зикмель: «…аристократы, выделившиеся из общего уровня, на некоторое время создают для себя особый высший уровень жизни. В новой обстановке они, однако, постепенно утрачивают жизнеспособность, между тем как масса, пользуясь выгодами большого числа, ее сохраняет».
Так неограниченный индивидуализм, отрицающий свободную общественность, неизбежно приходит к вырождению и самоотрицанию.
Глава II. Анархизм и общественность
Личность есть центр анархического мировоззрения. Полное самоопределение личности, неограниченное выявление ею своих индивидуальных особенностей – таково содержание анархистского идеала.
Но личность немыслима вне общества. И анархизму приходится решать проблему – возможно ли как возможность такое общество, которое бы цели личности сделало своими целями, которое утвердило бы полную гармонию между индивидуальными устремлениями личности и задачами общественного союза и тем самым осуществило бы наконец мечты хилиазма.
Анархизм может решить эту проблему только в смысле отрицательном.
Такое общество невозможно.
Исторически и логически антиномия личности и общества неустранима. Никогда, ни при каких условиях не может быть достигнута между ними полная гармония. Как бы ни был совершенен и податлив общественный строй – всегда и неизбежно вступит он в противоречие с тем, что остается в личности неразложимым ни на какие проявления общественных чувств – ее своеобразием, неделимостью, неповторимостью.
Никогда личность не уступит обществу этого последнего своего «одиночества», общество никогда не сможет «простить» его личности.
Стремление всегда вперед и всегда дальше есть удел личности, и представление о такой общественной организации, которая видимым своим совершенством могла бы убаюкать это стремление – было бы вместе убеждением в возможности духовной смерти личности.
Для анархиста подобное представление невозможно. Постоянное, непрерывное, ни извне, ни изнутри не ограничиваемое устремление личности к самоосвобождению есть основной постулат анархизма.
Именно здесь – на пути к свободному творчеству личности – и встают те мощные препоны, которые создает организация общественности, порождаемой бессознательно стихийно инстинктом самосохранения.
И принадлежа общественности одними сторонами своего существования, личность освобождает другие, которые служат только индивидуальным ее запросам.
* * *
Бросим беглый взгляд на характер соотношений между личностью и обществом.
В известном, занимающем нас смысле, можно утверждать, что вся человеческая история – есть история великой тяжбы между личностью и обществом, история систематического закрепощения личности, извращения ее оригинальных задач, подчинения ее интересов и нравственных запросов интересам и нормам общественности.
И потому – в античном, феодальном и современном буржуазном строе личность и общество всегда – то открыто, то замаскированно – вели беспощадную борьбу.
И в этом неравном единоборстве доселе жертвой была личность.
Как будто с этими утверждениями не вяжутся ее триумфы, поднятие вождей на щиты, реформирующее влияние «избранников» на общественные нравы? Эти успехи были призраком, обманом…
Организатор – вождь, даже с неограниченными полномочиями в руках, был всегда «слугой» возглавляемой иди группы; он был вождем лишь до тех пор, пока хотел или умел следовать инстинктам и вожделениям руководимой им среды. Когда вождь становился слишком «индивидуален» для толпы, для многоголового суфлера, назревал конфликт. И падал вождь!
Так было на всех ступенях развития человеческого общества. И чем более усложняется человеческий механизм, тем более как будто растет зависимость отдельной личности от общества. Тысячи цепей – семейных, служебных, профессиональных, союзных, государственных, опутали ее. Тысячи паразитов стоят на дороге ее творческим устремлениям. И кажется, никогда еще антагонизм между личностью и обществом не достигал такой остроты, как в наше время.
И тем не менее анархизм не только не есть отрицание общественности, как полагают многие, но, наоборот, самая пламенная ее защита.
Пересмотрим хотя бы бегло аргументы против общественности и за нее.
1. Наиболее распространенным и веским соображением против общественности было указание, что все известные нам доселе исторические формы общественности ограничивали личность, не давая полного простора ее устремлениям.
Организованное общежитие есть всегда некоторый компромисс разнородных индивидуальных воль. Личность должна, вынуждена поступиться чем-то «своим», чтобы послужить «общему благу». Каждый жертвует частью своей личной свободы, чтобы обеспечить свободу общественную.
Общество неизбежно вырабатывает свою волю, не совпадающую с волей отдельных индивидуальностей, ставит цели, далекие, быть может, целям, принадлежащим личности, избирает средства к осуществлению целей, отвергаемых индивидуальностью.
И вот открывается мучительный процесс приспособления, когда индивидуальность бывает вынуждена поступиться самым дорогим для нее, единственно важным и святым, затаить свою правду, чтобы не породить диссонанса «средней», которую властно диктует общественный союз, стоящий над личностью.
Правда, «общий уровень» масс повышается с чрезвычайной быстротой, но все же, по наблюдению социологов, его рост относительно отстает от роста индивидуальности.
В современных условиях общественности личность развивается, усложняется, дифференцируется несравненно быстрее, чем дифференцируется целое общество, масса, народ. Пропасть, делившая некогда господ и рабов, уже той пропасти, которая разделяет современную, утонченную в интеллектуально-моральном смысле индивидуальность от массы, несмотря на огромный бесспорный прогресс также в социально-экономической области, как и в области просвещения.
Вожди и народ стояли прежде психически ближе друг к другу, чем ныне. И это справедливо не только в применении к вождям, но и к целым классам современности. Не говоря о первобытной общине, феодал Средневековья был ближе по кругозору, настроениям и вкусам к крепостному, чем современный банкир к рабочему, мелкому конторщику, или своему лакею.
И современное общество, невзирая на все его социально-политические, экономические, технические завоевания, является более тяжкой формой гнета для отдельной личности, чем какое-либо из ранее существовавших обществ.
Оно торжество «золотой средины». Деспотически подчиняет оно своим велениям даже выдающуюся индивидуальность.
2. Помимо того, что подобное систематическое давление общественности на личность выражается в неизбежном понижении интеллектуального уровня членов общественного союза, ибо высочайшие духовные запросы индивидуальности могут остаться без удовлетворения, раз они идут вразрез с более властными запросами середины, необходимо еще иметь в виду, что самые общественные цели примитивнее, проще целей индивидуальных.
Личность бесконечно более сложна в ее оригинальных устремлениях, чем общество, неизбежно ставящее себе ближайшие, более грубые, более доступные цели. Общественные цели могут легко стать целями даже и выдающейся личности. Но скольким целям последней не суждено долго, а может быть, и никогда стать целями общественными.