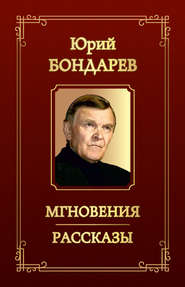скачать книгу бесплатно
Он шел по Невскому проспекту в одиннадцатом часу утра.
Он любил воскресный Невский и щурился от избытка хорошего чувства, что испытывал всегда погожим утром.
Потом он обратил внимание: навстречу ему неторопливой походкой шел небольшого роста молодой человек в клетчатом пиджаке, покатые плечи раскачивались, твердый, взгляд устремлен вперед. Молодой человек, казалось, никого не видел и видел всех сразу, гуляющих по Невскому, и одной лишь краткой усмешкой в глазах выделял из прохожих красивых женщин.
Они двигались навстречу, эти два молодых человека, а когда поравнялись, невысокий, в клетчатом пиджаке, не поворачивая головы, не меняя выражения глаз, незаметным толчком плеча ударил в плечо другого, и тот, едва не падая от неожидаемого удара, ощутил чужие мускулы, столь натренированные, в самонадеянности, что, пораженный грубостью, вспыхнув мгновенным гневом, выговорил, готовый к мщению:
– Извинения надо просить, в конце концов!
А парень в клетчатом пиджаке уходил невозмутимо, по-прежнему покачивая плечами, будто ничего не произошло: облик невозмутимо гуляющего по проспекту человека делал его невинным, и можно было представить, как он равнодушно поднял бы брови при виде возмущения его действием как сказал бы бесцветном голосом: «Не понимаю, что вам от меня нужно?» – и тут же нанес бы этим вторичный удар исподтишка, играя роль жертвы, вынужденной защищаться.
Тот человек, которого задели плечом, был не робкого десятка, тоже обладал физической силой, но что-то остановило его. Он, потирая ушибленное место, оглядывался на удаляющуюся квадратную спину, обтянутую спортивным пиджаком, и ненавидел и эту спину, и себя, и собственное унизительное положение, которому все-таки требовалось найти оправдание.
«За что он меня? моей прическе? Доказал, что сильнее меня? Почему я оробел перед его силой?»
В состоянии неудовлетворенного возмездия он не подумал, что оба они, победивший и побежденный, в коротком уличном бою первобытных самолюбий, предстали вдруг мелкими особями мужского рода в этом солнечном благолепии июльского утра, летним взглядом встречных женщин…
Красота
Не есть ли красота отражение человеком природы, подобно познанию?
И я представил, что земля наша непоправимо осиротела. Вообразите: на ней более нет человека глухая безлюдность пустота шуршит в каменных коридорах городов, не нарушается ни голосом, ни смехом, ни криком отчаяния – и она сразу бы потеряла высочайший смысл быть кораблем, юдолью жизни вмиг утратилась бы ее красота. Ибо нет человека – и красота не может отразиться в нем, и быть оцененной им. Для кого? Для чего она?
Красота не может познать самое себя, как это может сделать изощренная мысль, утонченный разум. Красота в красоте и для красоты бессмысленна, нелепа, так же, как, в сущности, и разум для разума, – в этом поедающем самоуглублении нет свободной игры, притяжения и отталкивания, поэтому оно обречено на гибель.
Красоте необходимо зеркало, нужен мудрый ценитель, добрый или восхищенный созерцатель, – это ощущение жизни, любви, надежды, вера в бессмертие, прекрасного что вызывает у нас желание жить.
Да, красота связана с жизнью, жизнь – с любовью, любовь – с человеком. Если прерываются эти связи, погибает вместе с человеком и красота.
Книга, написанная на умершей земле, будь она исполнена гениальнейшей гармонии, всего лишь бумажный хлам, мусор, потому что цель книги – не крик в пространство, передача мыслей, переселение чувств.
Зеркало
Она не видела меня, спящего за ширмой, и я проснулся от шагов в комнате, от ее протяжного, голоса:
– Как я рада видеть тебя!..
Она, нагая, стояла перед зеркалом, внимательно вглядываясь в свои глаза, улыбалась, хмурилась, трогала коротко подстриженные волосы, гладила кончиками пальцев маленькую грудь, следя за этими прикосновениями, потом, опять улыбаясь, сказала сквозь стон как страшно, и закинула руки, охватила затылок, я увидел и ее поднятую грудь, и темные островки подмышек…
С каким-то непонятным мне выражением боли она закрыла глаза, приблизилась к зеркалу и раздвинула губы навстречу другим, раздвинутым, готовым к поцелую губам. Гладкая поверхность зеркала затуманилась от ее дыхания, и я услышал ее шепот:
– Неужели так? Неужели?.. Как страшно…
Она спрашивала себя, нет, она спрашивала кого-то, преображенного в зеркальном отражении, и вся доверялась, его объятиям, убежденная, что никто не видит ее, обнаженную, бесстыдную богиню, с ее юной чистотой и с чем-то новым, неизбежным, что было связано с этим двойником в зеркале.
И мальчишеская моя непорочность была потрясена впервые женской незащищенностью, этой любовной игры, еще не испытанной, ожидаемой ею. В невинной отрешенности она хотела увидеть, представить себя, и я, сгорая со стыда, испытывал к ней неприязнь, накрылся с головой одеялом, пугающей силой ее наготы, ее изумленным вскрикивающим шепотом:
– Ты не спишь? Ты разве не спишь?
С моей головы резко сдернули одеяло. И, увидев ее разгневанные глаза, я понял, что она услышала меня, и, молчал, готовый умереть в позоре.
– Ты, значит, не спал, негодный мальчишка? Ты видел? – спросила она, наклоняясь надо мной, заглядывая непрощающей жутью глаз мне в зрачки. – Ты видел меня в зеркале, противный? – повторила она шепотом и прищурилась, задрожала ресницами. – Так вот слушай, негодяй, – тебе все приснилось, все приснилось! Все, все приснилось!..
Она больно дернула меня за ухо и, прикусив губы, выбежала в другую комнату.
Что ж это огромное старинное трюмо, стоявшее между двух окон, имевшее, поэтому особую серебристую глубину, всегда притягивало меня и одновременно отталкивало. Оно несколько раз соприкасало мою душу в детстве с чужой какой-то мистической волей властно подчиняя подсознательному любопытству, чему я удивляюсь до сих пор: все, кто приезжал к отцу, в нашу маленькую квартирку на Якиманке, друзья и знакомые, почему-то обращали на трюмо внимание, могли простаивать перед ним минутами. Но после того как я невзначай увидел перед зеркалом свою дальнюю родственницу, жившую тогда у нас, было уже неловко видеть мать, тщательно причесывающуюся по утрам, словно родное до каждой черточки лицо могло измениться в зеркале.
Однако отталкивающую неприязнь стал испытывать я к старинному трюмо, когда однажды приехал к нам из Свердловска друг отца, с которым в молодости они устанавливали советскую власть на Урале. Друг отца работал на строительстве завода, приехал поздним вечером, без предупреждающего письма, без телеграммы. Был этот человек в кожаной кепке, в сапогах и плаще, пахнущих переполненным вагоном, захолустными вокзалами, и внес он в квартиру едкий сквознячок тревоги, заметной по нахмуренным бровям отца, по лицу матери.
Закрыв дверь в смежную комнату, они проговорили всю ночь, пили водку, кричали не в голос, а шепотом; друг отца, как мне показалось, неумело, как-то и страшно плакал, вроде бы умоляя о помощи, повторяя имя отца: «Митя, Митя, пойми…» – и помню непререкаемый возглас отца в тишине: «Нет, Степан, нет тебе оправдания…»
Уже на рассвете мать вошла в мою комнату усталая, медлительная и принялась стелить гостю на диване, то и дело оглядываясь на дверь, за которой не смолкали приглушенные голоса.
Я не в силах был заснуть, чувствуя, что в соседней комнате происходит тревожное, опасное, связанное с нашей семьей, с отцом и матерью, похожее на запоздалое предупреждение о беде, которую привез сегодня отцовский товарищ.
Сон скоро опрокинул меня, а когда я проснулся, было светло в комнате и кто-то ходил за ширмой, стонал, прерывисто мычал, как под пыткой. Друг отца; раздевшись до нижнего белья, босиком, неуклюже, по-бычьи, из угла в угол метался по комнате, натыкаясь на стулья, тер двумя руками крупное хмельное лицо, чудилось – хотел закричать, но только сиплые звуки вырывались из его горла. – Гос-поди, прости меня!.. – вдруг выговорил он так судорожно, что я зажмурился от его вскрика мольбы. – Я не хотел! – повторил он, останавливаясь перед трюмо, огромнотелый, в исподней рубахе и кальсонах, и начал вглядываться в свое грубое лицо, обмоченное слезами. – Я не виноват… Я не хотел… Митя, не хотел!..
Он стоял подле зеркала, охватив щеки, покачиваясь, подобно деревенской женщине в состоянии горя, и моргал, стонал с отвращением, будто бы самому себе изображая безысходную игру в горе, и было какое-то противоестественное смешение искреннего отчаяния и попытки изобразить, увидеть в зеркале свое отчаяние. Что это было? Жалость к себе? Упивание сумасшествием раскаяния? Исход душевного грехопадения? Он при этом поворачивал лицо то вправо, то влево, оскаливаясь, со всхлипами выдавливал из глаз слезы, ненавистно что-то шепча зеркалу.
Потом я увидел, как он рухнул на колени и глазами, отрекаясь от самого себя, мотая изуродованным в сладострастном покаянии лицом, глядя в зеркало на свой по-клоунски отраженный кающийся второй облик, выговорил умоляюще и сипло:
– Гос-споди, прости меня!.. Митя, прости меня, прости меня… или убей меня!.. Я подлец, подлец, подлец!..
И, зарыдав, дополз на коленях до дивана, упал на него грудью, бормоча в подушку неразборчивые слова, потом разом затих, засопел, бугор его широкой спины подымался и опускался под свистящий тяжкий сап.
Я не видел, как утром он уехал, поэтому не знаю, простился ли с ним отец или гость уехал, ни с кем не попрощавшись, избегая недоговоренных слов ночью.
Детским чутьем я догадывался, что неожиданный гость предал старую дружбу отца, привез с собой непростительную вину, заметно изменившую покой в нашей семье. Отец стал молчалив, замкнут, я не раз ночью просыпался от негромкого разговора в другой комнате, видел в раскрытую дверь фигуру отца и фигуру матери у окна, они всматривались из-за отодвинутой занавески в сумрак двора. А там, мне казалось, звучали шаги по асфальту, слегка хлопала дверца автомобиля и выходил, направляясь к нашему парадному, гость отца в дверь никто не звонил. И тут отец торопливо чиркал спичкой, закуривал (зарево вспыхивало и гасло в другой комнате), а мать, с облегченным вздохом обняв его, целовала в подбородок, и молочный лунный свет на полу, и шорох в другой комнате, и успокаивающий шепот матери запомнились мне необыкновенно ясно.
Я ненавидел это зеркало, которое хранило слишком много, когда я мальчишка, рассматривал в нем не героическое лицо человека, которым хотел быть я, а смущенную улыбку, прыщики на лбу, длинную шею…
Это был мой двойник, возникающий в плоскостных пространствах, облик правды, ничем не прикрашенной, сама естественность, – и мальчишеское разочаровывающее познание собственной плоти угнетало меня невыносимой тоской по обретению мужества. Где был я и где не я? Кто с таким длительным вниманием рассматривал меня из второй жизни зеркала?
Мне до сих пор кажется, что зеркало знает о нас больше, чем мы о нем, что оно обладает силой правды и строгого напоминания о неизбежной конечности желаний.
Когда утром вы замечаете на лице своего двойника бледность утомления грустного опыта, новые морщинки вокруг глаз, не кажется ли вам, что все продолжительнее, все настойчивее звонят дальние колокола?
«Как мне жаль тебя…»
Они лежали обнявшись, и она, потираясь кончиком носа о его нос, говорила шепотом:
– Как мне жаль тебя, как жаль!..
Он полувиновато улыбнулся, но ему неприятно было слышать эти слова, они унижали его любовь к ней, единственной женщине, его жене, с которой душа в душу прожил много лет.
Никогда раньше она не произносила этих слов о жалости, и он, не отвечая ей, подумал, что все счастливое, прежнее завершилось в этот миг. Она, вероятно, разлюбила его, силясь заменить любовь жалостью, и вот оно, пугающее старческое… Неужто наступила пора в их жизни, разумная, предзимняя, с зябкостью ветерка?
Она сказала о своей жалости после того, как ночью, целуя, прижимаясь к нему, говорила другое, что на самом деле всегда сводило его с ума, и теперь он почувствовал с уколовшей обидой нечто фальшивое в прошедшей ночи и выявленное этим утром, ее разрушительной фразой.
Он повернул голову к окну, увидел пронизанные ранним солнцем янтарные складки не задернутой полностью шторы, нагромождения городских крыш – и смотрел, боясь повернуться, встретить ее взгляд.
– Почему… тебе жаль меня? – не отводя глаз от окна, вынужденно улыбаясь, спросил он и еле справился с сердцебиением, мешавшим ему сейчас говорить. Она промолчала. И он повторил:
– Почему?
– Ты не представляешь, как мне жаль тебя, – заговорила она шепотом. – Разве ты не думаешь, что уже скоро нам придется расстаться друг с другом… и со всем расстаться?
Он понял и, скользнув сознанием мимо неизбежного, неумолимого, ждавшего их впереди, с облегчением, похожим на радостное безумие (нет, она не лгала ему, и оставался запас надежды на неопределенный срок любви), сказал осторожно:
– Ты еще любишь меня?
– Наверно, это больше чем «любишь». Я молю судьбу, чтобы мне не пережить тебя.
– И я думаю о том же, – сказал он хрипло, думая, однако, о том, чтобы она не погасила тлеющий огонек многолетнего костра между ними, напоминавший им обоим молодость, веселое озорство, ненасытность любви и ожидание еще непрожитой жизни.
– Наверное, тебе приснилось что-нибудь грустное? – спросил он, успокаивая ее и себя.
Она выпростала руку из-под подушки, погладила его по голове, как ребенка, всматриваясь в его лицо, готовыми плакать и смеяться глазами.
Свет в окне
Январская метелица, скрип мерзлых тополей в переулке, верховой ветер гремел железом, срывал снежную пыль с карнизов, нес ее вдоль побеленных заборов, над свежими сугробами, а оно, это единственное в ночи окно, светилось зеленым уютным пятном и, всегда одинаково яркое, теплое, занавешенное, притягивало к себе, вызывало приятное ощущение неразгаданной тайны.
Неизменно каждый вечер меня встречал в переулке этот домашний маячок в деревянном домике, загороженный занавеской огонек настольной лампы – и я представлял натопленную, комнату, стеллажи, заставленные книгами, по всем стенам, потертый коврик на полу перед диваном, письменный стол, стеклянный абажур лампы, распространяющий оранжевый круг в полумраке, и кого-то, мило сутуловатого, в старческих добрых морщинах, кто одиноко жил там, окруженный благословенным раем книг, листал их ласкающими пальцами, ходил по комнате шаркающей походкой, думал, работал до глубокой ночи за письменным столом, ничего не требуя от мира, от суетных его удовольствий. Но кто же он был – ученый, писатель? Кто?
Раз прошлой весной (в набухшей сыростью мартовской ночи всюду капало, тоненько звенели расколотые сосульки, фиолетовыми стеклышками отливали под месяцем незамерзшие лужицы на мостовой) я глядел на знакомое, бессонное окно, на ту же, зеленовато-теплую, освещенную изнутри занавеску, испытывая необоримое чувство. Мне хотелось подойти, постучать в стекло, увидеть колыхание отодвинутой занавески и его знакомое в моем воображении лицо, иссеченное сеточкой морщин вокруг прищуренных глаз, увидеть стол, заваленный листами бумаги, внутренность комнатки, заполненной книгами, коврик на полу… Мне хотелось сказать, что я, наверное, ошибся номером дома, никак не найду нужную мне квартиру – примитивно солгать, чтобы хоть мельком заглянуть в пленительный этот воздух чистоплотного его жилья и работы в окружении книг, казалось, единственных его друзей.
Но я не решился, не постучал. И позднее не мог простить себе этого.
Нет, спустя два месяца ничего не изменилось, все было по-прежнему, а в тихоньком переулке была весна, майский вечер медленно темнел в глубине замоскворецких двориков; среди свежей молодой зелени зажигались фонари над заборами, майский жук с гудением потянул из дворика, ударился о стекло фонарного колпака, упал на тротуар, замер, потом задвигал ошеломленно лапками, пытаясь перевернуться. Тогда я помог ему, сказав зачем-то «Что ж ты?..» Он пополз по тротуару к стене дома, к водосточной трубе (она была в трех шагах от окна), почувствовал я какое-то внезапное неудобство, глянувшее на меня из майских сумерек.
Окно в домике не горело. Оно было как провал…
Что случилось?
Я дошел до конца переулка, постоял на углу, вернулся, надеясь увидеть знакомый свет в окне. Но окно сумрачно отблескивало стеклами, занавеска висела неподвижно, не теплилось на ней преоранжевое зарево, как бывало по вечерам, и в один миг все стало мертвенно неприютным, и показалось – там, в невидимой этой комнатке, произошло несчастье.
С беспокойством я опять дошел до угла, выкурил две сигареты и, уже подсознательно торопясь, вернулся в переулок. Я внушал себе, что сейчас вспыхнет зеленый свет на занавеске и все в переулке станет обыденным, умиротворенным…
Свет в окне не зажегся.
А на следующий день я почти бегом завернул по дороге домой в соседний переулок, и здесь неожиданное открытие поразило меня. Окно было распахнуто, занавеска отдернута, выказывая нутро комнаты, книжные полки, какую-то карту на стене, – все это впервые увидел я, не раз представляя моего неизвестного друга за вечерней работой.
Пожилая женщина с мужским лицом и мужской прической стояла у письменного стола, курила, смотрела в пространство отсутствующими глазами.
Тотчас она заметила меня, рывком задернула занавеску – и шершавый холодок вполз в мою душу. И дом, и переулок, и окно представились мне ложными, незнакомыми.
И я понял, что случилось несчастье, что мой воображаемый друг, тот седенький старичок с шаркающей походкой, к которому так тянуло меня душевно, был нужен мне, как близкий друг.
Вечером
Шел по улице в сторону площади Старого собора, мимо костела, где была служба. Там горели свечи, звучала органная музыка, вызывая неземное очищение, уплывая в недосягаемое лоно умиротворения, что должно когда-то стать сущностью человеческого бытия.
Я слушал орган, думал о предсмертных словах Декарта и ходил по площади вокруг костела.
Потом какая-то компания подгулявших молодых людей выскочила из ближнего ресторанчика; один, пьяно взвизгивая, вдруг выхватил металлическую урну из гнезда на столбе и швырнул ее в своих приятелей. Урна покатилась по брусчатке, рассыпая смятые коробки от сигарет, клочки газеты, огрызки яблок. Двое парней кинулись к пьяному, а из открытого окна ресторана высунулась женская фигура, крикнула что-то зло ругаясь.
Двое парней схватили пьяного под руки и повели его, уговаривая:
– Weg, weg!..[1 - Прочь, прочь!., (нем.)]
Прохожие, стоя на автобусной остановке, смотрели на них с боязнью и любопытством. Пьяному было лет семнадцать. Его вели, у него подкашивались ноги, запрокидывалась голова, он плевался.
Когда, сделав круг по площади, я возвращался к костелу, три девушки с зонтиками, смеясь, входили в притемненный подъезд; одна, закрывая и стряхивая зонтик перед парадным, повернула лицо, посмотрела на меня насмешливо-вопросительным взглядом.
Наверное, ее удивило то, чего я сам не мог видеть на своем лице, подходя к костелу, наполненному огоньками свечей и безгрешным великолепием, органа.
Апрельский день
Ласковый, апрельский день шестьдесят третьего года, огромная, квартира Яна, его кабинет с коллекцией фарфора XVII века, с ценнейшим набором курительных трубок времен Наполеона, старинными часами (были даже личные часы Лихтенштейна), дорогими картинами голландских мастеров. Везде бросалась в глаза немецкая опрятность, переизбыток достатка, утонченный вкус, и сам хозяин квартиры был приветлив, доволен собой, жизнью, женой – она, тоже молодая, недавно родила ему дочь, которую назвали Камилой в честь героини нового и шумного его фильма.
Мы сидели на открытой террасе с видом на Прагу, на Градчаны, сидели, пригретые весной, верховым ветерком, и было настроение свободы, беспечности, какое бывает в душистом воздухе апреля. Ян с удовольствием делал коктейли, беря разнообразные бутылки со столика на колесиках, бросал в напиток ломтики лимона, мешал соломинками в бокалах, то и дело падал на спинку кресла со смехом, слушая мой рассказ о Житомире, который в сорок третьем году мы взяли с ходу после Киева и тут же возле раскаленных пушек «обмыли» победу по причине обилия шампанского, оставленного немцами на продуктовых складах. Ян смеялся и восклицал:
– То есть фантастицне!
Так и остался в моей памяти этот жизненосный, по-весеннему обещающий удачу день, и солнце в большой уютной квартире, и пахучий ветерок на высоте террасы, и городская даль Праги и главное – ощущение здоровья, успеха, легкости жить в этом послевоенном мире.
И когда в семидесятых годах, я приезжаю в Прагу, мне не хочется верить, что не будет уже того молодого весеннего дня, и той веселости, что не встречусь с Яном, не буду сидеть на открытой террасе его квартиры – не верю, что его нет в живых, и, не веря, каждый раз по приезде с мистической надеждой думаю в гостинице: может быть, вот сейчас раздастся телефонный звонок и я услышу голос Яна, его смех из того незабытого дня нашей молодости?
Осенью
Поздним октябрьским вечером, наполненным ветром, близких холодов, я остановился перед дачей совершенно один под блещущими зигзагами созвездий, где-то плыла отдаленная музыка, пел женский голос, как показалось, об ушедших днях, об утраченном лете: была включена радиола, видимо, в санатории.
Долго смотрел в чащу деревьев, на знакомый в листьях забор, словно все это, и забор и деревья, и музыка – перенеслось на десятки лет назад, в пору, ушедшую, полузабытую, которой как бы и не было. Где это было? Когда?
Да, ведь тогда была война, осень, окраина, заборы, редкие фонари, скрипящие на ветру, и я шел мимо этих заборов на окраине, семнадцатилетний курсант пехотного училища, голодный, влюбленный, еще не знающий, что такое война, но мечтающий о подвигах так, как может мечтать мальчик в семнадцать лет, с верой в бессмертие, славу, в восхищенные от любви глаза той, которая терпеливо ждала меня вечерами в маленьком актюбинском дворе.
Я ждал впереди целую жизнь. Я верил в нескончаемость своей юности, и все было юным: и она, и я, и фонари на ветру, и окраина, и осень…
Неужели это были лучшие дни моей жизни?
Тост
– Я хотел сказать, дорогие друзья…
– Петя, у тебя нет никаких предложений гостям?
– Я люблю природу. Мы ходим по лесу с женой и целуем каждое дерево… каждую березку… Пусть осень, опадают листья, но все равно будет весна. И будет много весен. Надо охранять свое поле… поле прожитой жизни. Я каждое воскресенье уезжаю из каменного города, хожу по лесам, и я здоров как слон…