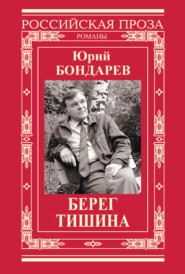скачать книгу бесплатно
Меженин перевел задымленные бешенством глаза на Никитина, затем, по обыкновению смежив ресницы, для чего-то потирая жестко ладонь о ладонь, прохрипел Гранатурову: «Немчишки им, оказывается, дороже, а?» – и, переваливаясь, двинулся к двери, открыл ее кулаком, вышагнул и так стукнул дверью, что закачался огонь в лампе.
– Ну та-ак! – понимающе пропустил через зубы Гранатуров и отступил к столу, сел, отбросился на стуле, свесив на груди забинтованную руку. – Так, мушкетеры сказочные, значит, из-за немцев передеремся друг с другом в конце войны? Так вы добрее меня, значит? Вы чистенькие херувимчики, а я?..
И, уже видимым усилием заставляя себя остыть, овладеть припадком злобы, договорил почти охлаждение:
– Из-за этих щенков? Может, насмерть перебьем друг друга? Из-за них? Ох, Княжко, Княжко, как жить мы будем? Выключить бы против меня механизм надо! Враги мы или в одном окопе сидим?
Но Княжко молчал. Бледность не сходила с его лица, оно было все так же упрямо, твердо, и было странно видеть сейчас его новенькие парадные звездочки на погонах, зеркально отполированные хромовые сапожки, безукоризненный пробор аккуратно зачесанных светлых волос – и Никитин невольно подумал: «Да, он в самом деле – механизм».
– Так вот, – заговорил очень внятно Княжко, как бы ни слова не услышав из того, что говорил Гранатуров. – Совершенно ясно, товарищ старший лейтенант, что эти немцы – хозяева дома. Значит, дом принадлежит им. Им, а не нам. И это абсолютно справедливо. Поэтому пусть собирают вещи, то, что им принадлежит, и уходят куда хотят, хоть в Берлин, хоть в Гамбург. Пусть уходят.
Гранатуров забарабанил ногтями по пустому стакану.
– И отделавшийся испугом божий одуванчик мотнет к своему ефрейтору? Так следует понимать, Княжко?
– О, как это опасно, товарищ старший лейтенант, если даже так! Двадцать мальчишек с сосками сидят в лесу, запуганные каким-то ефрейтором. Вот этот Курт достаточно убеждает, кто там еще остался.
– Ой, как мило!
– Что «ой»?
– Автоматы и фаустпатроны – сосочки, Княжко?
– Думаю, что воевать надобно с достойным по силе противником, а не… – Княжко без прежнего любопытства посмотрел на тощую, затихшую в страхе фигуру Курта, на молоденькую немку, чуть приоткрывшую в кровь искусанные, вспухлые губы, закончил равнодушно: – А не с цыплятами.
– Ой, как все мило, лейтенант!
– Хочу напомнить, – непререкаемо продолжал Княжко. – Вы официально находитесь на излечении в медсанбате, товарищ комбат. Я замещаю вас на должности командира батареи. И я принял решение. Никакого боя не было. Мы их в плен не брали. Они сами пришли, как хозяева своего дома. И, повторяю, пусть уходят, если хотят. Ты, Никитин, надеюсь, не возражаешь?
«Да, Княжко упрямо заведен ключиком в одну сторону. В обратную его не заведешь! Но почему он так уверенно принял решение, вот что неясно», – подумал Никитин с осуждением и тайным восторгом перед непоколебимой убежденностью Княжко, зная, что он теперь не согласится с любым возражением Гранатурова, как часто не соглашался с ним при выборе противотанковых позиций и, зля комбата самонадеянным упорством, сам уточнял огневые для своего взвода. И Никитин, не полностью сознавая непреклонную правоту решения Княжко, но подчиняясь его знакомой, даже на миг не сомневающейся твердости, сказал:
– Я согласен с тобой. Боя не было, мы их в плен не брали.
– Прекрасно, – произнес Княжко.
Гранатуров, с вытянутыми на ковер ногами, развалясь, уронив к полу здоровую руку, сидел в позе утомленного человека, насмешливо и терпеливо выжидающего, чем все это может кончиться, а когда нахмуренный Княжко подошел к немцам и быстро заговорил с ними, он выдул всей грудью сильную струю воздуха, выговорил:
– Не много ли, Княжко? Не много ли на себя взято? Ох, как загнуто! Не заплакать бы от такого приказа…
Княжко, однако, не ответил ему, не прервал разговора с немцами, и Никитин видел, как дрожаще отвис подбородок у растрепанно некрасивой Эммы, как нервически толкнулась вбок, от плеча к плечу, продолговатая птичья голова Курта, и неизвестно почему пришла раздраженная мысль, что этот мальчишка, худой, нелепый весь, не от мира сего, так ни разу и не снял во время допроса большие свои очки, придающие ему несуразный облик болезненно комнатного вундеркинда, и стало смутно на душе – он сказал неприязненно:
– Интересно, умеет ли он стрелять?
– И дурак умеет, – бросил Княжко и, заканчивая объяснительный разговор с немцами, заключил дважды произнесенными командами:
– Alles! Alles![13 - Все! Все!]
Было непонятно – вслед за этим командным «аллес» Эмма узкими шажками приблизилась к Княжко, не подымая заплаканных глаз, сделала короткое приседание, затем неожиданно и несколько стыдливо присела перед Никитиным, сказала запухшими губами с подобострастной благодарностью: «Danke schon, Herr Offizier!»[14 - Очень благодарна, господин офицер!], после чего тронула безвольную кисть своего брата, должно быть еще не поверившего в спасение в этот последний момент, и с заискивающим лицом повела его за руку, видимо, на правах старшей сестры, к двери. Он пошел за ней, неуклюже заплетаясь сапогами, а ребячий, с глубокой ложбинкой затылок его боязливо вжимался в воротник мундира, вероятно, ожидая окрика или выстрела в спину.
– Alles, – повторил по-немецки Княжко, когда дверь за ними закрылась, и, взглянув на ручные часы, сказал серьезно: – Кажется, пора подышать свежим воздухом перед сном. И заодно проверить часовых.
Минуту длилось молчание.
– Эх, господа офицеры, господа офицеры, аха-ха… – выдохнул Гранатуров, разжав сцепленные челюсти. – Много взято – кому платить? А если что, кому-то из нас придется отвечать… не погонами, а головой.
– Да? – бесстрастно удивился Княжко. – Что ж, погон пара, голова одна – отвечу, товарищ старший лейтенант.
Никитин сказал:
– Я с тобой. Сам проверю часовых на всякий случай.
– Проверять их надо без всяких случаев, – ответил Княжко и, чистоплотно сдунув невидимые пылинки с пилотки, надел ее. – Пошли, Никитин.
– А? Куда? – спросил Гранатуров размышляюще, и задумчивое смуглое лицо его, повернутое к Княжко, передернулось тоскливо. – В медсанбат? Напрасно. Думаю, Галочка спит в это время, лейтенант. – И он затрещал стулом, с притворным томлением распрямился своим двухметровым телом. – Замещаете меня и взяли на себя все? Крепко! А если этот гадкий утенок со своим братцем пришла с целью пошпионить, то что вы ответите смершу, господа офицеры? Придумали ответ? Так вот: придумывайте за троих, чтоб скопом было. Я все-таки люблю вас, дьяволы, за рискованность!..
Княжко набросил на плечи плащ-палатку, не принимая полушутливого тона Гранатурова, жестковато ответил:
– Придумывать не стоит. Именно тогда займется трибунал мной, товарищ старший лейтенант. – Он строевым жестом поднес руку к пилотке, добавил смягченно: – Лучше всего располагайтесь до утра на диване. Спокойной ночи!
Они вышли.
5
Глубокой ночью Никитин просыпался несколько раз, с чувством беспокойства ворочался, приподымал голову, прислушиваясь к неживому безмолвию дома, к застывшей, без единого звука тишине городка, из конца в конец залитого лунным светом. Сыроватой свежестью сирени, запахом цветущих яблонь тянуло прохладной струей в раскрытое окно, влажным ветерком омывало его горячее лицо. Среди пустынного сияния неба, над островерхими черепичными кровлями на западе недоспелым ломтем арбуза висела за соснами луна, и крыши, и сады, и улицы с серебристым переливом брусчатника – все было затянуто синим дымом, по-ночному неподвижно, только изредка возле дома шуршала трава под сапогами часового, и тогда Никитин, успокоенный, снова засыпал.
Уже на заре он вздрогнул в полусне от постороннего звука, раздавшегося где-то рядом. Он открыл глаза и, поворачиваясь на бок, машинально рванулся к обмундированию на стуле у изголовья, к кобуре пистолета, положенной поверх гимнастерки, но тут же понял, что разбудило его внезапно: возникли шаги на площадке лестницы, потом слабенько постучали в дверь – и затихло.
Было светло и зябко. Стояло, сквозило через пламенеющие вершины сосен утро, раннее, розовое, прозрачно-чистое.
– Кто там? – крикнул Никитин. – Ушатиков, вы?
В дверь опять негромко постучали, и сквозь повторный стук осторожный девичий голосок, замирая, пролепетал на немецком языке:
– Darf man herein, Herr Offizier?..[15 - Можно войти, господин офицер?]
«Что такое? – подумал Никитин, встревоженный, восстанавливая в памяти все случившееся ночью, и в голове его туманно мелькнуло: – Это та фрейлейн Эмма? Она вместе с братом собирала вещи в другой комнате на мансарде, когда я вернулся после проверки постов. Да, они должны были уйти утром… Зачем она ко мне? Что-нибудь хочет сказать? Сообщить? Что-нибудь произошло?»
И Никитин, еще нечетко соображая, поискал на всякий случай русско-немецкий разговорник и, не найдя его, потянул перину на грудь, откликнулся без уверенности:
– Входите. Херайн. У меня не заперто.
Дверь легонько толкнули, она медленно приотворилась, проскрипела – и в щелку сначала вдвинулся маленький поднос с чашечкой, две тонкие руки, торчащие из широких рукавов цветного халатика, и, держа подносик, боком вошла Эмма, закрыла дверь коленкой, заспанно и робко улыбаясь вроде бы одеревеневшими губами:
– Guten Morgen, Herr Offizier, guten Morgen!..[16 - С добрым утром, господин офицер, с добрым утром!..]
– Guten Morgen, – ответил Никитин, стесненный этим ее приходом, удивленный необычным видом этого подносика с чашечкой кофе, наверное, предназначенного для него, и, не сумев скрыть первой неловкости, покраснел и, запинаясь, усиленно напрягая школьные знания немецкого языка, попытался спросить:
– Was ist das? Warum?[17 - Что это? Почему?]
– Ihr Kaffee, Herr Offizier. Bitte schon[18 - Кофе, господин офицер. Пожалуйста.].
Покачивая полами халатика, она подошла несмело, предупредительно-ласково кивая, поставила подносик на край постели, и он, до растерянности смущенный, даже отодвинул ноги под периной подальше от подносика, глядя на нее тупо-невыспавшимися, вопросительными глазами.
– Was ist das? Warum? – проговорил он одну и ту же школьную фразу.
– Bitte sehr, Herr Offizier, bitte sehr. Guten Morgen!
– Guten Morgen, – пробормотал он, томясь и не находя, что сказать ей на ее улыбку, как возразить по поводу кофе, принесенного ему в постель.
– Bitte sehr.
Она тоже в замешательстве сделала вчерашнее полуприседание возле постели, ее раздвинутые волнением серо-синие глаза с осторожной, прислушивающейся улыбкой смотрели на губы Никитина, а он ощутил: в комнате по-утреннему запахло туалетным мылом или едва внятным одеколоном (запах этот встречал Никитин в немецких офицерских блиндажах, и так же по-немецки источали лавандовую сладость вещи здесь, в пустом доме, когда они заняли его). И он зачем-то подумал, что она по аккуратной привычке умылась недавно холодной водой с ароматическим мылом, – ее желтые, казалось, сплошь выгоревшие на солнце волосы были по-новому опрятно причесаны, отливали золотистым блеском; и еще бегло увидел он детские, густые, как у мальчишки, веснушки, они весело пестрили ее лицо вокруг чуточку вздернутого носа, и лишь один рот был прежним – некрасиво вздутым, искусанным.
Он отвел взгляд, вспомнив ее придушенной подушкой, распростертой, раздавленной в постели, где сейчас лежал он, ее зажатые вскрики «nein, nein», ее в сопротивлении двигавшееся колено под лунным светом из окна, и со стыдом от того, что она должна была помнить это, почувствовал влагу испарины на лбу.
– Danke[19 - Спасибо], – чрезмерно официально сказал он, напуская на себя строгость, и в то же время подумал: «Как это неудобно – кофе в постель. Чего она ждет? Пока я выпью кофе? Что за обычаи? И что делать?»
Он решился и сел на постели, придерживая перину на груди, взял крошечную фарфоровую чашечку, отпил глоток теплой горьковатой жидкости, помедлил из-за неуверенности, отпил еще глоток, опустошая всю чашечку, и поставил ее на подносик.
– Danke, – сказал Никитин и, чтобы как-то выказать необходимую, вероятно, в таких случаях особую благодарность за оказанное внимание, сконфуженно солгал: – Прекрасный был кофе. То есть… wunderbar, ausgezeichnet Kaffee[20 - Прекрасный, отличный кофе.]. Спасибо.
– Bitte schon, Herr Offizier. Спа-ас-ибо?..
Она поняла и, продолжая улыбаться, сделала то странное покорное полуприседание, какое удивляло и озадачивало его, – от этого ее приседания в разрез халатика выглянуло ее белое круглое колено, – и он, уже горячо краснея, тотчас отвернулся к стене, снова вспомнив тот момент вчерашней ночи, когда вбежал в мансарду и различил на постели темную шевелящуюся массу и это безобразно отогнутое ее колено.
– Danke, – пробормотал Никитин и посмотрел на потолок, на его гладкую чистоту, по которому веерообразно и зыбко расходились розоватые блики солнца как отражение в воде.
«Ей надо сейчас как-то сказать, чтобы она ушла, – поспешно подумал он, испытывая потребность высвободиться из необычного положения вяжущей скованности. – Она здесь, а я не одет. Как ей сказать: „komm“, „weg“, „zur?ck“?[21 - пошла, прочь, назад] Или махнуть рукой в сторону двери? Может быть, улыбнуться и сказать: „Danke, zur?ck“? Каким с ней быть – вежливым, строгим, официальным? Она видела меня вчера в том жутком состоянии. Я кричал на Меженина. И наверно, она боится меня. Что она говорит? О чем она говорит?»
– Herr Leutnant… Hamburg, Kurt dort[22 - Гамбург, Курт там], – разобрал он отдельные, неясно понятные слова из ее речи, неловко натолкнувшись на ее расширенные мольбой глаза.
– Черт… я не понимаю по-немецки, – сказал он. – Знаю немного. Что? О чем вы?
А она говорила что-то быстро, тревожно, заискивающе, тонкий голосок ее чуждо звучал, произносил немецкие фразы, сливаясь в какое-то беспокойство, в подобострастную просьбу, и Никитин, безнадежно силясь понять ее, вдруг Смыслове соединил несколько знакомых слов «Kurt», «nach Hamburg»[23 - Курт… в Гамбург], увидев, как ее пальцы стали показывать на поверхности подносика шагающие ноги, и он для подтверждения уже возникшей догадки переспросил:
– Как? Курт ушел?.. Kurt kom nach Hamburg?[24 - Курт уехал в Гамбург? (искажен.)] То есть… – Он так же пальцами изобразил движение ног по перине, в конце движения начертил вопросительный знак, повторил: – Гамбург? Курт? Один? Kurt ein? А вы?
– Курт, Курт… – Она сине осветила его глазами, закивала так торопливо, что медно-желтые волосы рассыпались по ее щекам, но сейчас же с ожиданием и страхом прижала щепотку пальцев к груди – и вновь заговорила робко, спешаще, взволнованно, объясняя, прося его о чем-то.
Он не понимал и, не понимая, то слегка улыбался, то хмурился, – и это малейшее изменение его лица настороженным выражением обозначалось на ее лице, оно становилось то умоляющим, то недоверчиво-радостным, то погасшим; и тогда наконец он принял единственное решение:
– Послушайте… где-то здесь разговорник. Прошу, подайте мне его. Bitte, geben Sie mir Buch. Klein Buch[25 - Пожалуйста, дайте мне книгу. Маленькую книгу.]. – Он показал на комод. – Кажется, там. Deutsche-russische Buch?![26 - Немецко-русская книга (искажен.)] Прошу вас. Bitte…
Она, вникая в его речь, проследила за его взглядом и тотчас сказала, округлив губы: «О!», проворно поставила подносик на комод, обеими руками бережно, будто хрупкую вещь, взяла с комода еще довольно новенький, незалистанный разговорник, сделала шажок к постели, опять полуприседая:
– Bitte schon, Herr Leutnant.
Он развернул разговорник, пролистал главы: «Допрос пленных», «Разговор в сельской местности» («А, все не то, все не то!»), остановился на главе «Разговор с мирными жителями», сказал в приготовленном внимании к нужным фразам:
– Noch einmal… Langsamer sagen Sie, bitte[27 - Еще раз… Говорите, пожалуйста, медленнее (искажен.).].
– Ich bleibe-e… hier… mein Haus… mein Zimmer…[28 - Я остаюсь… здесь… мой дом… моя комната…] – для чего-то сама коверкая грамматику, протяжно заговорила Эмма и при этом напряженнее и напряженнее прикладывала щепотку пальцев к груди, отрицательно качала головой. – Ich, ich… bleibe hier… Haus…
Наморщив лоб, он старательно искал в разговорнике соответствующие ее словам ответы («Haus» и «Zimmer» были известны со школы) и не находил ничего подходящего, кроме никчемных сейчас, воинственных вопросов, что произносят надсадным криком между автоматными очередями: «В вашем доме не прячутся немецкие солдаты?», «В верхних комнатах никого нет?», «Кто хозяин этой квартиры?»
– Не понимаю… Nich verstehe[29 - Не понимаю], – бормотал он, сердясь на себя. – Как болван немой! Что вы говорите? Haus? Zimmer?
– Ein Moment, Herr Leutnant! Entschuldigen Sie…[30 - Извините…]
Она села на край постели, заглядывая в разговорник, тихонько наклонилась, овеяв сладковатым запахом волос, сокровенно-теплым телесным запахом халатика; он рядом, избоку увидел край ее ясного, внимательного глаза, веснушки на щеке, край нежной, шелковистой брови и, покрываясь жаркой испариной от ее близости, непроизвольно отодвинул ноги под периной, ставшей неимоверно тяжкой, душной, подумал с мгновенным и привычным опасением:
«Зачем я позволяю ей смотреть в разговорник? Это все-таки военная тайна… Зачем она села на постель? Надо ей об этом сказать».
– О! – воскликнула она, водя мизинцем по строчкам и обрадованно и вместе виновато попросила его шепотом: – Lesen Sie russisch, Herr Leutnant[31 - Читайте по-русски, господин лейтенант.].
«Как ей сказать? Как?»
Он не совсем отчетливо разобрал строчки под ее мизинцем с обгрызенным ноготком и не сразу прочитал вопрос по-немецки, суть которого стала ясна лишь по переводу на русский язык: «Вы беженцы? Из какого города?» – «Нет, это наш дом, мы остаемся здесь».
– Ich bleibe. Ich bleibe… Kurt in Hamburg, ich bleibe[32 - Я остаюсь. Я остаюсь. Курт – в Гамбурге, я остаюсь], – говорила Эмма тихо, убеждающе и страстно, и тут он на ощупь догадался, что она умоляет, выпрашивает у него разрешения, хочет остаться здесь и боится, что ей не позволят этого – быть в доме, занятом русскими солдатами.
«Но почему ушел Курт, а она осталась? Ушел ли он действительно в Гамбург? – возникло подозрение у Никитина. – И почему она обращается ко мне, а не к Княжко? Ведь он допрашивал их вчера. Имею ли я право ей не разрешить жить в своем доме? Глупо!.. Если она осталась, то нет сомнения – Курт не ушел в лес…»
– Гут… – Он захлопнул справочник и бросил его на стул, сверху обмундирования, придавленного кобурой пистолета. – Gut. Bitte. Gut. Das ist, – начал подбирать он слова: – Das ist… richtig[33 - Хорошо. Пожалуйста. Хорошо. Это… это правильно.].
– O, Herr Leutnant! Danke schon, danke! O, Herr Leutnant![34 - О, господин лейтенант! Большое спасибо, спасибо!]
Она повернулась к нему, вся просияв, счастливо обдав его солнечной синью засмеявшихся глаз, и с легким стоном облегчения, с каким-то решенным замирающим выражением лица упала головой на его подушку, и вымытые, еще влажные волосы ее опахнули его душистой карамельной сладостью. Он почувствовал на своей шее ее обнявшие прохладные руки, тоже пахнущие туалетным мылом, почувствовал, как они, не размыкаясь, потянули его куда-то порывисто, в мягко-шершавую горячую бездну ее прижавшихся полураскрытых губ, не давших перевести ему дыхание, успел подумать, что происходит нечто ненужное, невозможное, опасное сумасшествие, которое надо сейчас, немедленно остановить, а ее дурманные, яблочного вкуса губы шептали что-то, нежно скользили, терлись, вжимались в его губы, и ее пальцы ослабленно искали его кисть, осторожно тянули вниз, в тайную, нагретую телом внутренность халатика. Он ощутил ее гладкий живот, атласно-гладкое бедро, до головокружения, до спазмы в горле пугающие обнаженной и страшной близостью, и в ту же секунду сделал движение высвободиться из притягивающей тяжести ее тела с прежней мыслью о ненужном, опасном, противоестественном, что вчера ночью насильственно могло произойти и не произошло вот тут, на этой постели, между нею и Межениным и чего она сама хотела сейчас. «Зачем?» – знойными искрами пронеслось в сознании Никитина, и он, взяв ее за плечи, покорно отдающиеся его рукам, чуть-чуть отстранил ее и в муке поиска потерянных где-то в тумане памяти слов прошептал отрывисто и хрипло:
– Эмма… нет…
– Sergeant nein… Soldaten nein! – вскрикнула она жалобно и, изгибаясь, прильнула к нему грудью, обняв его исступленно. – Danke schon. Danke…
В этом его «nein» было что-то необъяснимое, чужое, невзрослое, никак не вязавшееся с его решительностью на мансарде прошлой ночью, он даже стиснул зубы от этого немужского вырвавшегося слова, встретив в упор раскрытую глубину ее глаз, недвижно-огромных, синеющих ему в глаза, почему-то вспомнил ощущение пронзительно тонкого и беспричинно радостного колокольчика, когда при восходе месяца над ночным городком он провожал Галю, подумал: «Я буду жалеть об этом? Я совершаю предательство?»
– Danke schon, mein Leutnant. Danke schon.
– Danke schon?.. – проговорил он механически, едва понимая и не веря ей. – Warum? Warum?.. Почему «danke schon»?
– Ich, ich… Ruig…[35 - Я… я… Тихо…] Тсс!..
Она вскочила с кровати, щелкнула замком двери и, мелькая ногами, вернулась к постели, покорно опустилась на коленки и припала лбом к его плечу, спутав, навесив волосы на лицо.
Он слышал ее шепот, прерывающийся дыханием; она, странно, уголками рта улыбаясь ему из-за навеса волос, вдруг легла, гибко повернулась на спину и начала робкими рывками развязывать тесемки, с гримасой стыдливости сдергивать непослушный халатик и, уже бесстыдно вытягивая возле него длинное молодое тело, открыв маленькую млечно-нежную грудь, торчащую розовым острием соска, опять, зажмурясь, ощупью нашла его руку и провела ею по своим целующим губам, по шее, по груди, ознобно дрожа и всхлипывая сквозь стук зубов.
«У меня никогда еще этого не было. Только тогда, в окружении… – с ужасом подумал он, стараясь сдержать и не сдерживая передавшуюся дрожь ее зубов. – Но ведь она немка, а я русский офицер…»
– Эмма… Эмма…