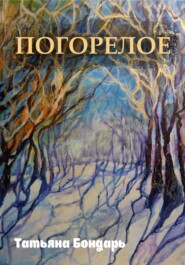скачать книгу бесплатно
Погорелое
Татьяна Бондарь
Это сборник мрачных историй в стиле русских народных сказок. Герои в них сражаются за правду, добро и любовь. Пройти им придётся через места нечистые, где кровь невинная лилась, колдовство мрачное творилось. Там трава теперь не растёт, вода не течёт, рожь не родится, птица не садится. Легко туда дойти, да трудно воротиться. Только иной раз такой дорожкой идти милее, чем с подлостью людской мириться.
Татьяна Бондарь
Погорелое
Погорелое
– Взойдет луна молодая, шевельнется землица сырая, идет чужак за ограду, несет с собой огонь-яду. На него не смотри, ворота затвори, двери охраняй, чужака не впускай. Он не один идет, лихо за плечами несет. В суме у чужака не еда, не вода, а твоя беда. Не хлеб, не доля, а людское горе. Гони его прочь, пусть уходит в ночь. Не пускай в светлицу, не давай напиться, вещей коснуться, до тебя дотянуться! Там, где он пройдет, трава не растет, птица не поет, урожай не родится, скот не плодится. Не давай чужаку воды напиться! Оберег при себе храни, душу береги, и в дом к богам, к далеким берегам в свое время уйдешь, мир обретешь, душу свою спасешь.
Решка закончила заговор под калиткой старосты и связала узлом пук травы, росший прямо под оградой. Такой она выбрала, чтоб неприметным был, чтоб взгляд за себя не цеплял, дела ведьмины ночные ото всех скрывал. Луна за облако заплыла, оттуда зеленым подмигнула, колдовство закрепляя, и Решка тихо, вдоль поросшего бурьяном ручья пошла к себе в хатку.
Хатка ее, против обычая, не на краю села стояла, а в самом центре его. Торопится Решка, надо успеть хоть чуток поспать до рассвета, чтоб силы на день новый были. Сейчас страда в самом разгаре, скот болеет – что ни день селяне к ней приходят, пошептать просят, отвар приготовить, сглаз отвести, скотину вылечить. Да и Аташка, жена старостина, совсем уж на сносях – не сегодня-завтра родит, а Решка на огне нагадала, что роды тяжелые будут.
Пробралась она бурьяном к хатке своей, такой старой да ветхой, что держалась только на печи да на слове честном. Дверью скрипнула да тенью внутрь скользнула. В колыбели, веревками к потолку подвешенной, дитя пискнуло. Решка наклонилась, по головке дочку погладила, слово шепнула, колыбель качнула, дитя и успокоилось. Тогда Решка на печь теплую забралась, ноги босые на стенку побеленную закинула, а они в глине да росе.
«Не ладно это», – подумала Решка, не надобно было ей следов оставлять. Староста мужик здоровый да дурной, ему словами не докажешь, что Решка не порчу наводила, а оберег против его ворот выставляла. Ей бы встать, следы запутать, от дома своего отвести, да сил уж не было, и понадеялась Решка, что обойдется. Подоткнула она плечом мешочек с печаль-травой и уснула.
Утром у старосты околел жеребец, на ярмарке за двадцать червонцев этой весной купленный. Чего околел – неведомо: то ли клевером его батрак перекормил, то ли люди добрые чего в сено подмешали (завистников мало ли), да только староста в горе своем траву, узлом связанную, под забором сразу приметил и, недолго думая, повел народ к хатке Решки по следам сбитой росы.
У старосты кулаки тяжелые да крепкие, они убеждать умели не хуже ведьмовства, много кто Решку гнать пошел от страха перед ними. Так, почитай, все село и собралось – и те, кто идти не хотел, и те, кому она еще вчера зубы от боли заговаривала, и те, у кого детям жар сбивала. Беременная Аташка и та пришла, хоть в деревне кроме Решки повитухи не было. Дед Куль тут же, явился, а его Решка год тому едва выходила от хвори неведомой, почитай неделю глаз не сомкнув. Дед Куль потом еще хвастал, что здоровее стал, чем прежде. Оно и правда, впереди всех Куль вышагивал, да не просто так, он один не забыл прихватить с собой большую, заточенную до блеска косу. Остальные-то с голыми руками к ведьме явились, смерти они меньше боялись, чем старик этот дряхлый.
Как толпа подошла к хатке ведьминой, пылу у всех поубавилось, смолкли люди да замялись. Хоть и шли гурьбой, никому не хотелось первым за ведьмин покосившийся плетень переступать – боязно.
– Давай ты, дед, – прогремел староста, да Куля вперед вытолкнул. Дед затрясся весь, косой на старосту замахнулся и козлиным голосом проскрипел:
– Выкуси, пса смердящая, сам иди, коли тебе боле всех надобно. А коли еще толкать надумаешь, так на шее своей проверишь, хорошо ли коса моя наточена. Оно знаешь как – раз, тебя и ведьма не заштопает.
Староста заворчал, да отступил и Куля вперед болей не выталкивал.
Селянушки меж тем уж жалеть начали, что пошил за старостой. Может через минуту все бы повернули обратно и тихо по домам разошлись, да тут Решка сама из сарая вышла с молоком парным в ведерце. Она и не ведала, что по душу ее все село собралось, что люди, которым она столько добра сделала, вредить ей пришли. Как увидела она толпу, так и застыла, ровно в землю вросла. Смотрит на селян с укоризной, те глаза опускают, с ноги на ногу переминаются. Сказать бы Решке что, пожурить их али оправдаться, да чего и говорить, раз на ней греха никакого нет. Так и стояли они – селяне перепуганные, да ведьма, которую за коня убивать пришли. Потом в толпе ждать кому-то надоело, он возьми, да и крикни: «Чевой с ней цацкаться, убить, да и делов-то!», и бросил в Решку камень с дороги.
Камень в плечо Решку больно ударил, выронила она ведерце, и белым пятном по примятой траве, под ноги ей молоко растеклось. А там полетел в нее и второй камень, и третий… Коса деда Куля в тот день не понадобилась, ведьма защищаться и не думала. В землю молоко ушло уже с кровью ее, густо вмешанной.
Головы селян, и так-то не шибко ясные, расправой этой легкой совсем затуманило. У старосты одного досада в душонке мелочной шевельнулась. Не из-за коня людей к дому Решки он повел. Дура девка, одну ночку просил у нее староста, была б посговорчивее – жила бы еще, вреда от нее и впрямь никому не было.
***
– Ты, морда боярская, на меня не смотри. Провинился перед царем-батюшкой, теперь ответ и держи! Да кабы не я, так и не было б тебя уж на белом свете! Другой бы мне в ножки кланялся, да до смерти благодарным ходил, а ты морду воротишь.
Говорил то воевода Продот, а глаза его черные все бегали, как жуки навозные, и Стеш не верил ни единому слову его. Стеш знал, что Продот и душу бы продал, коли б купца нашел, да купца не было, как, и товара самого. Не один Стеш воеводе ни на грош не верил, а, почитай, весь город знал, что тот на руку не чист и прогнил насквозь, как пень на болоте. На беду случилось так, что вместе они с воеводой мед пили, да во хмелю Стеш сболтнул, что дочка царская не в первый раз его в опочивальню к себе зазывает. Продот сам на то нагретое место метил, да Стеш у него поперек горла стоял, ровно кость рыбья.
Рослый да удалый, Стеш был красотой, силой да умом наделен болей, чем кто другой в столице. Сердце его доброе да нрав веселый привораживали девиц крепче, чем привороты любые. Девки столичные, одна другой краше, по нему ночами вздыхали, от любви сохли, в подушки плакали, а Стеш нет-нет, да и приголубит какую, что ему больше по сердцу. Стеш от окна к окну ходил уж давненько, а много кому это не нравилось. Женихи отверженные злыми глазами глядели, опять же родители девок недовольны, что он в окошки лазит, а жениться ни на ком не хочет. Стали они на Стеша наговаривать: то в клятвоотступничестве его обвинят, то в краже, да мало ли кто что придумает, а только с их жалоб большой беды не было, царь Стешу верил.
Тогда донес кто-то, что Стеш заговор против царя и наследницы его готовит, тут уж царь простить не мог, такое без наказания оставить – так потом каждый людей на бунт подбивать станет. Вот и привели Стеша пред очи царские, а Продот за спиной у царя стоит да на ушко ему и нашептывает. Стеш и уверился, что Продот сам расстарался, донос на него состряпал. Обвинение нешуточное, делать теперь Стешу нечего, царь-батюшка серчает, едва в острог Стеш не перебрался, к заплечных дел мастерам. Уже и в темницу Стеша волокли, а Продот тут за спиной у царя шипит, будто змей:
– Отправь его царь-батюшка в Погорелое, ему все равно пропадать, а так, может, польза какая выйдет.
А Погорелое-то не лучше дыбы, оттуда целыми так же часто возвращаются. Про село то Стешу еще нянька сказывала, когда он мальчонкой был. Стояло село как село, люди жили, скотину держали, от столицы всего ничего, день пути. Шлях большой торговый через то место проходил, много люду по нему проезжало. Потом в один день села и не стало. Дома будто не тронуты, а земля под ними и вокруг выжженная, да дым по долу стелется. Кто храбрости набрался зайти туда, назад не возвратился, а кому посчастливилось сыскать дорожку обратную – рассказать ничего не мог, а глядишь – подошвы у него на сапогах оплавлены.
Стали купцы село краем обходить – тоже беда, заросло там березняком молодым, и нечисть всякая объявляться стала, людей к смерти за руку провожает. То утонет кто, потом говорят, девку незнакомую рядом с ним у воды видели, то в трех березах пропадет человек, будто не было, а то в поле замертво падает. Стали купцы тогда другой дорогой в столицу ездить, да она почитай на двадцать верст дольше, а прямая дорожка-то вот она, только руку протяни, да гляди, чтоб не откусил ее кто. Нет-нет, да и поедет какой купец дорожкой прямой. Поедет и сгинет, ни привета, ни ответа, ни слуху, ни духу, ни весточки.
Продот довольный стоит, улыбается, затее своей не нарадуется, думает, что покруче для Стеша наказание выдумал, чем острог, теперь и косточек его не сыщешь. Обидно это Стешу, да руки за спиной связаны, до подлой рожи Продотовой не добраться, и молвит он тогда:
– Нет за мной никакой вины, царь, но коли ты наговорщикам веришь, то в Погорелом мне лучше будет, там никто вероломствовать не станет. Завтра в Погорелое отправлюсь, стрельцов своих можешь за мной не посылать, сам пойду, доброй волей. Да только ты болдыря этого обрыдлого, что за спиной у тебя стоит, отправь к навозу поближе, там ему место подходящее.
Царь недобро на Продота зыркнул, поверил, что правду Стеш бает, жук, он жук и есть. Ничего не сказал царь, но руки Стешу развязать велел, да стрельцов за ним следом не послал.
Стеш домой воротился, суму чересседельную собрал, саблю наточил, да в кровать лег, только сон к нему не идет. Вертится он, да все думает, что люд обмельчал. Ведь зависть да ненависть оклеветать его заставляли, а все ради мелочи какой-то, ради выгоды собственной да из мести. Себя ему не жалко, он и рад, что делу доброму послужить может, силу свою испытать, а от подлости людской ему тошно. Понял Стеш, что сна ему той ночкой все равно не будет, решил он утра не дожидаться, в ночь выехал. Едет, да все об том же думает. Места проклятые там бывают, где несправедливость большая случается. Вот и Погорелое это, поди узнай, что за беда там вышла. Да коли и узнаешь, разве поправить ее можно? Сделанного не воротишь, только надеяться и остается.
Думает так-то Стеш да в небо глядит. Ночь ясная, звезд над ним рассеяно, как песка в море. Каждая звезда – душа чья-то. Пока живет она – небо освещает, а как помирает – за горизонт катится, да в дом к богам. А звезды той ночью все падают, думы тяжкие Стешевы еще мрачнее делают. Тут самая большая звезда с неба сорвалась, а Стеш и молвит ей:
– Передай ты богам, душа умершая, просьбу мою. Пусть не будет николи лжи да предательства, тогда и сел таких, «погорелых», тоже меньше станет.
Звезда до края неба докатилась, за горизонт опустилась, только не верил Стеш, что боги великие просьбу его выполнят.
Всю ночку ехал Стеш, а как утро настало – притомился, и конь под ним спотыкаться стал. Дорога через поле пустое идет, петляет да все хуже становится, в сон Стеша клонит. Решил он привал сделать, отдохнуть да поесть. Разнуздал коня, на траву кафтан бросил да на него и прилег, а глаза сами закрываются; не заметил Стеш, как уснул, да до обеда самого и проспал.
Просыпается он, солнце в самом зените стоит, так и смолит, пот вышибает, над травами воздух знойный дрожит. Конь его рядом бродит, а подле девка чернявая стоит, на голове венок из ромашек, платье на ней прозрачное, белое, как снег свежий, у царицыных платьев такой белизны не бывает, в руках коса, а ноги босые по щиколотку в землю ушли, будто вросла она, как деревце.
Понял Стеш, что русалка перед ним полевая, ржанка. Просто было на полюшко попасть, да мудрено теперь с него живым уйти. Девка косой замахнулась, вот-вот ударит, глаза у ней злые, огнем горят, посевы кровью оросить хотят. Стеш будто того и не заметил, раскрыл суму свою дорожную, достал баклажку с медом хмельным, хлеб надломил, себе половину взял, половину ей протягивает. Нечисть она хоть и нечисть, а и с ней добром разойтись можно.
– Здравствуй, ржаная матушка, – говорит ей. – Сядь со мной хлеб раздели. Обед хоть и не хитрый, да от чистого сердца.
Ржанка косу занесенную в сторону отвела, храбрость Стешина ей понравилась. Постояла она, подумала, косу отложила, на кафтан рядом со Стешем села, меду глотнула и хлеб стала есть. Девка как девка, встретил бы ее Стеш в селе али в городе, от простой не отличил бы. Едят они молча, а она на него поглядывает. Глаза у нее хоть и без ненависти ужо, а все острые, насквозь сверлят. Поела она, да и просит:
– Поведай мне, добрый молодец, что ты в поле моем делаешь?
Голосок у нее тоненький, колокольчиком, а сама смотрит, ровно царица, сверху вниз на Стеша. Он не растерялся, рассказал ей открыто, и про царя, и про Продота, и даже про дочку царскую, да шутками весь рассказ свой пересыпал. Ржанка смеется да просит, чтоб еще Стеш сказывал; так поди до вечера он ее историями тешил, а как темнеть стало, она ему и говорит:
– Не люблю я с поля своего молодцев живыми отпускать, да тебя не трону. Вижу я, что человек ты добрый, веселый да честный, своей волей никого не обидел. Помогу я тебе. Не по сердцу мне, что рядом с полем моим село мертвое, люди не пашут, не сеют, деревья корни в землю мою пустили. Еще пару годочков, и лесу здесь стоять, коли люди не появятся. В иное время я б на другое поле перешла, а теперь меня село проклятое не пускает. Вот тебе веревочка заговоренная, на запястье себе повяжи да не снимай, она тебя из Погорелого назад выведет. Место то дурное, да исцелить его можно. Больше ничего не скажу, своей головой думай. Коли не убоишься – сам спасешься и жизни невинные убережешь, а нет – там навеки останешься, и веревочка моя тебе не поможет.
Сказала так-то и пропала, только воздух задрожал, а трава в том месте, где она сидела, непримятая осталась. Встал Стеш, поклонился, рукой земли коснулся, и говорит:
– Спасибо тебе, матушка ржаная, за помощь твою и совет добрый, – вскочил на коня, кафтан поперек холки перекинул, смотрит, а на той стороне поля у леска молодого другой конь бродит, оседланный. Недобрая то примета; подъехал Стеш поближе и видит – лежит в траве Продот, мухи над ним кружатся, а кровь почитай на десять шагов вокруг все травы оросила. Понял Стеш, зачем за ним Продот поехал, да как смерть его настигла. Снял Стеш шапку и молвит:
– Не успокоился ты, человек недобрый, под беду меня подвевши, сам решил проверить, доеду ли до места гиблого. Послал меня на смерть, да сам раньше сгинул.
Похоронил Стеш тело как смог, камнями могилу обложил, да поехал в Погорелое.
Дорога под копытами ровно стелется, вчера на камни да ветки он все натыкался, а сегодня едет, как по зеркалу. Да вот что дивно, почитай уже три годины прошло, как он с ржанкой попрощался, а солнце над горизонтом как стояло, так и стоит, не закатывается, ровно к небу приклеилось. Не сказать теперь, сколько ехал он, долго ли, коротко ли, а так в сумерках к черной полосе и добрался. Кругом поле золотое, а полосу ту будто веревочкой очертили, ровная такая, а за границей ее село проклятое. Дома там стоят, как новые, а видно, что никто в них не живет. Скотина по дворам не ходит, колодцы не скрипят, дети не шумят, трава не растет, дым туманом по земле стелется, одним словом – мертвое село, жутко в него идти, ровно в могилу.
Конь перед линией черной встал. Слез Стеш тогда на землю, веревочку заговоренную, ржанкой дареную, поправил, да и шагнул за линию. Сразу его будто шапкой накрыло. Раньше кузнечики в траве стрекотали, воробьи да стрижи кругом летали, мыши в траве шуршали, а теперь ничего. Земля под ногами горячая и хрустит, ровно кости человеческие… Пошел Стеш по селу, с улицы на улицу, со двора во двор, из дома в дом. Кругом пусто, ни звука, ни шороха. Бродил долго, пока не притомился, а сесть передохнуть не может – земля жжет, дым глаза ест. Из села дороженька пропала, подойдет Стеш к тому месту, откуда вошел, да вновь в центре окажется, ровно кругами его водит. Так и ходил, пока подошвы его едва ль насквозь не прогорели. Тогда только услышал он за спиной, будто плачет кто, тонко да жалобно, аж сердце сводит.
– То ли птица кричит, то ли дитя пищит, да одно ведомо – туда мне и дорожка написана! – сказал так-то Стеш да и пошел в ту сторону, откуда плач слышался.
Идет Стеш, а плач все дальше становится. Стеш пот вытирает, бегом бежит, догнать того, кто плачет, старается, да ничего не выходит. Казалось вот, за той стеной уж увидит он, кто звук в селе мертвом подает, да только – нет! Сколь не бежал, а так и не нашел, кто плачет. Тогда веревочка, ржанкой подаренная, на руке его задрожала, да в сторону от звука потянула. Послушался Стеш веревочки, пошел, куда она ему путь казала, а звук, наоборот, будто ближе становится стал, и вот он уж рядом совсем. Слышит теперь Стеш, что не птица то кричит – дитя плачет, а звук идет из хатки малой с плетнем кривым. Веревочка остановиться велела, а плач стих в одно мгновение. Стоит Стеш перед плетнем покосившимся, и кажется ему хатка за ним страшнее всего села мертвого. Тут снова дитя голос подало, высоко запищало, и боязно Стешу от этого плача почитай еще больше стало. Устыдился Стеш слабосердия своего, и говорит сам себе:
– Никогда ничего не боялся, царю правду в лицо говаривал, ворога саблей рубил, не уж-то за забор пройти не посмею? – шагнул он во двор, его как в колодезную воду макнули – холодно стало, а плач детский все не стихает.
Дверь хатки скрипнула, и выходит к нему девка чернявая в платье подвенечном, как две капли воды на ржанку похожая, и смотрит на него так же колко, ровно глазами душу ковыряет. Запястье в том месте, где веревочка у Стеша повязана, зудит. Схватила девка Стеша за руку, да в землю нырнула, его за собой потянула. Оказался он ровно в том же селе черном, да горит оно пламенем до неба самого, а от огня не жар, а холод идет. Кругом люди толпой собрались, и смотрят они на Стеша безотрывно. Девка его руки не выпускает, в глаза смотрит, а по лицу ее слезы кровавые сочатся.
– Смотри, живой человек, – говорит она. – Коли правду увидишь, души наши спасешь.
Стеш смотрит, да не видит ничего кроме того, что увидел уж. Земля горит, люди молчат, девка плачет.
– Сердцем смотри, – девка подсказывает. Стеш глаза закрыл, и тех же людей увидел, только не так, а будто через воду. В воде той все деяния их видны – ни обмануть, ни спрятать, каждый поступок, каждое слово и помысел. Их души Стеш насквозь видит, и нет среди толпы целой ни одной чистой, у каждого и худое, и доброе есть. Только последний день у всех селян черный, ровно он один их жизни и обрезал. Страшное преступление на руках у каждого, и девка-ржанка душу осквернила тем, что прокляла палачей своих.
– Смотри еще, – девка молвит.
Стеш смотрит, и среди этих душ запятнанных, одну видит, что белым светится, ярче, чем платье на ржанке, а хозяина души этой не видать. Пошел Стеш на свет, а люди перед ним расступаются, дорогу вперед расчищают. Вошел Стеш в хатку, посреди нее колыбель подвешена, а в ней младенец сморщенный, мертвый, от него-то свет белый и идет. Взяла девка дитя на руки, поцеловала, Стешу передала и говорит:
– К себе ее забери да Резедой назови, не место ей среди проклятых.
Принял Стеш дитя, а веревочка на запястье его вверх и дернула.
Пропало село погорелое, стоит Стеш посреди поля, солнце жарит, птицы над ним летают, жуки гудят, конь рядом гуляет, а на руках у него младенец с того света взятый так и остался. Там мертвым казался, а здесь будто живой, розовый, крепкий. Приложил Стеш ухо к сердцу его, бьется оно. У Стеша руки задрожали, слезы из глаз потекли, а сверток не выпустил. Сел он на коня да домой поехал.
Много лет после того похода Стешиного минуло. Село Погорелое навсегда пропало, даже камней от кладки печной нигде не осталось, поле там теперь. Некоторые мужички сказывают, что, когда пашут его по весне, песня из-под земли слышится. Те старики, что еще помнили, как Стеш в столицу воротился, бают, будто женился он вскоре и горя в жизни не знал. Ребятишек у него было четверо, а старшая дочь-то, Резеда, приколдовывать умела, да по-доброму, зла от ее колдовства никому не было. От нее-то род травниц-шептух в наших краях и повелся.
Резеда
Избенка, что за селом у самого леса стояла, всегда пустой была. Даже старые люди не помнили, кто в ней раньше-то жил. Любая другая брошенная изба сгнила бы уже али по бревнышкам ее растаскали, а эта нетронутая, ровно время мимо нее проходит.
Парни деревенские, когда девок напугать хотели, сочиняли про эту избенку небыль всякую. Иные на выдумку так хитры были, такого наворачивали, что и у самих поджилки дрожали. Их стараньями избенка та страхами и обросла, ровно браней непроницаемой, никто к ней близко подойти не смел, стороной все обходили. Обходили-обходили, а любопытно хоть издали поглядеть, проверить, не мелькнет ли в оконце покойничек али бес с рогами, народ-то хоть боязливый, а любопытный, охоч нос куда не следует сунуть.
Вот одним днем Ларька, дочь горшечника, как из лесу вернулась, давай клясться, что дым из трубы в той избенке шел. Люди ей не поверили сперва, посмеялись, со страху-де девке померещилось, а там сами примечать стали, то свет в окошке мелькнет, то дверь хлопнет, трава опять же вокруг примятая, а колодец заброшенный во дворе расчищен. Потом и девку увидели, что там поселиться решилась. Сама мелкая да тонкая, волос черный в косу убран, переплетен травами всякими. Рубашка на ней выткана искусно, а на рукавах да подоле узор яркий, какого местные мастерицы и не видали.
Тут народ во всю силу загудел, про девку-то. Каждый на свой лад сочинять стал, кто она да откуда. Правду-то никто не ведал, а спросить боялись, девка же, не иначе, как ведьма, кто еще у леса-то селится?
Девки той деревенские зря боялись, то Резеда была. Тошно ей в столице жить сделалось, вот она от батюшки к лесу ближе и решила перебраться. Батюшка ее отговаривать пробовал. Он хоть и не родной ей был, а любил, как свою, даже больше. Стал просить ее: «Не ходи в лес, не живи одна! Люди-то больше по свету добрые рассыпаны, да лихие среди них ровно сорняки, хоть и не сеял никто, а все лезут, землю ногами мнут да норовят там нагадить, где почище. Растопчет тебя кто из таких и не заметит. Красоту-то не всякий рассмотреть может, даже когда она сама в глаза просится».
Резеда его и давай успокаивать:
– Батюшка мой, ты не бойся и не скучай обо мне. Меня ни зверь, ни птица не тронет, а с человеком я справиться сумею ни добром, так силою.
Стеш, ее батюшка, и седины на висках за ночь прибавил, а все ж таки отпустил. У всякого своя дорога, с нее не свернешь, другого по ней за себя не пустишь. Веревочку на прощанье он Резеде на запястье повязал. Сам ее всю жизнь нашивал, а дочке, вишь-ко, отдал. Резеда ведала, что за сила в той веревочке, хоть батюшка никому и не сказывал. Она в благодарность ленточку с волос сняла, да замест веревочки на руку батюшке и повязала, в три оборота да на узел.
– Не снимай, – говорит, – батюшка, моей ленточки. Она тебя от беды уведет, век долгий проживешь, правнуков нянчить будешь, только не снимай!
Ленточку эту Резеда нашивала почитай с семи годков. На вид она невзрачная, от времени истрепалась, потемнела вся, да волосы девичьи силу огромную из природы черпали, да сквозь нее пропускали. Набрала в себя ленточка силы той столько, что и от смерти спасти могла.
С тем и ушла Резеда, родимый дом оставив. Нашла избу заброшенную у леса, да стала жить в ней отшельницей.
Деревенские как поняли, что ведьма у них поселилась, боялись сперва, говорили всякое, еще большим кругом обходить то место стали, да когда нужда прижала, все ж потянулись к дому ее. Сперва оврагами да закутками, а там и открыто. Всякий к ней со своим горем идет: у кого ребенок в жару кричит, у кого спина ломит, так что мочи нет, а там и просто, по любопытству много кто наведываться стал, прикрываясь хворью выдуманной, лишь бы на ведьму посмотреть.
Резеда всем помогала. Кому отвар готовила, кому растирку, кому так, руку на спину положит, погладит, как мать родная, шепнет что-то ласково, а хворь, глядишь, и пройдет.
Резеда научена была, знала, что однажды люди эти забудут все добро, что она им сделала, и придут с камнями да вилами к дому ее, а все одно помогала и денег ни с кого не брала, зачем ей? Она трав в срок запасет, ягод-грибов насушит, кореньев наберет, благо леса богатые. Да и много ли ей надобно, она и воздухом сыта бывала. Так прожила она в избе той год. Деревенские ее своей считать стали, будто всегда она тут и была.
Гладко все катилось, пока за колоду не зацепилось да не повернуло на лихо. Набрел на ее избушку молодец непростой. Видно, что издалека путь держал, в пыли весь да в поту, сапоги на нем богатые, с теснением, а вытерты чуть не до дыр. Вот постучался он да попросился заночевать. Резеда путникам всегда приют давала, примета была между травницами да шептухами, – коли не пустишь путника, так замест него беда в доме ночевать станет.
Молодец вошел в избу, статный да пригожий. Она его накормила, напоила, баню истопила, а пока мылся он, одежу его постирала да заштопала. А молодец-то только лицом пригожий был, а душонка у него мелкая, да грязная, жаль, что ее в бане не отмоешь. Вот вышел он к столу, чистый да удалый, сел, ест хозяйкой наготовленное, а сам из своей баклажки-то и потягивает. Резеда людей во хмелю не любила. Сама не пила и другим не давала, противно ей было. Вот она и молвит:
– Ты, добрый молодец, коли в дом мой гостем пришел, так мне и служи, что хозяйке не любо – у себя не держи. Не пей из баклажки своей. Не ходит заяц в берлогу к медведице со своими порядками, а коли придет, сам за обед сойдет.
А молодец зубы скалит, да ноги на скамью напротив забрасывает:
– А кто медведица-то? – спрашивает. – Ты что ли? Хвост где ж твой, покажи? – и подол Резеде задирает. Она его по руке ударила, а он уж хмельной совсем, смотрит зло и говорит:
– Ты, девка, дура, коли б знала, кого принимаешь, так рот бы свой закрытым держала. Я князь, по делу лесами скачу, сам кого хочешь жить научу. А кто не научится – под пыткой будет мучаться.
Резеда брови свела и отвечает спокойнехонько гостю недоброму:
– Ехал бы ты, князь, путем-дорожкою, пока ноги целы, да все подальше от дома моего. Я тебя сюда не звала, сам пришел, крова у меня просить, а теперь дыбой грозишь. Ты не гость мой, а значит и не связана я словом беречь тебя.
А этот на девку смотрит да смеется.
– И что ты мне сделаешь, травница, ведьма? Зверобоем натрешь да в печь на лопате воткнешь? Я ж тебя одним пальцем раздавлю, ты и пикнуть не успеешь. Была ведьма лесная, стала вошь платяная!
Тут воздух в избенке будто зыбью пошел да гуще сделался, а дурак-князь не видит того да дальше мелет.
– Захочу – прямо сейчас до земли твою избенку спалю, пепелища не останется, косу твою обрежу да к хвосту конскому привяжу, а тебя саму заживо закапаю, вот и посмотрим тогда, кто медведь из нас, а кто заяц.
– Медведь силою своей не бахвалится, перед зайцем туманом не стелется, а ты, добрый молодец, соловьем распелся, да все пустое.
Тут гордыня молодца со скамьи сорвала, схватил он Резеду за горло да к стене прижал. Она спокойно стоит, будто и не давит ее князь молодой руками обеими.
Понял молодец, что дело неладно, девка и впрямь непростая. Хмель с него спал, руки задрожали, сила уходить стала, страхом сердце наполнилось. А девка, как птица крыльями, рукавами махнула, его оттолкнула, а сама на дверь смотрит, будто ждет чего. Видит князь, беды ему теперь не миновать. Стал он спиной отступать, глаз с ведьмы не спуская. А тут избенка затряслась, дверь сама отворилась, а за ней волчица черная стоит, с теленка годовалого ростом. Пасть у ней раскрыта, язык высунут, и тоже черный.
Князь со страху на спину упал, а волчица подхватила его за ноги, да и потянула в лес. Резеда ей только вслед слово заветное шепнуть успела, чтоб не убивала обидчика ее. Сама у порога постояла, как ветер шумит послушала, да и нашептал он ей, что со дня этого жизнь ее повернется.
Месяц прошел, пока до избенки Резеды дружинники княжеские добрались. Вошли они в избу хозяевами, перевернули внутри все, да ведьму не нашли, Резеда сразу после того случая ушла.
Как князь и грозился, сожгли дружинники избенку до земли. Она против времени века простояла, а против огня как лучина, в момент сгорела, пепелище да печь остались. Собаки по следам ведьминым не пошли, мордами крутят, глаза дурные, в траве качаются, ряду им так и не дали. Так и вернулась дружина ни с чем.
Князь молодой сам дружину к ведьме отослал. Живым он остался, бросила его волчица посередь леса, да ноги ему пока несла так измочалила, что смотреть страшно, не то, что ступить. Князь на локтях день полз, пока из леса выбрался, да на помощь звать стал. Крестьяне его полуживым подобрали, да в родительский дом свезли. Увидела княгиня сына едва живого, завыла-заголосила, да сделанного не воротишь. Стала созывать она лекарей со всего города. Много их пришло, чуть не дюжина, да все как один руками развели, мол, помочь тут только боги и смогут, а коли не помогут, быть князю всю жизнь калекой.
Княгиня, как услышала то, в горе без чувств на пол упала, а князь молодой почернел, ровно ночь его полотном накрыла, и велел воеводе своему ехать к избушке да ведьму к нему привесть, а как тот пустым вернулся, завыл он зверем раненым, вещи стал хватать, да без разбору швырять, кричать да бесноваться. Выбежали люди из опочивальни его, двери прикрыли, матушка платочек к лицу прижимает, шкатулкой деревянной сын ей бровь рассек. Долго князь уняться не мог, к ночи его только попустило. Когда притих он, матушка в двери осторожно постучала да вошла, сыну любимому снедь принесла, а князь ее с порога и просит:
– Прикажи-ка, матушка, ко мне Протопея прислать.
Мать как услышала, задрожала вся, на колени перед сыном упала и молит его:
– Не зови, сынок, Протопея! Он всякому-то помочь рад, да от помощи его только лихо выходит. За службу свою он берет не золотом да не почестями, а чем подороже. Кто ходил к нему, дольше трех годков и не пожил. Не зови его, сынок, богами вечными прошу!
А князь ей одно отвечает: