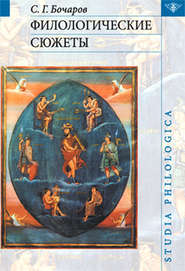скачать книгу бесплатно
Не выжмешь из рассказа моего.
По поводу «Повестей Белкина» вспоминали эту концовку «Домика в Коломне» (а Б. М. Эйхенбаум, как мы увидим, принял эту пушкинскую «мораль» как теоретически отправной пункт своего анализа «болдинских побасенок Пушкина»).
Владислав Ходасевич, однако, заметил об этой «на первый взгляд шуточной, но пожалуй – многозначительной строфе» болдинской поэмы: «В этом предложении – ничего больше не „выжимать“ из рассказа – есть гениальное лукавство. Именно после таких слов читателю хочется „выжать“ больше, чем это сделал сам поэт».[67 - Вл. Ходасевич. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1996. С. 59.] Очевидно, подобным образом обстоит дело и с «Повестями Белкина».
Всякий, кто пробовал пересказать эти повести аналитически, выделяя («выжимая») их основное значение, знает, как трудно оказывается это сделать. Кажется, что их можно, по слову Пушкина, «просто пересказать» – и только.
Рассчитанные как будто на простое нерасчленённое восприятие, «Повести Белкина» тем не менее побуждают к интерпретациям. И они поистине представляют собой пробный камень литературоведческой и критической интерпретации, который, как сказано, всегда был камнем преткновения. Исследователи стремились за простым текстом прочитать скрытый смысл. В своё время М. Гершензон предложил аналогию между чтением пушкинской повести и разгадыванием загадочной картинки.
В статье о «Станционном смотрителе» М. Гершензон писал: «Иное произведение Пушкина похоже на те загадочные картинки для детей, когда нарисован лес, а под ним написано: где тигр? Очертания ветвей образуют фигуру тигра; однажды рассмотрев её, потом видишь её уже сразу и дивишься, как другие не видят… Идея нисколько не спрятана, – напротив, она вся налицо, так что всякий может её видеть; и однако все видят только лес».[68 - М. Гершензон. Мудрость Пушкина. М., 1919. С. 122; Он же. Избранное. Т. 1. М.; Иерусалим, 2000. С. 86.]
Предложившим это уподобление критиком руководило то чувство, что простой рассказ пушкинской повести «значит» что—то, о чём—то нам говорит, что повесть не просто равна своему тексту, но имеет некоторый «второй план» своего истинного значения, который, однако, неразличимо слит с первым планом простого рассказа – с «очертаниями ветвей» в гершензоновской аналогии. Метод разгадывания, обоснованный Гершензоном, и есть характернейший метод критической интерпретации. И, кажется, «Повести Белкина» в особенности обрекают гадать о их смысле. Однако разгадывание Гершензоном пушкинских повестей как раз показывает, насколько недостоверен этот метод, притом особенно по отношению к таким произведениям, как пушкинские повести. Что получается у Гершензона? «Очертания ветвей», т. е. самый текст повестей, не имеют самостоятельного значения, а только служебную функцию, одновременно скрывая и содержа в себе, по существу, ничего общего не имеющую с ними «фигуру тигра», будучи лишь «обманными деревьями»; так, вступление о станционных смотрителях в разгадываемой критиком повести «усыпляет читателя», чтобы затаить от него «идею». В подобном истолковании повесть становится иносказанием аллегорического характера. Интерпретации Гершензона возникли в атмосфере воздействия русского символизма начала XX века и стремились открыть «символический замысел»[69 - М. Гершензон. Избранное. Т. 1. С. 93. «Нынешние символисты могли поучиться здесь лёгкости и естественности работы», – пишет он по поводу «Станционного смотрителя» (С. 86).] «Станционного смотрителя» и «Метели», однако истолкование: «Жизнь – метель, снежная буря (…) такова жизнь всякого человека…»[70 - Там же. С. 93.] – скорее аллегорическое, нежели символическое. «Идея» «Станционного смотрителя» в разгадке Гершензона (старый смотритель наказан за доверие к ходячей морали, выраженной в немецких картинках на тему о блудном сыне; тирания ходячей морали – «вот мысль, выраженная Пушкиным в „Станционном смотрителе“») также очень бедна по отношению к полноте нашего впечатления от этой повести. «Идея» именно выжата, а не раскрыта, значение повести не прочитано, а скорее вычитано.
Более тонко рассматривал два плана «Повестей Белкина» В. С. Узин: «Эти маленькие незатейливые „истории“ обращены одной своей стороной, своей твёрдой корой, к Митрофанушке, к „беличьему“ мироощущению Белкина, а ядром своим – к взыскательному, грустному созерцателю жизни. Самое явление жизни и тайный смысл её здесь слиты в такой мере, что трудно отделить их друг от друга».[71 - В. С. Узин. О повестях Белкина. Из комментариев читателя. Пб., 1924. С. 18.] «Митрофановский» интерес воспринимает в повестях «голую фабулу с её плавным разворачиванием», которая для Митрофана «довлеет себе самой»: «чисто внешний покров событий, механическое сцепление действий он предпочитал их внутренней телеологической связи».[72 - Там же. С. 10.]
Современная Пушкину критика восприняла повести с «мит—рофановской» их стороны: «Ни в одной из Повестей Белкина – нет идеи. Читаешь – мило, гладко, плавно; прочитаешь – всё забыто, в памяти нет ничего, кроме приключений. Повести Белкина читаются легко, ибо они не заставляют думать».[73 - Северная пчела. 1834. № 192, 27 авг.] «Потерянная для света повесть» Сенковского, за подписью А. Белкин,[74 - Библиотека для чтения. Т. X. 1835.] пародировала как бы отсутствие содержания в «Повестях Белкина». Во время дружеского обеда один из участвующих рассказал историю, из которой слушатели сумели запомнить только первые слова: «Вот именно один такой случай был у нас по провиантской части». Рассказчик по просьбе слушателей повторил свою повесть, но и после этого её оказалось невозможно удержать в памяти. Так оказалась потеряна для света повесть.
С одной стороны, таким образом, в повестях нет ничего, кроме приключений, но в то же время и самое приключение, как какое—то ничтожное, можно забыть. Не только «идеи» нет, но и «митрофановский» интерес к голой фабуле не получает настоящего удовлетворения. Так в непосредственных реакциях критики отражался тот факт, что и фабула в «Повестях Белкина» не является самоцелью, не «довлеет себе самой».
Молодой Белинский писал в 1835 г. в «Молве»: «Правда, эти повести занимательны, их нельзя читать без удовольствия; это происходит от прелестного слога, от искусства рассказывать (con—ter); но они не художественные создания, а просто сказки и побасенки».[75 - В. Г. Белинский. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 1. М., 1953. С. 139.] Белинский низко оценил «Повести Белкина», но его отрицательная характеристика интересна своей проблемностью. Он последовательно—односторонне воспринял действительную интенцию, в них заложенную, «белкинскую» природу повестей: ведь они действительно искушают читателя своей простотой и предлагают себя рассматривать как «просто сказки и побасенки»;[76 - В этом духе о них отзывался и сам Пушкин: «сказки моего друга Ив. П. Белкина» (14, 209), «contes a dormir debout» (15, 1). Сам Пушкин охотно подчёркивал непритязательный их характер.] но для Белинского это значило – «не художественные создания».
Однако когда четверть века спустя после этого отзыва Толстой захотел прочитать одну из повестей Белкина детям в Яснополянской школе, ожидая найти в этой повести именно то, что нашел в ней Белинский, – Толстому и нужны были «не художественные создания», – обнаружилась неожиданная для него картина: «После „Робинзона“ я попробовал Пушкина, именно „Гробовщика“; но без помощи они могли его рассказать еще меньше, чем „Робинзона“, и „Гробовщик“ показался им еще скучнее. Обращения к читателю, несерьозное отношение автора к лицам, шуточные характеристики, недосказанность – всё это до такой степени несообразно с их требованиями, что я окончательно отказался от Пушкина, повести которого мне прежде, по предположениям, казались самыми правильно построенными, простыми и потому понятными для народа».[77 - Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 59.]
Так самые простые, «по предположениям», повести не прошли поверки на простоту и безыскусственное восприятие. При подходе к ним со специальным критерием простоты они оказались сложно и даже изощрённо построены. Особенно выразительно то, что слушатели не могли рассказать повесть. Несколько раньше Толстой же в известной дневниковой записи (1853) определил интерес пушкинской прозы (в отношении к новому интересу собственной прозы) как «интерес событий»; впоследствии эта формула сделалась популярной и стала в ряд с такими эпитетами пушкинской прозы, как линейная, глагольная, долженствующими передать её простой динамически—событийный характер. Но в яснополянском опыте в восприятии пушкинской повести выделились такие её моменты, которые нарушают, во всяком случае осложняют, чисто фабульный интерес, «интерес событий»; выступила на первый план повествовательная игра, «капризность постройки»,[78 - Там же (по поводу «Ночи перед Рождеством» Гоголя, которую также не приняла аудитория).] мешающая воспринять самую фабулу; впечатление оказалось отнюдь не линейным.
В 1919 г. «Повести Белкина» стали одним из объектов, на которых оттачивалась опоязовская поэтика, – в статье Б. Эйхенбаума «Болдинские побасенки Пушкина».[79 - Жизнь искусства. 1919. № 316–317, 318, 13–14 и 16 дек.] Б. Эйхенбаум принял как формулу Белинского, так и заключительную «мораль» «Домика в Коломне», для того чтобы снять вопрос о «смысле» и его истолковании: «ничего „выжать“ из этих повестей ему не удалось – философия не поместилась», – комментировал он Белинского. «Повести Белкина» как «побасенки», таким образом, понимались не как произведения с незначительным содержанием (такими они были для Белинского), а как такие произведения, где очевидно дело не в «содержании». Так понимаемые, «Повести Белкина» оказались выигрышным материалом для выработки опоязовских принципов анализа произведения. Статья «Болдинские побасенки Пушкина» была написана почти одновременно с другой, программной статьёй Б. Эйхенбаума – о гоголевской «Шинели» – и представляет ей интересную параллель.[80 - Статья не перепечатывалась в сборниках Б. Эйхенбаума «Сквозь литературу» и «Литература»; можно пожалеть, что она не вошла как статья методологическая и принципиальная для исследователя в посмертный сборник Б. Эйхенбаума «О прозе». (Статья вошла в более поздний сборник Эйхенбаума «О литературе». М., 1987. – Примечание 2005 г.)] Тот же метод подхода к произведению демонстрируется здесь на другом по своему характеру материале. Если в «Шинели» необходимо было преодолеть весомое «содержание», чтобы утвердить чистое построение сказа как художественную цель произведения, то в «Повестях Белкина» как бы нечего в этом отношении и преодолевать. Они не отягощены «идеей» и в этом качестве представляют для опоязовской аргументации, как своего рода «заумное слово», весьма показательный материал. Цель «Повестей Белкина», по Б. Эйхенбауму, всецело находится в литературной плоскости, эта цель – пародирование традиционных сюжетных схем. «Кому этого мало, кто скажет, что это – „только форма“, и будет упорно разыскивать „смысл жизни“ там, где его нет, тот пусть выводит мораль по способу самого Пушкина», – и Б. Эйхенбаум заключал свою статью последней строфой «Домика в Коломне».
Истолкованию («выжиманию») смысла Б. Эйхенбаум противопоставил композиционные наблюдения. Всё своё внимание он обратил на «движение новеллы», тщательно отличая его от движения самых событий в новелле. «Сюжет, очень простой и похожий больше на маленький анекдот, особым образом развёрнут». Наблюдение показало, что во всех повестях Белкина, так или иначе, это развёртывание, построение сюжета, «походка, поступь» новеллы[81 - Б. Эйхенбаум. Сквозь литературу. Л., 1924. С. 166 (статья «Проблемы поэтики Пушкина», 1921, в которой развиты положения статьи «Болдинские побасенки Пушкина»).] не совпадает с поступью рассказываемых в новелле событий, с их прямым ходом, композиция не совпадает с фабулой (не подобное ли явление зафиксировала и толстовская критика «Гробовщика»?). «При простой фабуле получается сложное сюжетное построение. „Выстрел“ можно вытянуть в одну прямую линию – история дуэли Сильвио с графом».[82 - Там же.] В «Выстреле», «Метели», «Станционном смотрителе» очевидно несовпадение хода событий с тем, как они развёртываются, рассказываются. По—иному подобное несовпадение осуществляется в «Гробовщике»; процитируем то, что говорит Б. Эйхенбаум об этой повести.
В «Выстреле» и «Метели» композиционная задержка и остановка действия – «кажущаяся – на самом деле сюжет идёт прямо к своей развязке, и все события получают свое должное развитие. В „Гробовщике“ – иначе. Всё до известия о смерти купчихи Трюхиной и появления мертвецов кажется только приготовлением к повести, только завязкой, между тем как оказывается, что сами события именно на этом месте останавливаются, и повесть никуда дальше не идёт. Сон гробовщика служит мотивировкой для кажущегося движения. Повесть разрешается в ничто – не произошло ровно ничего, даже Трюхина не умерла. Получается нечто вроде каламбура – тут—то, верно, больше всего „ржал и бился“ Баратынский.»
«В „Гробовщике“ – игра с фабулой при помощи ложного движения: развязка возвращает нас к тому моменту, с которого началась фабула, и уничтожает её, превращая рассказ в пародию».[83 - Б. Эйхенбаум. Сквозь литературу. С. 167.]
Предлагаемая статья посвящается «Гробовщику», и в ходе разбора повести нам предстоит критически рассмотреть её понимание Б. Эйхенбаумом. Заметим, что композиционный анализ Б. Эйхенбаума также имеет дело с двумя планами в пушкинских повестях, как и традиционное истолкование, но если для В. Узина, например, эти планы определяются как кора и ядро, как «голая фабула», «внешний покров событий» и «их внутренняя телеологическая связь», то для Б. Эйхенбаума это «простая фабула» и «сложное построение». Так, в линейной, фабульной, по репутации, пушкинской прозе для того и другого исследователя не фабула главное, но некий другой план, в который преобразуется фабула: «смысл жизни» для одного истолкователя, «конструкция» – для другого. Таким образом, эти исследования направлены на очень разные и даже прямо противоположные цели; методологически они, по—видимому, отрицают друг друга, и действительно, в своё время эти направления работы взаимно одно другое отрицали. Однако ведь смысл и конструкция противостоят друг другу в произведении лишь идеально; реально они образуют художественное единство. Так, очевидно, и в «Повестях Белкина». Так что композиционные наблюдения Б. Эйхенбаума не столь чужды, как это кажется, выяснению смысла бел—кинских повестей, как раз которого Б. Эйхенбаум за ними не признаёт; это выглядит парадоксом, но таков был парадокс русского формализма. Занимаясь «Гробовщиком», мы увидим, что в анализе противоречия, в которое здесь вступают фабула повести и её композиция, и открывается нам иными способами не выявленное значение повести. В то же время отсутствие установки на смысл сказывается на самых композиционных наблюдениях Б. Эйхенбаума; композиция в целом, самый её рисунок, определена, на наш взгляд, неверно.
Обратимся к «Гробовщику». Эту повесть чаще всего определяют как шутку или пародию. Но, очевидно, она не сводится к шутке или пародии, и они, очевидно, не представляют последней цели всего, что предпринято Пушкиным в этой повести. Это – то, что предпринято, и следует рассмотреть в подробностях. Это значит прежде всего – «прочитать» композицию «Гробовщика».
2
Главным событием повести является сон гробовщика с приходом мертвецов к нему на новоселье. Это, собственно, то, что в повести «происходит». Но происходит это, как оказывается, во сне, так что в итоге повести как раз ничего не происходит:
– Ой ли! – сказал обрадованный гробовщик.
– Вестимо так, – отвечала работница.
– Ну коли так, давай скорее чаю, да позови дочерей.
Если, таким образом, сходит на нет приключение Адрияна Прохорова, то значит ли это, что сама повесть Пушкина «разрешается в ничто», как о ней заключал Б. Эйхенбаум?
В критике чаще всего в духе сюжетного итога повести формулировался и её художественный итог. «. И всё оказывается вздором, маревом, сном, и он мирно садится пить чай».[84 - Владислав Ходасевич. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. С. 69.] «Фантастический сюжет в последних строках начисто снимается мотивировкой сном».[85 - Послесловие Д. Якубовича к «Повестям Белкина» (Л., 1936. С. 140).] «Простейший случай („Гробовщик“), когда все ужасы оказываются сном».[86 - Замечание А. А. Ахматовой по поводу «игрушечных развязок» «Повестей Белкина» (А. Ахматова. О Пушкине. Л., 1977. С. 168).]
Однако наше итоговое впечатление по прочтении повести не столь «просто». Оно не определяется только эффектом развязки. Как и в других своих «Повестях Белкина», автор «Гробовщика» искушает читателя простой развязкой, в которой вместе с фантастическим приключением как будто демонстративно снимается вся таинственность и значительность рассказанной истории. Но мы говорили уже, что эта «белкинская» интенция, совершенно определённо присутствующая в повестях и внушающая отношение к ним как к «побасенкам», как бы вписана в их структуру вместе с образом простодушного автора Белкина и пушкинского значения повестей не покрывает. В данном случае «простейшая» развязка не покрывает всего предшествующего повествования с кульминационным событием сна. Функция самой развязки оказывается неоднозначной: в одном отношении – как чисто фабульный элемент, как голый конец, развязка всё упрощает, но как композиционный фактор она осложняет картину.
Повесть построена так, что развязка не просто снимает рассказанные события, но она заставляет на них оглянуться и развернуть их в обратном порядке: ведь герою приходится утром (как мы увидим, не без усилия) возвращаться к реальности, и вместе с ним это делает повествование: явь от сна отделяется ретроспективно. В утреннем свете развязки события сна обращаются вспять, обнаруживая свою верхнюю границу, свою исходную точку. Тем самым прочитанная нами история ретроспективно членится надвое, и выясняется соотношение двух этих частей истории как яви и сна; событие жизни гробовщика членится на два различных по своей природе события.
На эту особенность внутреннего устройства повести наводит нас наблюдение Б. Эйхенбаума в цитированной статье 1919 г.: «сами события» именно там останавливаются, где главные события повести только начинаются, и как раз там, где действие принимает интенсивный характер, оно, как оказывается, не идёт. Можно возразить на это, что сон гробовщика идёт – как сон, что сон это тоже событие; можно вспомнить у Пушкина другие сны, многозначащие и важные для действия (сны Татьяны, Отрепьева, Петруши Гринёва). Но в сравнении с этими знаменитыми снами сон гробовщика имеет свою интересную специфику; она и отразилась в наблюдении Б. Эйхенбаума. Сон Адрияна Прохорова образует не похожий на них сюжетный рисунок. Этот сон не чета тем вещим пушкинским снам: их значительность утверждается ходом действия, этот низводится в результате как «только сон». Формальное же отличие, от которого и зависит этот эффект, заключается в том, что сон идёт необъявленный, оказывается сном. Таков основной факт, определяющий структуру «Гробовщика».
Классические пушкинские сны всегда объявлены: И снится чудный сон Татьяне. Манифестируется и самый сон, и чудный его характер. «Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое.». Подобным образом вводится и сон героини в «Метели»: «. бросилась на постель перед самым рассветом и задремала; но и тут ужасные мечтания поминутно её пробуждали».
Адрияну Прохорову тоже снится чудный сон. Но он не вводится подобными словами. Переход из реального действия в сонное не отмечен в рассказе, переход совершенно правдоподобно замаскирован и от читателя скрыт. «На дворе было ещё темно, как Адрияна разбудили». Так вводится сновидение. В естественно продолжающемся сюжете к гробовщику приходят покойники (по его приглашению, сделанному ещё наяву), как статуя Командора приходит по приглашению Дон Гуана, – и только утром повествование «возвращается к действительности», вместе с самим героем.
Этим как бы попятным ходом, накладывающимся на поступательную динамику сонных событий, и производится тот эффект превращения динамического развития как бы в статическую фигуру, который был зафиксирован Б. Эйхенбаумом как определяющая особенность построения «Гробовщика», его конструктивный принцип. События «останавливаются», т. е. они выключаются из реального ряда жизни гробовщика, который связывается в последних строках, минуя и как бы уничтожая сон.
Означает ли это, однако, что динамику кульминационных событий можно определить как ложное, кажущееся движение? У Б. Эйхенбаума эти характеристики методологически последовательны, но наше впечатление от повести с ними не соглашается. Дело в том, что композиционный анализ Б. Эйхенбаума методологически исключал «материал», т. е. самую тему гробовщика и самую фабулу как таковую в её конкретности; рассматривалась чистая схема движения событий, вне того, что собственно «движется» в этих событиях, что снится и что не снится гробовщику. Приведём здесь цитату из книги, посвященной в 20–е годы критике «формального метода»; автор книги пишет об опоязовском понимании материала, согласно которому «материал должен быть абсолютно индифферентен»:
«Если бы смерть, именно как смерть, а не как безразличная сама по себе мотивировка отступления, входила бы в конструкцию произведения, то вся конструкция была бы совершенно иной. Смерть нельзя было бы заменить перестановкой глав. Фабула из безразличной опоры для сюжетного развёртывания превратилась бы в самостоятельный и незаместимый элемент художественной конструкции».[87 - П. Н. Медведев. Формальный метод в литературоведении. Л., 1928.С. 148.]
Если бы самая фабула гробовщика, как она существует в пушкинской повести, рассматривалась бы в анализе Б. Эйхенбаума как «незаместимый элемент художественной конструкции», а эта последняя бы рассматривалась как небезразличная к наполняющему её «материалу» и теме, – то конструкция в целом выглядела бы иначе, нежели как она предстает в итоге у Б. Эйхенбаума. Конечно, анализ этот краток и не включает «подробностей». Однако «подробности» исключаются принципиально из самой конструкции, а поэтому и из анализа. Б. Эйхенбаум замечает, что «всё до известия о смерти купчихи Трюхиной и появления мертвецов кажется только приготовлением к повести, только завязкой.». Что же именно здесь «завязывается»? Мы увидим, читая повесть, что завязывается здесь тот самый сюжетный парадокс, который так остро схватил и определил Б. Эйхенбаум, – завязывается в «материале», в «подробностях».
И не рассматривая по существу этой завязки (а она охватывает более половины текста «Гробовщика»), мы не получим ключа и к «конструкции». Почему повествование переходит в сон без отметки об этом и затем событие сна снимается как событие? Б. Эйхенбаум рассматривает самый этот эффект вне «материала», в котором он достигается: чистое, освобождённое от материала, движение фабулы, снимаемое обратным движением, – «ложное» движение, в итоге, как смысл и цель всего построения – пародийное самоуничтожение фабулы.
Однако, приняв во внимание («включив в конструкцию») всё то, что по существу в повести происходит, мы «прочитаем» иначе и самое построение, самую композицию повести. В построении «Гробовщика» можно рассмотреть иную фигуру; определим её формулой В. Виноградова – «семантический параллелизм».[88 - В. В. Виноградов. Стиль Пушкина. М., 1941. С. 462.] Ретроспективно сон выключается из порядка событий жизни гробовщика, но этим он не просто снимается; он образует другой порядок событий, который не сочетается с первым, «дневным» порядком в одной и той же плоскости действия, но выключается из него как другой параллельный план гробовщического бытия.
«Эти два разных плана изображения сначала кажутся одним последовательно развивающимся клубком авторского повествования, хотя в них обоих повторяется одна и та же тема с некоторыми вариациями. Но потом оказывается, что они противопоставлены, как явь и бред, воспроизводящий в причудливых сочетаниях образы и впечатления яви». Автор, «не прерывая прямого развития фабулы», строит «последующие фантастические события как отголоски и отражения уже описанной действительности».[89 - Там же. С. 461–462, 463.]
Непрерывный поток событий, единая фабула повести, таким образом, расчленяется как бы на фабулу яви и фабулу сна, которые в результате не связываются в единую линию действия. Не нуль фабулы в результате повести, но раздвоение фабулы и смысловое соотношение планов, «семантический параллелизм», «симметрия образов и тем»,[90 - Там же. С. 461.] открывающаяся в сопоставлении дневного сюжета героя повести и его сонного видения.
Итак, линейная фабула оборачивается скрытым параллелизмом построения: такова формула композиции «Гробовщика». Но линейная фабула именно «оборачивается», это – «оказывается» (слово, без которого не может обойтись никто из пишущих о «Гробовщике»). В том—то и дело в этой повести, что «семантический параллелизм» дневного и сонного действия скрыт в поступательном движении фабулы, два плана действия сведены на одну повествовательную плоскость, два ряда образов следуют в линию, в ряд.
В. Виноградов по поводу одного эпизода (речь Адрияна после пирушки у немца) рассматривает, что означает он «в прямом фабульном движении повести» и как его можно понимать «в общей композиции повести, в аспекте её скрытой семантики».[91 - Там же. С. 568.] Эта коллизия прямого фабульного движения и композиции, которою оно «оборачивается», и работает в повести как её «конструктивный принцип». Б. Эйхенбаум первый определил значение этой коллизии «простой фабулы» и «сложного построения» для «Повестей Белкина» и зафиксировал особенность её проявления в «Гробовщике». Но Б. Эйхенбаум не искал «скрытой семантики» в этих особенностях построения, для него само по себе построение как таковое и было семантикой; картина построения оказывалась, однако, от этого плоскостной и смещённой относительно композиции пушкинского «Гробовщика».
Какова же семантика этой композиции? О чём рассказывает повесть, так построенная, если не согласиться, что она «разрешается в ничто»? Заметим, что видимое прямое движение повести возникает из постепенного совмещения и смешения «внешнего» и «внутреннего» плана существования её героя; повествование словно теряет грань между явью и сном, реальностью и фантастикой, действительностью героя и его сонным сознанием. Читая «Гробовщика», мы видим, как постепенно это сплошное реально—фантастическое действие повести растёт из её «материала», реализует тему существования Адрияна Прохорова; в этом словно теряющем грань сюжете и вскрывается «скрытая семантика» жизни гробовщика, ему самому неведомая. Тот «узел» действия, каким является сон, завязан и постепенно затянут в «завязке» (первая и большая часть повести).
3
«Просвещённый читатель ведает, что Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробокопателей людьми весёлыми и шутливыми, дабы сей противоположностию сильнее поразить наше воображение. Из уважения к истине мы не можем следовать их примеру и принуждены признаться, что нрав нашего гробовщика совершенно соответствовал мрачному его ремеслу. Адриян Прохоров обыкновенно был угрюм и задумчив».
Традиционно с образом гробовщика в литературе связана остроумная тема. Н. Я. Берковский по поводу пушкинского «Гробовщика» цитировал из «Хозяйки» Достоевского: «В нижнем этаже жил бедный гробовщик. Миновав его остроумную мастерскую, Ордынов…».[92 - Н. Я. Берковский. Статьи о литературе. М., 1962. С. 312.] «Остроумно» положение гробовщика между живым и мёртвым миром, двусмысленно смешанными в его профессии и роли среди людей.
Остроумие темы играет контрастами – оксюморонами живого и мёртвого и вокруг пушкинского Адрияна с первой же фразы повести. Однако повествователь противопоставляет его классическим литературным могильщикам, выведенным «людьми весёлыми и шутливыми», – прежде всего шекспировскому могильщику, весёлость которого обсуждается Гамлетом и Горацио: «Гамлет. Или этот молодец не чувствует, чем он занят, что он поёт, роя могилу? Горацио. Привычка превратила это для него в самое простое дело. Гамлет. Так всегда: рука, которая мало трудится, всего чувствительнее». Однако затем, вступив в разговор с этим малым, Гамлет убеждается, что с ним надо «говорить осмотрительно, а не то мы погибнем от двусмысленности», и произносит свою знаменитую фразу о том, что все стали настолько остры, что мужик наступает дворянину на пятки. Принц и могильщик состязаются как равноправные партнёры в философском остроумии, обоснованном у одного из них с интеллектуального верха, а у другого – с народного низа. Могильщики у Шекспира и Вальтера Скотта[93 - Герой «Ламмермурской невесты», заказывающий похороны, находит «философские рассуждения могильщика очень забавными».] остроумны функционально: остроумие темы непосредственно выражается в том, что они даны людьми весёлыми и шутливыми.
Пушкин хорошо знал этот шекспировский эффект, он очевиден в «Пире во время чумы», написанном в Болдине после «Гробовщика». В «Гробовщике», однако, Пушкин не просто не пользуется этим эффектом, но открыто и нарочито (эффектно) «снимает» его в экспозиции повести, объясняя читателю своего героя.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: