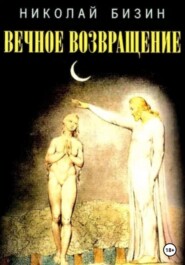скачать книгу бесплатно
Он был псевдо-Илия и не мог сказать встреченному им псевдо-Прометею (словно царю нечестивому): Бог жив! Но он мог (опять и опять) псевдо-воскреснуть (быть живым взяту на небо).
Едва лишь перчатка к нему прикоснулась, он умер, и его мёртвое тело унесло как пушинку на два шага назад. Он почти что коснулся обнажённой спиной того самого зеркала, что покрывало всю стену спортзала (как в в 41-м лопатками нам всем довелось прикасаться лопатками к Волге-реке).
Но не коснулся. Одного малого биения сердца не хватило.
От удара он умер, и – сердце уже не билось. Не стало сердцебиений; но – он (взамен) ощутил серебряное дуновение: именно что отсутствия смерти. Поскольку – лишь благодаря очередной смерти сердце осталось в Илье.
То есть – погрузилось в глубины зеркал. А потом – Илья выпрямился и стал как душа. А потом и его сердце выпрямилось и перестало быть мышцей тела: мышца умерла, но душа стала биться взамен.
Рыжебородый, меж тем, лупил и лупил послушливых учеников. Проделывал он сию экзекуцию «убиваний и воскрешений» (затем и чрево вокруг него строилось) всё так же размеренно и бесстрастно: с каждым ударом чрево выпячивалось изнутри и наружу (к зеркалам), не разрывалось и не взрывалось.
На сей раз Илья остался около зеркала и – не поспешил (по примеру учеников) возвращаться на место (а потом и продолжить эти мёртвые роды). Тогда сам учитель бандитов остановился перед ним и вслух, уже безразличный к приличиям, произнес:
– Как был ты, Адам, сплошною глиной, так ей и остался.
Теперь и это имя (окончательно) прозвучало. И ничего не произошло. Псевдо-Илия действительно оказывался не пророком Илией. И только псевдо-титан оставался именно что великий гуманист Прометей (какая разница, мал или велик светоносец, суть одна: распадаться на атомы сутей).
Потом – поскольку незваный гость никак (даже и вслух) не стал отвечать на глумление, рыжебородый продолжил:
– Женщину ищешь? И при этом смеешь носишь то, чего в тебе нет: металл! Налагая его на себя как клеймо Дня Восьмого.
– Да, – ответил Илья. – Налагаю. Клеймо как клеймо: несмываемое.
Внешне в этих двух фразах ничего не было. Человек со стороны остался бы убеждён в очевидном: незваному гостю ещё раз указали, что он мягкотел.
Но нашему незваному гостю (пришельцу со всех сторон Света) слова эти были наполнены светом даже не самого Первого Дня (или даже пусть Дня Шестого!); грянул Свет во все стороны, и время пришло Дня Восьмого.
Предположим, что недотворение мира произносилось на языке до-Вавиланском (первоначальной немоты, для которой любой алфавит просто-напросто тесен. И продолжим произнесение мироздания в мир: никому не известно, на каком языке будет произнесено до-Творение (доведение до совершенства) мира, который не-дотва'рен (см. тварь – человек: аз есмь альфа и омега, первый и последний).
Чем тогда окажется мир для человека-омеги? Опять-таки произнести это возможно лишь на языке первоначальной немоты.
Известно лишь – старого мира не станет. Поэтому – Илья молча шагнул к рыжебородому и – прочь от зеркала (которого так и не коснулся; хотя и мог бы – крылами); и тотчас (и это увидели все!) по серебряной глади зеркальной стены зазмеились трещинки и паутинки; поначалу медленные, они вдруг набухли и обернулись ручьями!
И уже все зеркало с шелестом потекло на паркет и осыпалось полностью.
Тогда рыжебородый с Ильей посмотрели друг другу в глаза: Опять ошпарило веки, причем на этот раз обоим; но! Они оба взглядов не отвели; и тогда Илья (одной лишь мыслью) кивнул, разрешая:
– Говори!
И рыжебородый (по прежнему – вполне светоносно) заговорил:
– Стремишься ее познать?
– Я её знаю. У тебя лишь хочу узнать о ней; а то, о чем ты глумишься – было, есть и будет.
– Разумеется! Ты её ученик.
– Нет, я только учусь у неё.
И пока это всё говорилось (молчалось, кричалось), а зеркало всё осыпалось и осыпалось, была вокруг тишина: ничего, кроме чистого шелеста серебра и осколков. И открывался настоящий цвет зеркала: оказался он иссеня-чёрным, словно ворОнье крыло на пОле павших пОсле сечи. НастОлько настоящий цвет, что приОткрылся истинный алфавит мирОпОрядка.
Совсем рядом стояли друг к другу настоящая жизнь и настоящая смерть. Настолько рядом, что и жизнь, и смерть оказались (или только казались, кто знает?) одним и тем же. Точно так же стояли друг против друга Илья и рыжебородой.
Но бесконечно так продолжаться, конечно же, не могло.
Казалось бы, они сами решали, как и о чём говорить (или молчать, или кричать); казалось бы, совершенно несущественны стали сейчас обрядовость отношения к жизни, а так же быстрота или медлительность смерти; казалось бы!
Но их, конечно, прервали:
– И что нам теперь с ним делать? – откуда-то из невеликого своего далека ласково прорычал совершенно забытый (но всецело осознающий свою – здесь! – не-обходимость) рукастый бандит.
Не то чтобы удобный его разумению гнев за разбитое зеркало помутил его невеликий рассудок. Не то чтобы в глазах заклубились, звеня, кровавые бубны, что заставили о субординации позабыть. Просто – он был и остался в своём роде псевдо-Ной, который не понимал (и в своём роде был прав), что сейчас не до него.
Рыжебородый попросту оторопел. А Илья (зная, о чём хлопочем рукастый бандит), просто сказал:
– Назовите цену зеркалу, я оплачу.
– Конечно, оплатишь-шь… ха-кха… – это рукастый заперхал и принялся давиться собственным языком! Рыжебородый, вновь бросив взгляд, заткнул его горло.
– Вот так. Помолчи.
Рукастого чуть отпустило. А рыжебородого (после происшествия с зеркалом) Илья словно бы перестал интересовать. Да и прежде интересовал всего лишь миг, когда не хотел замыкать круг утробы.
Кажется, теперь он захотел незваного гостя побыстрее спровадить:
– О той Яне я многое слышал.
Илья мог бы усмехнуться:
– Вижу, что всего лишь слышал. Раз до сих пор здоров и даже мнишь, что процветаешь, дороги ваши не пересекались.
– Отчего же? – мог бы спокойно ответить рыжебородый; но он знал своё место и (не менее спокойно) признал:
– Мне подобных она не выносит.
На миг показалось, рыжебородый сказал: что из пропасти некая женщина (как птица Симург) на плечах выносит только лишь несомненных героев (остальных не заметив); показалось; а сам рыжебородый титан-светоносец словно бы признавался, что он (хоть едва не бессмертен) совсем не герой.
Так и было бы, если бы он не продолжил:
– Но всё верно, что ты сам к нам пришёл. Что вверху, то внизу.
– Ты сказал.
– Да, я сказал, – подтвердил рыжебородый и опять улыбнулся (одной лишь мыслью, говорящей незваному гостю: Теперь твой черед отвечать).
– Спросив цену зеркала, я спросил твою цену, – ответил Илья.
– Я знаю. Но за спрос, как известно, карман не ломают.
Рыжебородый опять мог бы (по доброму) улыбнуться своей лютой улыбкой. А что лютость такой доброты – в предъявлении меры тому, кто меры не знает, так это и есть это мудрость любого Прокруста!
Пусть тот, кто сам мера всему, себе положит предел.
Рыжебородый был беспощадно прав: не имеет значения, зло или добро изрекают истину; истина анонимна, а что вверху, то и внизу.
Интереснейший оборот принимала беседа. Хорошо бы мне слышать её и дальше (пусть даже она продукт моей головы); но – не тут-то было: опять колыхнулись и вспучились самомнением рядовые громилы.
Их внутренний миропорядок подразумевал, что нельзя им плыть по реке, пока мудрец наблюдает за их телодвижениями с берега. Но никаких (даже мысленных) телодвижений они совершить не успели, конечно.
– Не трудитесь! – сказал рыжебородый. – Да и я не буду. Он сам отыщет на себя управу.
После чего отвернулся от Ильи (который, услыхав его приговор, не удивился). И легла между ним и Ильёй нестерпимая даль. И что об этой дали' было сказано, и что осталось не досказано – всё оказывалось несказа'нным.
Стороннему наблюдателю: живому душой; но – не затронутому катаклизмом (буде такой человек в мироздании возможен) стали бы видны тектонические подвижки в дощечках паркета, и слышны стали бы магматические пульсы каждого присутствующего.
Словно бы даже их дыхание могло стать причиной локального землетрясения где-нибудь в Гондурасе. Но главным было другое: с этого момента клуб начал тяготить Илью, поскольку уже отдал все то немногое, чем обладал – причем тяготить нестерпимо!
– Итак, о твоей цене.
Илья говорил вслух. Разве что от рыжебородого чуть отвернувшись. Исподволь взглядывая на зеркало и (благодаря зеркалу) становясь как бы везде Чтобы стать этим «везде», никаких телодвижений не требовалось: зеркало словно бы сбросило с себя осколки телодвижений и (это разные вещи) осколки личностей.
Говоря, Илья словно бы поднимал непомерную тяжесть: знание того, почему серебряная стена почернела. Поднимать эту тяжесть (и говорить о ней) не было никакой нужды, но и не делать этого не получалось.
– Ты захотел дать мне смерть, небольшую и робкую.
– Робкую? – рыжебородый обиделся – Я убил тебя дважды! Почему ты (пока что) не умер?
– Я не принимаю подарков. Я всё беру даром, – ответил псевдо-Илия.
После чего безразлично предложил:
– А ещё я меняю одно на другое. Но тоже даром. Поэтому предлагаю тебе обмен, – казалось бы, безразличие Ильи к тому, что какая-то смерть негаданно удвоилась, объяснялось тем, что лицо его стало прямо-таки космически нагим и – прямо-таки незыблемым в ледяном астрале азбучных истин.
– Какой обмен? У тебя ничего нет.
– Не совсем так. До прихода сюда у меня действительно ничего не было. А вот теперь уже есть твоя смерть, – здесь он не стал улыбаться, просто подытожил:
– Это – либо одна твоя смерть, либо – две и более смерти; сколько их у тебя – всё равно: что вверху, то и внизу.
Рыжебородый молчал.
– Это – не мои смерти, и – не они мне нужны. Укажи мне мою единственную жизнь, и за это я напомню тебе твою лютую цену.
Рыжебородый – не поверил. Или – принял такой вид: вестимо, и бесы веруют, но трепещут.
– Неужели ты, глина, укажешь, что для меня наилучшее?
– Наилучшее для тебя вполне недостижимо: не родиться, не быть вовсе, быть никем. А второе по достоинству для тебя (ведь и у тебя есть достоинства), то есть – для тебя наиболее предпочтительное: скоро умереть.
Эти (обрекающие) слова Илия взял из книги «сверхчеловека» Ницше. Услышав, Рыжебородый – побледнел смертельно! Даже яркие веснушки на его щеках (известно, в мире нет весны – ведь она постоянна) сделались почти невидимы. Стали казаться пятнами весенней грязи.
Тишина, подобно зимнему пушистому и доброму тигру, вошла в зал и осталась. Рыжебородый стоял посреди тишины, показалось, он тоже стал некасаем! Как булатный клинок для опускающегося на него лоскута (которому – не бывать рассечённым).
– Я никогда не соглашусь с этим.
– Ну и что? Твои слова пусты, как и твоя титаническая слава. Теперь укажи дорогу.
– Хорошо, – молча произнес рыжебородый; впрочем, и это слово было пустым и совсем лишним – ибо в это мгновение иссякало сегодняшнее бессмертие Ильи; конечно же, и оно могло бы иссякать бесконечно; но – сейчас иссякла и нужда в бесконечности.
Впрочем, обоим сие было ведомо.
– Пусть он свободно уйдет.
– Но учитель! Пусть хоть зеркало оплатит, – бормотнул рукастый.
И тогда Илья просто вымолвил:
– Сколько?
Он вышел под дождь. Вечер уже завершался, наступала ночь. Тьма и дождь были повсюду.
Капли рождались, могло показаться, из самой тьмы: как пыль мировой энтропии, гонимая ветром! Капли зависали и плыли, ими (каждой отдельно) приходилось дышать. И очень скоро губы Ильи оказались смазаны пустой влагой. Как губы пустого идола во время кровавого и бесполезного подношения.
Но на следующий день, то есть в среду, дождя не было. Не было нужды проходить между порассыпанной повсюду Летой или переправляться через Стикс: персонификация каждой (насмерть разящей) капли достигла своего экзи'станса! Да и смерть обрела себя и стала участвовать в событиях лично.
Илья опять поднялся из подземелий метро. Он опять свернул к каналу и широкими шагами пересек его. Толпа вокруг него опять была бурливой и пенной; к тому же сегодня была среда.
И она (и как день недели, и как ареал обитания) близилась к своему вечеру.
После моста он свернул на набережную и пошел вдоль воды и руин давешнего (вавилонского) универмага: их и на этот раз ему пришлось миновать, вот разве что с другой стороны. Но не только это оказалось сегодня иным.
Теперь он шел не один, и число теней от Чёрного Солнца выросло.
Сейчас рядом с ним (и почти невидимой всем) шла тень всех его теней, прошлых и будущих – сейчас рядом с ним шла его личная смерть! Она, как известно, женщина и желает сочетаться или даже повенчанной быть с живым человеческим сердцем.
Как и любовь, смерть способна меняться и стать взрослой. А потом и превысить себя. Как и любовь, смерть способна быть безответной. Как и любовь, смерть может казаться наивозможной из жизней. Как и любовь, смерть способна изменить всё и всем.
Он шёл к неприметному зданию, расположенному около автомобильной стоянки.
Прихожая, где он оказался, была высока и просторна, и несколько неряшлива: совсем как прихожие заброшенных петербургских дворцов, в которые так легко, казалось бы, войти и откуда ничуть не труднее, казалось бы, выйти; вот только цель своего прихода объяснить далеко не так просто.
Разве что взгляд оттолкнется от зыбкой штукатурки стен, и взлетевшее сердце не будет рассечено этим взлетевшим взглядом.
Приходить сюда не возбранялось никому (казалось бы). Оттого в прихожей всегда было людно; или только казалось, что людно, ибо не было пусто. Молодые мужчины и женщины входили и выходили, говорили и смеялись, и не молчали.
А даже если молчали, имеющий душу да слышит!
Порою они понимали друг друга с полуслова, порою понимали даже непониманием: всё в них говорило, и сами они говорили – всем; и то, и другое, казалось бы, никому не мешало и – происходило стремительно, и ощущалось физически, как воздух высокогорий.