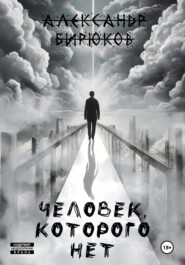скачать книгу бесплатно
– Чего же мне хотелось тогда? чего же мне хочется сейчас? вот вопрос, но я не могу сказать точно, что именно мне хочется, чего мне желать, чего? Что-то нужно разве желать? а разве не бывает так, что человеку все равно? что человек ничего не хочет?
Но в этот момент перед глазами потемнело, а вместо привычной комнаты всплыли воспоминания давно ушедших дней. Я что-то понял в этот момент, но не мог до конца осознать что же именно. Как странно было ощущать себя в таком состоянии, которого я не чувствовал несколько последних лет, – то ощущение, когда ответ витает где-то рядом, но вместе с тем невозможно понять, где же он. Я увидел себя совсем маленького, а рядом родителей, которых всегда представлял немного иначе: злыми, замкнутыми, невзрачными; мать – безразличная ко всему женщина, отца я вообще плохо помнил, только ту запачканную кровью рубашку в роковой для меня день, но сейчас… сейчас во вспышке они предстали совсем иными: мы были счастливы, все мы, втроем: я, мать и отец. Мы катались с отцом на каруселях, а мать нежным провожающим взглядом, каждый раз, когда карусель уводила наши кресла по кругу, вглядывалась в нас и улыбалась. У отца была улыбка на лице, которой я никогда не видел – я вообще никогда не помнил, чтобы он улыбался, – белые зубы, легкая щетина, не уродовавшая, а украшавшая его серьезное, но только для меня доброе лицо. Это вмиг пропало, сменившись другими воспоминаниями – но были ли то воспоминания?
«Это вздор! Ничего этого не было. Я снова представил себе образ счастливой жизни, которой никогда не имел! Этого не было. Иллюзия. Я никогда не был маленьким, я никогда не умел улыбаться и уж тем более не мог иметь родителей. Все это неправда. Способность мозга навязывает мне то, чего не было, но только то, что хотелось, то, что могло быть в параллельных вселенных. – Мысли на несколько секунд вообще исчезли. – Мои иллюзии меняются со мной, расслаиваются, смещаются, перекликаются… Это все как-то связано. На этот раз они подобрались слишком близко… но зачем?»
Следующий образ – я рядом с женщиной, которую я когда-то любил. «Любовь? Что такое любовь?» – спрашивал я себя, не в состоянии сравнить это чувство с чем-то реальным. Мы были с ней вместе, гуляли, говорили друг другу ласковые слова, даже не понимая, что они значат, но думая, что это что-то очень важное, что-то взрослое, а значит запретное. Вглядываясь в ее лицо, я не видел в нем ничего – только пустой холст, на котором можно было изобразить все, что угодно. Но даже за неимением характерных черт лица, я знал, что это именно она: по походке, по волосам, по мановениям рук.
«Нет, все вздор! Мы никогда не были вместе! Это я знаю точно!» – каким-то чужим голосом прозвенело в голове. Голова истошно болела, требуя прекратить мучения, печень пульсировала, напоминания о том, что она не бессмертна, о том, что она умрет назло мне, если я буду продолжать пить столько алкоголя; но прекращать я ни в коем случае не собирался. Перед глазами начинало двоиться, – хороший признак. Отравление поглотило организм, и теперь был только один путь – наслаждаться божественной негой бессилия.
Появилось понимание чего-то неуловимого, висящего в воздухе. Это невозможно пощупать, ощутить, вдохнуть, смахнуть с плеч размягченной ладонью, вялой, подобно безынтересной жизни, укутанной в свитер насущных проблем, – но сейчас все стало предельно ясно, по крайней мере, так казалось мне. Это ничего не значит. Все это явилось просто так, как и всегда: чтобы успокоить, чтобы усмирить, унять внутреннюю боль. Раньше я не давал себе этого понять… тогда почему дал сейчас?
– Вам принести еще, мистер? – отскакивал от стен голос, и было ровным счетом не понятно, откуда изначально пришел звук.
– Нет! Довольно! – отмахиваясь от наваждения, будто бы боясь, что это слова могут преследовать меня, крикнул я. Дверного скрипа, как раньше, не последовало, а посему в душе поселилось отчаянное, но стойкое убеждение, что хозяйка голоса сейчас скрывается в тумане и возможно даже упорно смотрит на меня.
Было неприятно думать об этом и уж тем более ощущать на себе чей-то взгляд, в чем я не был все-таки до конца уверен. Но ощущение никуда не пропадало, а со временем только усиливалось: ожидание присутствия чего-то нематериального – невидимого и вместе с тем отвратительного. Гетера, дымя, неколебимо сидела на второй половине кровати. Наверное, надо было думать о чем-то более возвышенном, но сейчас, смотря на красивую женщину, смиренно изнывающую духоты, я чувствовал только безразличие.
Захотелось увидеть те черные глаза, еще недавно как провидение летавшие передо мной, и губы, источавшие невидимый виноградный запах. Я знал, я чувствовал, что будет дальше, так как мои мысли никогда не остаются без внимания извне, но никого или ничего не появилось: ни видения, ни намека на это видение, на вроде бы знакомые пепельно-угольные глаза и страстные искусанные до крови губы.
Я даже не заметил, как комната стала ненавязчиво меня отторгать: она наконец-то решилась меня отпустить, но я не видел и не слышал, не чувствовал ее щедрости. Вообще получается, что здесь – в этой комнате, в этом мире, снежной крошкой размывающей лица, – нет ответа на вопросы, нет самих вопросов, тревожащих умы миллионов, – нет вообще ничего. Ведь я здесь центр вселенной, а значит, если нет в моем мире ответов, значит я сам не знаю ничего.
Внезапно стало душно. Это комната подгоняла меня, давая понять, что нужно вовремя уйти, и уйти прямо сейчас. Очнувшись от исступления, я увидел, что дым стал менее густым, но разглядеть все равно что-либо было невозможно. Дышать стало немного легче: не чувствовалось запаха крепкого табака. Натягивая брюки на ноги, испещрённые рубцами, ожогами, пятнами гематом и клецками шрамов, я косо взглянул на дверь – желанную дверь. Своеобразный коридор, выеденной тропинкой среди дыма, вел к двери. Запах смрада резко ударил по глазам и ноздрям – еще одна уловка мистической комнаты. Подойдя к двери, я оглянулся назад: невидимые стены медленно таяли, туман забирался в коридор, плавно, без резких движений, аннексируя новые территории.
Мадам-сутенерша вроде бы как не заметила моего присутствия, но я знал, что только я здесь желанный гость, а значит, только на меня устремлены ее взгляды. Ее резкий поворот в мою сторону не был неожиданностью, но все же немного испугал меня. Вопросы тирадой сыпались с ее уст, а после безудержный, сумасшедший смех следовал за ними. Говорить с ней совершенно не хотелось, поэтому я запихнул несколько купюр в одну из складок ее вывалившегося живота, а затем ушел. Спускаясь по лестнице, я увидел в зеркале себя, но только поднимающегося вверх. «Когда же это было? – всматриваясь себе в глаза, недоумевал я. – Сегодня ли или в прошлый раз, а, может быть, в следующий?»
Уличная серость сменилась белоснежной коркой снега и падающими снежинками. Было холодно, но приятно. Приятно оттого, что после долго времяпрепровождения в душной и дымной комнате, я наконец-то смог вдохнуть относительно свежего, прохладного воздуха. Закуренная сигарета обжигала кончик носа и подбородок. В момент, когда еще недотлевший уголек падал к ногам, он пискливо шипел, соприкасаясь с влажной кашицей из воды и снега. Приятно покалывало кожу снежинками, падающими с небес.
Надо идти. Но куда идти, зачем идти? Зачем идти, если всюду нет конца, нет конечной точки, которая бы смогла определить смысл существования, чтобы раскрыть смысл наших терзаний, обусловленных только поиском этого самого конца. Искать тупик, чтобы просто его найти? чтобы, найдя его, мы смогли гордиться тем, что поиск завершен. Смысла от этого все равно никакого… только пустота, заполняющая те части вселенной, среди которой бродят наши тела, в которых не хватает эфирного вещества, именуемого смыслом. Легко найти себе смысл существования, но не так-то просто его оправдать…
Перебирая ногами по асфальту, я пытался осознать, что же происходило всего десятки минут назад, что же такого могло войти в мое подсознание, если так резко простая осенняя хандра сменилась всеобщим зимним застоем – стагнацией не только меня, но и всего вокруг. Как бы красиво смотрелась «Лунная ночь на Днепре» в этом маленьком тусклом уголке – нише, в перспективу заволакивающей взгляд. Я бы мог раствориться в ней, если бы хоть раз увидел это чудо, сошедшее с кисти мастера, в первозданном виде, я бы стал краской для такого «света», где глаза от любования слепнут, а ноги прорастают внутрь деревянных половиц, подобно лозам. Стена, загораживающая объемность этой перспективы, а я, я готов раздирать ногти в клочья и бетон в кровяную пыль только чтобы насладиться Днепром в лунном свете бесконечных полей и темной воды, стекающей с индигового неба, как бы низвергающего воды в каньоны степей…
Людей на улице было мало, но в каждом проходящем мимо субъекте я видел до боли знакомые черты, напоминающие кого-то. У них у всех не было определенного характера, не было определенных черт, но с каждой знакомой морщинкой, с каждой знакомой складочкой губ я убеждался все больше и больше, что это всё одни и те же лица, смотрящие не на меня, а сквозь меня, давая мне усомниться в своем существовании, в способности снести любые невзгоды, уничтожая себя на пути к совершенству и безразличию ко всему. Я вспомнил, что видел это лицо в своих воспоминаниях, расплывающееся в комнатном мареве. Теперь я точно понял, что все воспоминания – ложь, все то, что я тогда видел, – неправда; и теперь по-новому осознавая воспоминания, я видел настоящее прошлое, вот только кто может подтвердить, что и это прошлое реально.
Я точно знаю, что она существовала, и то, что я любил ее (какое-то незнакомое, давно забытое чувство, наверное), любил больше жизни… любил… любил исподтишка, не показывая ей своих чувств (а, может быть, тогда-то все и началось?), но только любуясь, боясь притронуться рукой, боясь заговорить, тем самым осквернив ее чистоту, ее первозданность, заложенную природой, красоту богини и грацию Венеры. Я не умел слушать ее слов, не умел слышать, вникать в суть слетавших с уст речей, – беззвучная Венера, не умевшая говорить, не умевшая смеяться, смотреть на меня, лаская гипсовым взглядом, застывшим в янтаре веков, растраченных мной впустую; о, как я мечтал смотреть на нее. Только в минуты отчаяния и горести заблудшей души, – как я мечтал увидеть ее мягкий подбородок с ямочкой по центру, ассиметричные плечи: левое вздымалось немного выше, чем правое, – я видел это, когда наблюдал за ее походкой сзади, плетясь подобно лисьему хвосту, покорно следующему за своей рыжеволосой хозяйкой. Все это в прошлом, но сейчас, сейчас я помню ее взгляд, это он мерещится мне всюду. Теперь неважно какое было прошлое, – я вопреки всему могу отчетливо видеть ее лицо, которое пустыми зрачками бесцельно ищет свое счастье. Но это счастье заключалось, конечно, не во мне. А ее ли это лицо? Почему бы моему мозгу опять не нарваться на злосчастную ошибку, давая понять, что это ее черты в лицах проходящих? У них нет лиц! Они безлики! Только выдумывая череду несвязанных видений и образов, я вновь натыкаюсь на давно позабытую жизнь. Точно, я уже видел все это! Это все, черт возьми, было! все проходило сквозь меня! я видел эти шаги, себя в зеркалах, в тумане, в забытье… и глаза, обои, стены, джин… и запахи (кратковременная отрезвляющая пауза настигла перипетию несуразных тошнотворных запахов и плача – детских грез. Успокоение)… Я любил ее, если она, конечно, существовала, существовала здесь, во мне… Но меня не было в ее повседневной жизни, увлеченной простыми истинами и детским смехом, пробирающимся сквозь толщу слез, обид и фривольности. Она существовала в моем мире, где я для нее не существовал. Какая ирония.
Шаги отстукивали определенный ритм, более всего пригодный для незаметной ходьбы, но в то же время немного отрезвляющий едва различимым звуком битья подошв, шарканья резиной о гладкую вздыбленную поверхность антрацитового асфальта. До ушей достигали едва уловимые звуки тарахтения автомобильных моторов, двигателями выказывающие свое превосходство над человеческой природой, спрятанной глубоко внутри нашего понимания, но открытого для тщеславия и зависти. Но автомобилей нигде не было: снежные дороги были пусты и даже нетронуты, не было машин и вдалеке, где на перекрестке все так же высвечивались пухлые снежные завалы, среди которых торчало несколько металлических прутов, появившихся неведомо откуда и неведомо зачем. Каждая мелочь имела свое место быть, и каждая мелочь была порождением человеческой мысли, человеческого гения, заблудшего среди лабиринтов снежных завалов и могил – загубленных мечтаний и воспоминаний. Я точно знал, что все неспроста, – я к этому привык: каждый аспект был связан с моим миром, в котором я потерял счет времени, место, в котором я проживал ссылку уже столько лет, небо, которое лазурью раскрашивало купол моей тюрьмы, в которой я без сомнения бог, но бог для кого, для самого себя? когда ты бог для самого себя, ты – судья своим свершениям, а когда ты судья самому себе, ты еще и свидетель своих преступлений. Приходится самому себе выносить окончательный приговор, среди которого я сам виновник всех бед, я – бог, судья, свидетель и преступник в одном лице.
Вдалеке гудели моторы, под ногами валялись игрушечные противотанковые ежи. И когда я наступал на них, те со свойственным пластиковым звуком хрустели, перекашиваясь в безобразные причуды, оставляя после себя лишь непонятный сперва, несуразный отпечаток на снегу, который напоминал большую снежинку сродни тем, что бесконечно падали с верхушки лазурного купола, а потом исчезали, будто бы тех вовсе и не было никогда. Снег – это детское желание превратить все вокруг в сахарный город, чтобы, проходя мимо домов, можно было спокойно, не считаясь с совестью, пососать карамельную стену. Конечно же, все это вульгарно, слишком гротескно… но сладкое в окружении было только осознание своего всевластия, в котором зародилось сомнение – понятие своей никчемности.
Она слишком часто говорила: она без устали открывала рот, а оттуда летели звуки, свет и краски, обагрявшие ее стройный стан и мягкие губы в цвет сольферино, – так мне казалось. Я никогда не слушал ее слова – попросту не мог, – но вместо этого любовался уголками ее уст, кремово-сладких, как само ощущение счастья, если таковое вообще существует в концентрации бесконечного удовольствия. Мне не нравился тембр ее голоса, – я всегда становился глух к ее рассказам, но, возможно, это было и оттого, что я никогда не приближался к ней ближе, чем на три сажени, довольствуясь наблюдением за нею издалека. Эссенция природного очарования в одном теле – божественный вклад в человеческую натуру. Лишь только раз я мечтал ее поцеловать – поцеловать и только. Но это предстало фантазией, способной разрушить даже в воображении ее девственность, ее нетронутость, ее сакральное женское начало, которое никогда не сможет восстановиться, избавиться от моих извращенных предложений, пускай во снах, и больше нигде. Я бы мог мечтать об этом и дальше, боясь воплощения моих мечтаний в реальность, но тогда бы я до конца осознал реальность табу, установленное не мной, но в то же время кем-то или чем-то, что было близко мне. И, ощутив ее, я бы потерял ту нить желания, ту нить прекрасного: культуры, этноса, сладострастия, которое забирается в кровь с вдохами и обещаниями самому себе в моменты отчаяния; больше я никогда не желал ее, как тогда, но только еще какое-то время любовался ею.
Ее ноги всегда покрывали полупрозрачные платья, скользя по коже, на которой маленькие бесцветные волоски колыхались от порыва ветра, заставляя робеть мерзнувшую девочку в моих фантазиях. Лоснящаяся кожа ее лица блистала, словно водная гладь на горных озерах, нетронутых человеком, сокрытых от чужих глаз – я видел, я любовался ею, как благоухающим цветком, не замечая недостатков: большие родинки, прыщички, которые растворялись в молочной пене ее розовых щек, шрамы. Она была моим опиумом, моим наркотиком, которого я боялся как огня: мне было страшно зависеть от нее, но отказаться от нее навсегда я не мог тоже.
Подумав об опиуме, я застал момент воплощения моих мыслей в реальность, – предо мной, сквозь снег, за несколько мгновений вырос алый мак. Я вспоминал ее облик, томящийся не то в моем воспоминании, не то в моем воображении. Я тронул этот мак, представляя, что это ее губы. Мешок раскрылся, черные семена высыпались из него, а потом – наверное, где-то в промежутке схлопывания век – они стали медленно разлетаться, превращаясь в черную пыль, уносимую ветром в сторону только что проделанного мною пути.
…Скончаться. Сном забыться.
Уснуть… и видеть сны? Вот и ответ.
Какие сны в том смертном сне приснятся,
Когда покров земного чувства снят?..
Тихо вслух цитировал я давно забытый на ощупь желтостраничный томик Шекспира, теперь же болтающийся по закоулкам моего сознания ярким воспоминанием; а сзади экслибрис прежнего владельца, стертый со временем от моих проверок на прочность его долговечности – конечно же, напрасно; и герб неведомой мне семьи, потерянной во времени моего пребывания в этом городе, мире… где нет ничего реального – даже прошлого, которое было лишь предзнаменованием моего появления, которого я, к сожалению, не помню… помню только свет, который появился в одночасье, отсчитывая мое осознание в этом мире. «Когда покров земного чувства снят…» – как будто надо умереть, чтобы понять эти простые истины, затерянные во времени писателей, чье существование надо поставить под вопрос. «Уснуть…» – думал я, выкидывая из памяти рассыпавшийся мак. Ведь если он исчез из материального мира, значит он исчез сначала из моего – мира иллюзий.
Опьянение медленно собрало свои вещи, невдомек куда сваленные ранее, надело на себя шляпу, застегнуло пальто на две бурые пуговицы, а потом, приподняв немного шляпу, как бы прощаясь, отправилось в путь, покинув меня. Мне приходилось чувствовать, как этот господин, еще недавно поднимавший шляпу, смеется надо мной. Он ушел, но смех еще долго разносился эхом в моей голове.
Осматриваясь по сторонам, я наблюдал за едва различимыми переливами теней, похожими на людей, которые проползали у меня под ногами. И когда я пытался наступить тени на горло – этой бестелесной твари – порождению алкогольной безнадежности, – то тень умудрялась разверзнуться так, чтобы контур моего ботинка едва касался боков прогалины появившейся дыры. Я думал о простых истинах, которые приходят в голову чаще, чем хотелось бы. Неужели этим серостям так податлива моя голова? настолько, что я даже никак не могу совладать со своим «я»… ах да, конечно, я же не умею, не могу противоречить миру, в котором я главный злодей, царь и бог, – шутливо парировал я сам себе, отвечая на свои же знакомые вопросы знакомыми ответами из разряда социопатических глупостей, которыми я перекидываюсь временами сам с собой. Но, честно говоря, было совершенно не интересно разговаривать самому с собой на одни и те же темы вот уже столько времени: год за годом, месяц за месяцем, но я старался делать вид, что я сам себе интересен, хотя от моего внутреннего голоса немного подташнивало мой внешний голос, который временами отхаркивал кровь, пунцовыми пятнами расплывающуюся на полотнах снега.
– Она виновата, я не мог ее понять, любить ее, хотеть ее…
– Ты сам виноват, – отвечал я сам себе, – ты сам запретил себе ее любить.
– От этого ли мне мерещится этот прогнивший мир? – снова спрашивал я у себя нудным голосом, изменяясь в лице.
– Не только от этого, друг мой, не только… ты просто болен!
Я остановился на месте, ошарашенный и растерянный. Последние слова мне явно продиктовал незнакомый голос, шепотом во сне пугающий детей.
– Кто это сказал? – выказывая явное безразличие (хотя на самом деле это было не так), спросил я.
– Кто это сказал? – насмешливо повторил голос.
Я повернулся направо и увидел там лужу растаявшего снега: ровную круглую лужу, а вокруг всё вечной мерзлотой, коростой запекся лед. И снова мое отражение.
– А, это ты, гнида! – успокоился я. – Иди к черту!
Шагая по переулкам, можно спокойно наслаждаться видами стен, которые то ли ввиду своей старости, то ли ввиду простой ошибки строителей казались разрушенными храмами – руинами древних цивилизаций, находившихся на пороге открытия, способного, как им казалось, сделать мир лучше. Но как тогда они надеялись обуздать мир? Почему наши недалекие предки думали, что смогут обуздать опасные позывы мировой энергии во благо человека – в русло утопической реальности? Так и сейчас мы все еще думаем, что сможем сделать мир лучше, хотя, наверное, лучшего мира, пригодного для нашего будущего блаженства, нет и не было, и уж тем более никогда не будет. Только отправная точка нашего захватывающего путешествия может дать нам надежду на лучшее будущее, которое мы так коварно подмяли под свои нужды. Яркий свет, виднеющийся вдали – в конце переулка, узкого как сама смерть.
Я смог увидеть настоящие пески и пальмы, немного склоненные к собственным основаниям, яркое солнце, которое никогда не светило так прежде. Ведь ничего не бывает так прекрасно и правильно, как наши мечты, не правда ли? Знойный ветер трепал щеки, которые жгло по-своему: после холодной зимней стужи и мягкого снега, капельками таявшего на моем лице. Но в какой-то момент я плавно стал падать под себя, заворачиваясь в пляске странных кульбитов, а через несколько секунд – долгих и странно реальных для моего восприятия, – я уже снова, не понимая себя, шагал вперед по холодной белой улице. Единственное, что напоминало мне о мгновении жаркой страны оазисов и караванов, – это холод, стягивающий голову, руки и едва заметный исходивший от пальто пар, который осел на моем пальто и окрасил его в светло-кремовые тона – цвет недопеченных булочек в паршивых пекарнях утлого города. Пальто стало сидеть более плотно, стягивая ноющей болью тело в районе живота и плеч, и еще было неприятное ощущение в ногах, которые со временем все больше и больше начинали зудеть, – песок, мелкими крупинками, занесенный в маленьком окне Африканских пустынь, перекатывался по ботинкам, стирая подошвы ног и мягкие углубления у косточек в кровь.
Но как только я снова уперся в край небольшого кладбища, будто сделанного здесь только для меня, – только подумав: секунду, долю секунды, – и этого хватило, чтобы чуткость моего сознания начинала воспроизводить сумбурность реальности. Ноги тут же перестали болеть, а песок исчез, стоило только мне захотеть этого по-настоящему. Возможно, чуть раньше я просто наслаждался болью, как процессом явно более реальным, чем все, что окружает меня бесчисленное число повторений – фрактальных полускульптур-полутеней. Конечно, сейчас мне совершенно не хотелось идти на кладбище: снова чувствуя запах гнили, раскопанных грядок, коробок, перелопаченных деревяшек, кусочков цинка, но меня сильно тянуло только издалека посмотреть на эти чудеса, которые так приелись, затмевая само чудо смерти.
Я стал думать о ней – конечно же, не о своей смерти, – какой бы иронией мне не казались эти слова в данную секунду. Можно было бы подумать, что смерть, это некая часть жизни, если рассматривать сам путь к смерти, который включает и старение, и младость, и детство. Будто бы в ней нет ничего хорошего, кроме боли и страха. Но разве смерть не избавление от всех мук, данных человеку, как груз, чтобы он нес его всю свою жизнь. И войны – смерть как таковая: грациозная агония – предпосылка к отмиранию ненужных клеток в больном мозгу заключенных, алчных, страстных авантюристов и любителей наживы. Как странно всегда получается: вопреки эволюции, которая твердит, что выживают сильнейшие, сильнейшие не только не выживают, но и гибнут под воздействием различных факторов. Только физически развитые выживают в нашем мире, но это ли та часть, которая даст нам все необходимое: удовлетворение, сладость пережитых удовольствий, счастий; ведь в нашем мире теперь не физика решает насущные проблемы, но только усугубляет их. Элиты склонны к самоуничижению и саморазложению, что уж говорить о воздействии извне, если внутренний мир – помойка вселенского масштаба маленьких систем.
Это некий негласный закон, где говорится о том, что в мире не может все так скоропостижно развиваться, но только медленными темпами скрестись – лилипутскими шажками, и поэтому ли сильнейшие умирают первыми – чтобы уравновесить бешеные темпы ортодоксальных идей? Не локомоция ли уже изначально является фактором смерти в том виде, в котором мы привыкли ее видеть, думать о ней, ждать, заранее зная о том, что мы жертвуем своим бездействием ради достижения высшей цели: движения, развития, стремления…Что лучше: бесконечно перескакивать от вечного блаженства к ненавистному жалкому существованию, зная, что и то и другое в конце концов прекратится, открывая путь новому, бессмертному чувству жизненной энергии, теплящейся глубоко внутри, и открывающееся только от случая к случаю, или же покрыть свое существование вечным безразличием, которое начнет приносить свои плоды только в нескончаемо меняющейся конъюнктуре общественных благ?
Война уничтожает несправедливость быстрого развития, чтобы как можно больше людей смогли внести свою толику в процессы эволюционного прогресса, в то время как наше с вами сознание говорит о том, что эта смерть, страшная по своим размерам, разруха, голод, только и делает, что уничтожает культуру, этногенез. Но с какой же точки смотреть на все эти понятия? с точки зрения себя самого – своего понимания, или же с точки зрения общемирового масштаба (что даже при таком раскладе будет не всегда правильно: в моем мире ничего нельзя раскладывать, потому что он субъективен – воплощение меня самого, моих мыслей, действий, воспоминаний, кажущиеся волей судеб и свершений, но являющиеся только страстным безразличием к общественности). Но правда ли все это? Не будем трогать понимание, а главное желания людей, уверенных в своей ценности – мнения которого они не в состоянии изменить и уж тем более ощутить, потрогать и почувствовать, собирая все чувства вместе, но даже в таком случае не понимая всей картины в общем.
Война была и в моей голове. Она атаковала мои паттерны, заставляя снова и снова менять восприятие мира, что было весьма неприятно: ломала изнутри, выворачивая мясистые части тела за пределы кожного покрова; кости ломались, а потом, штыками, вываливались наружу, прорезая плотные упругие, но в то же время мягкие, как пушистый мех домашнего кота, оболочки рук, ног, груди. Как после революции, – мне нужно было время, чтобы восстановить резервы, которые только на первый взгляд кажутся неисчерпаемыми. Никогда не знаешь, где есть правда, а где ложь, ведь чтобы понять это, нужно всего лишь отбросить предрассудки; но не жизнь ли главный предрассудок, не само существование человека главнейший из предрассудков? Конечно, если считать, что моя всевозможность – это просто сумасшествие больного человека (чего уже я не берусь утверждать), теряющего понимание реальности, отделяя его от простого течения жизни гладкой стеклянной стеной сумбурности и беспечности, то все будто бы отдаленно принимает черты правильности, что ли. Страх потерять себя является самым что ни на есть глупым и ненужным пороком в жизни каждого из нас. Я уже давно откинул этот страх, мешающий существовать так, как хочется.
Почему-то кладбища всегда окутывает тишина, словно кто-то намеренно делает так, чтобы люди могли в спокойствии, без лишних шумов и принуждений к скоротечности времени, быстроты темпа, попрощаться с теми, кто им дорог. Их лица выражают всегда уныние и горечь утрат, но уже выйдя за пределы филигранных золотых ворот, окружающих эту божественную консистенцию смерти, начинают смеяться, а порой и просто забывают о том, что только недавно стояли в пределах потустороннего мира. Наверное, это само кладбище наводит такую тоску на гостей, чтобы те не смогли испортить атмосферу праздника загробного мира. Меня такие вещи никогда особо не волновали.
Я стоял супротив уже миллионы раз виденной плиты, под которой покоился мой старый, пожелтевший от времени, захудалый от голода, простывшей от холодной промерзлой земли, в которой шуршали черви, питомец. Я снова видел углубление, а рядом выкопанную землю, которая горкой, неким терриконом этого вечно гниющего кладбища, возвышалась мне по пояс. В памяти никак не мог возникнуть образ того, кто должен там лежать, кто был мне когда-то близок – даже ближе, чем мать и отец. Почему? Неужто он исторгал меня из своего чрева? самозванец – животное, которое я считал своим домом: мягким, пушистым, невероятных размеров с большими паласами, окнами из слюды, плохо пропускающими свет, яркими лампами, свисающими в форме груш мне до подбородка, с буржуйкой и примусом, всегда сломанным, но исправно работающим после того, как по нему хорошенько зарядить ногой. Ничего в этом страшного, конечно, нет, просто мой мозг снова давал сбой, пропуская через фильтры памяти только самое нужное, самое важное. Это ли не странно, что мозг, формулируя эти доводы, просто спорит сам с собой, уже изначально зная, что спор не имеет конечной цели, зная, что это он сам себя описывает в летописях времени моего сознания.
А вот и животное, которое я никак не мог вспомнить. Оно бегает рядом: еще живое, теплое, но с прорехами в теле, с проплешинами в шерсти; разрубленное пополам, но соединенное воедино, оно представляло собой помесь пса и кота. Я никак не мог вспомнить, кто из них двоих был мне моим любимым домашним животным. Длинный пушистый кошачий хвост, дугой поднятый вверх, описывающий как бы траекторию бомбардировщика моей личной, внутренней войны, кошачий зад, маленькие, но мясистые ноги, посаженные по-собачьи, кошачий зад, выше пояса была собачья голова: уши торчком, влажный, большой и черный в крапинку нос, большие глаза с частичкой страха и умиления, вострая морда, исхудалые ноги –неказистее и слабее, чем задние кошачьи, – а язык, высунутый вперед, болтался как будто держась на ниточке, готовый отвалиться в любую секунду, – это все был мой питомец, которого я так любил, но был не в состоянии узнать. Я знал, что должен это сделать, просто должен, и любые пререкания здесь были ни к месту. Мне было даже приятно наслаждаться каждой минутой трансцендентного воплощения смерти, хотя я каждый раз делал это снова и снова, но чувствовал, будто делаю это в первый раз. «Погладить ее, чтобы дать понять, что все хорошо, чтобы она не убежала…» – думал я, садясь на корточки рядом с ней. Крепкий захват, а потом бросок в эту бездонную яму, где даже черви боятся выползать из стенок плотных пород. Жалобный вой никак не может меня напугать, рассмешить, разжалобить, – теперь я стал похож на тех людей, который приходят сюда под видом праведных христиан, скорбящих о своих близких. Когда осталась одна лишь голова животного, я на секунду остановился, заканчивая ссыпать землю в котлован. Жалобные глаза преданно смотрели на меня, я преданно смотрел в ответ, продолжая сыпать землю сухими руками. Последний всхлип – то ли мой, то ли этого бедолаги, взгляд которого я уже успел забыть, – а потом еще несколько телодвижений, сравнивающих землю. Снова земля над губой – случайный след, оставленный невпопад, – и снова запах: тошнотворный, гадкий, но приятный и греющий душу своей противностью, такой же мерзопакостной, как и я сам.
Уход с кладбища сохранил звуки моих шагов, позабытых здесь: за пределами золотых решеток. Напоминанием было только хриплое улюлюканье, доносившееся с той стороны филигранных пластов, песнями крылатых созданий вызывающих чувство прекрасного, что называется «засосало под ложечкой», но, поскольку этот хриплый полустон угасал по мере моего отдаления от периметра смерти, уже через несколько минут ходьбы я перестал воспринимать сумбурные звуки, доносившееся издалека, проникающие напрямую в ухо, смешивающиеся с ветром, который в сговоре мнимых птиц передавал просьбы усопших. И снова дорожка моего вечного, бессмертного пути: ртутной дорогой мерцали огни, отскакивающие от антрацитовых кусков асфальта, раздробившегося в жилах времени. Конечно, время не могло встать на месте, это было видно хотя бы потому, что люди все еще ходили, вышагивая бесконечный марш революционных событий, птицы летали, вымахивая крыльями ветровые аллюзии. Я смотрел на себя со стороны, осознавая движения, мысли, которые неслись в потоке сознания еще задолго до того, как я смог что-то сделать, подумать о них, понять, что нужно о них думать, осознавать. Время шло, но шло оно внутри застывшего фрагмента бесконечного фрактала, бесконечно нажатого тормоза спортивной машины, ждущей фотофиниша своего бампера в момент пересечения линии, блистающего белизной и вздутой от жары волдырями краской. Время двигалось, но двигалось медленно, как бы спрашивая меня: «Простите, пожалуйста, не могли бы вы разрешить мне немного ускориться? Нельзя ли мне – я очень прошу простить меня за такие слова, если можно так сказать, богохульства, – хоть на микрон, на йоту продвинуться в мое обыденное состояние? Нет, что вы, ведь я всего лишь спрашиваю, – нет? жаль, прошу простить меня за это…» – дрожащим голосом, спрашивало оно, будто старик, боящийся своего начальника, еще не прочувствовавшего на себе, что значит старость, что значит быть немощным и никому не нужным. Время остановилось здесь на том моменте, где ему однажды вздумалось, и с тех пор не продвинулось вперед, считая, что нужно еще бесчисленное множество раз вышагать по пройденному ранее пути, чтобы узнать, уличить в измене каждую мелочь, каждую букашку, сомневающуюся в моем величии и величии временной петли. Как интересно наблюдать за омоложением рук, когда те никак не могут взять граненый стакан, а потом вдруг детскими ручонками начинают делать пузыри в нем, будто бы за несколько секунд поменялась общемировая конъюнктура пространства и молодости, причастной к этому небезызвестному фактору времени, где только я контролирую эти безумства, ставшие паттерном за столь долгий период вращения моего города по плоскости Земли. Осовевшие люди зиждились на понятии микровремени, думая, что основная их цель, это жить ежесекундными возгораниями в толще заиндевелого льда (как бы двусмысленно это не звучало), но забывая, что впереди есть множество таинств и загадок, которые теперь же они попросту не в силах обуздать, понять, привыкнув к тому, что есть только миг, который они должны прожить, пробездельничать, прождать, проспать, проумереть, просидеть, поджав ноги в определённом положении. Здесь только я – бог временного континуума, ощущающий время в воздухе как сжиженную массу, только я могу понять, что происходит со мной, уставшей сомнамбулой бессмертного тела без духовных ценностей и души.
С крыш начинало капать. Одна капля упала мне за воротник, холодом пробираясь через сложные лабиринты плеч и лопаток, скатываясь по позвоночнику, по хребту моего тела, словно выделывая новый ручей, спешащий спуститься в низины, чтобы там образовать озера, – точно так же капля спускалась все ниже, подбираясь к копчику на непозволительно близкое к интимным местам расстояние. Зима начинала постепенно отступать, но до ее конца оставалось еще очень и очень долго. Я не помнил, чтобы в этом городе раньше все так быстро менялось: такого не было уже очень долгое время, а значит что-то изменилось, что-то порезалось, заливая белыми массами городские площади и мое пальто. Такое ощущение, что ответ где-то близко, и чтобы поймать его, нужно просто протянуть руку, – но руки коротки, пальцы еще короче, а это давало пищу для размышлений, давало возможность, но не ответ, который был ближе, чем можно было бы подумать. И снова мимо проходили люди… без голов… пустые шеи, с маленьким белым кружочком по центру; подернутые плечи, заваленные у кого-то немного вперед, у кого-то немного назад, но всегда – у всех без исключения, – куда-то да заваленные, как Пизанские башни, не решившие, куда им нужно падать. Если бы у них были бы головы с глазами – что немаловажно и имеет определенный смысл, – то из этих самых глаз обязательно бы тек горчичный, горький, как уголь, мед, с кристалликами голубого льда, – глаза бы выплевывали всю ту хворь, скопившуюся в теле этих не по-человечески правильных животных, считающих себя белыми и пушистыми зверками современного мира бездействия и блаженств, на самом же деле являющиеся только безголовыми пнями, засохшими от мыслительных процессов, которые забыли выключить в тот момент, когда они начинали гнить.
Тропинка, по которой я шел, вела меня куда-то вглубь желанных встреч, сокрытых в подсознании, но таких реальных здесь, в том месте, где можно не бояться упасть, не бояться опозориться. Куда меня ведет эта тропа? В иной ли мир? или, быть может, она снова хочет показать мне боли, пережитые ранее, теперь же сургучами стекающие по ушам, бровям и губам, чтобы я не мог ни слышать, ни видеть, не разговаривать. Куда, куда ведет меня эта злосчастная тропа, изгибами скрывающая дали, чтобы я не смог увидеть продолжение дороги.
– Как бы это не было банально, но всегда приятно поговорить с умным человеком в своем лице, – подумал второй я, который появлялся очень редко и вместо разговора сакраментально испускал сарказмы.
По мере продвижения вперед вокруг меня сгущалась дымка, похожая на марево. Все было видно предельно хорошо и явственно, хотя смотреть-то здесь было особенно не на что: пустые стены, отражающие звуки шагов и мою монотонную речь, проблески травы из асфальтовых прогалин, пучками вывалившиеся на свет – в смысле переносном, так как света тут не было и в помине, – а также кусочек неба, колоритно выделяющийся среди пустоты чернеющего вакуума. Марево расщепляло четкость картинки, представляя ее в свете совсем ином, нежели есть на самом деле (а почему же не это есть то самое дело, которое в другое время меняется, а?), преобразуя ее в импрессионизм. И чтобы можно было хоть как-то узреть четкий образ предмета, приходилось смотреть на него издалека, вблизи же все являлось бесформенной мешаниной, едва различимой: чем дальше предмет, тем отчетливее он был виден, чем ближе – тем хуже. Все зависело только от положения смотрителя – то есть меня, – а значит было абсолютно неуправляемым, неконтролируемым безумием моей беспечности и вольнодумия. Исказившиеся пласты постепенно складывались в четкий контур, а затем раскладывались на фрагменты обратно. Я смотрел будто бы на картины, который не имеют рам, отчего вся подноготная медленно расползалась, захватывая прилегающие области. Проходя сквозь них – внутрь них, – я оказывался в том самом месте, где и находился несколько секунд назад, – на той тропе, серпантином скатывающейся с холодных каменных гор… И я блуждал средь этих стен, гор, равнин и троп, похожих на арыки древних селений. Пленка мороза – так как все же была зима, а значит и холод никуда не делся, давая о себе знать паром, выходившим изо рта и носа, – ласкала эти тропы. Но и марево не могло жечь мои глаза бесконечно, и, когда я привык, различив конец меандрам троп, вдалеке потихоньку начали проявляться очертания беседки, стоявшей изгоем на абсолютно ровном и пустом плато. Какие-то картины в оправах все еще преследовали меня на узких стенах средневековых замков, но уже заметно редели, оставляя все больше места для девственной простоты серых кирпичей с моими любимыми трещинками в бетонных щелях отвалившихся соединений.
Подходить к беседке должно было быть как-то страшно (к чему этот трюизм?), необычно, по крайне мере, я должен был испытывать хотя бы какие-нибудь чувства, но я ничего не испытывал, даже обыденного интереса. Полупрозрачный, знакомый мне туман стелился вокруг беседки, не пропуская взор за пределы очерченной вокруг территории, разрешая видеть лишь все части этого ветхого строения и не дальше двадцатой части версты за ней. «Наверное, закрывая этим бесконечность и неортодоксальность этого места», – мельком подумал я. Вот что было удивительно: пройти обратным путем уже было никак нельзя, жидкий, но все же какой-то плотный, не пропускающий меня сквозь воздух туман, встал, перегораживая мне путь назад, словно пограничник, разрезая еще недавно свободную плоскость на несколько неравных частей. Теперь нельзя было не то, чтобы пройти там – через маленькую невидимую станцию, где меня уже, кажется, поджидали, – но и просто посмотреть туда.
Виридиановая будка, скукожившись и полуупав, стояла набекрень, – сочилась из промерзшего грунта, отражавшая свою незыблемость. Вокруг стелился белесый туман, но он не был статичен в своем естестве, в своем цвете, который время от времени переливался, становясь совершенно отличным от прошлого себя бирюзовой пленкой сырости и влаги; темная бирюза медленно таяла, окружая землю в темно-зеленые цвета, но наст не давался кристалликам цвета так легко, – напрягая свои жилы, исторгая в воздух эти пигменты обратно, туман снова приобретал сахарный вкус виридиановой ваты. Будка-беседка, стоящая, видимо, здесь уже не одну бесконечность, тоже отдавала этими зелеными оттенками, хотя, если приблизиться к ней и всмотреться, то можно было увидеть палевые прогалины густой засохшей краски, островками напоминавшие древность этого места; все остальное обросло слоем мха, облепившим деревяшки. Давным-давно мох застыл липкой массой в этом месте, и с тех пор ничего не изменилось.
Двери с запотевшими мутными стеклами раскрылись, и я вошел туда, не боясь, что со мной может что-то случится, так как я прекрасно знал, что это только игра моего воображения, которое в угоду себе не сможет причинить вред самое себе, – такие вещи не стоят ни в какое сравнение с инстинктами.
Внутри первое время была абсолютная темнота, и это несмотря на то, что повсюду, как я заметил ранее, по всему периметру беседки были окна, не мутные, не затемненные и даже не запотевшие, как это было со стеклами у входных дверей. Но через секунду, когда я прошел немного вглубь, и когда двери за мной бесшумно захлопнулись, изолируя внутреннее помещение от внешнего мира, холодного и чужого, стало необыкновенно светло: все предметы стали отчетливо виднеться в сырой прокуренной летней беседке; за пределами окон виднелся весенний свет, источаемый солнцем, легкие колебания ветвей: влажные от дождя и яркие от преломления света, а еще оттого, что вокруг все благоухало и светилось изнутри, давая жизнь этому месту. Травы не было видно, но каким-то местом я чувствовал, что и она была такого же насыщенного лазурно-зеленого цвета. За столом сидело два человека, которых я заметил не сразу.
– Здравствуй, – сказал мужчина сорока лет с пепельно-смольными волосами: часть их была черными, а другая часть седыми. Рядом сидела женщина, отстранённо поглядывая в сторону, боясь поймать мой взгляд на себе, но когда это все-таки происходило – именно в тот момент, когда она смотрела в сторону, а я на нее, она поворачивалась, – она смотрела на меня в упор, и уже мне приходилось сдавать позиции и смотреть на мужчину. Они сидели покорно, не шевелясь, ожидая, что я им отвечу на приветствие, наверное, думая, будто это обязательная, формальная часть встречи.
– Здравствуй отец… здравствуй мать… – тихо, без энтузиазма, спокойно, выказывая безразличие своим тоном и видом, ответил я.
В их виде было столько неказистой, жалкой притворности, что хотелось развернуться и уйти, но я знал, что мое подсознание не выпустит меня отсюда до тех пор, пока мои чувства, даже внутренние, сокрытые, не придут в равновесие – к тому безразличию, которое будет равносильно смерти. У них не было рук, но только маленькие огрызки, торчащие из плеч маленькими комочками сухожилий, гладкие плечи, кое-где оскверненные ожогами, несколько родинок с торчащими из них черными жесткими волосками и широкими порами. Они едва заметно вращали по часовой стрелке своими недоруками, будто думая, что меня это может разжалобить. Под столом волочился пес, а на соседнем стуле, развернутом ко мне в семьдесят градусов, сидел пушистый кот, вылизывающий себя языком. Я постепенно начинал понимать, осознавать, что помнил когда-то (именно осознавал свои воспоминания, но не помнил их как таковых), что помнил когда-то это все: питомцев, которые из-за невозможности до конца вспомнить их представлялись мне единым целым. «Неужели и в его теле органы распределялись в зависимости от принадлежности, делясь ровно по той линии, где были наложены швы?» – думал я, вспоминая мутанта, которого я закапывал живьем на кладбище не раз.
Пес видимо узнал меня, и теперь преспокойно гулял вокруг меня, временами кладя мне на грязные колени лапу, надеясь напрасно, что я протяну ему свою открытую ладонь. Кот, переставая вычесывать себя розовой мышцей, время от времени смотрел на меня, но делал вид, как мать, что смотрит куда-то вбок, дабы не встречаться взглядами. Журчание, которое источало его тело, я слышал даже отсюда, – вибрации тела доходили до всего меня: до моего надутого живота, мочек ушей, потухших глаз, которые не могли преодолеть тряски и начинали видеть картинку расплывчатой вязкой массой. Сначала я думал, что пес просто рад видеть меня, или, быть может, хотя бы рад новому знакомству, не узнавая до конца – я слишком сильно постарел и изменился с того момента, когда я его хоронил (я все же четко помнил, как клал его в яму на том самом кладбище, когда был еще ребенком, прощаясь с ним); видя меня совсем другим существом: слепым и глухим к чужим мольбам, – я слишком много раз умирал, чтобы сохранить запах тела таким, каким оно был еще тогда, в отрочестве, – оказалось, что его желание трогать меня своей холодной лапой, прикасаться проплешинами, упираться головой в мое бедро было ни чем иным, как почтальонским желанием доставить до меня смысл его желания – показать письмо, лежащее на столе, – достучаться до меня этими грубыми насмешками над человеческим понятием ласки и привязанности.
Я взял письмо в руки, как этого хотел пес, теперь же не только прекративший всякое нежное насилие надо мной, но и смотрящий на меня, словно говорящий: «А теперь читай, смерд! Я хочу, чтобы ты прочел это». В глазах родителей виделись похожие замашки, но все же более мягкие, обусловленные все-таки как-никак нашим родством, появившимся тогда, когда я вылез из матери.
– Ты должен это прочитать. Пес ведь не просто так на тебя смотрит преданными глазами, – бессловесно твердили они в унисон, а потом рассмеялись. Хотя этого, кажется, не было – наверное, показалось.
На листке были выведены различные закорючки всех разновидностей и витиеватостей, ограниченные только пределами листа, хрупкого, как хрусталь, сыпучего, как сахарный песок. Я не видел полосы, пронизывающие лист вдоль и поперек, за пределы которых ни на миллиметр не выходили закорючки – для меня они жили своей жизнью, но только внутри определенных границ.
Мне были непонятны родительские упреки; неприятны были глаза, устремленные в мою сторону не только отцом, матерью и псом, но теперь уже и котом, занесшим ногу за голову, прекратившим свой туалет только для того, чтобы посмотреть на мое бессилие, непонимание и глупость. Мать была расстроена моим поведением: я снова видел себя нашкодившим ребенком в ее глазах, теперь стоящим с опущенной головой в слезах и девчачьем платье, надеясь провалиться под землю, но не всерьез, а только на секундочку, чтобы почувствовать боль, испытанную женщиной, из которой я когда-то с такой же болью вылез; отец, не смущаясь чьего-либо присутствия, думал, смотря на меня: «Почему он такой идиот, неужели это проделки этой женщины, чтобы разозлить меня? или он просто такой, – не может понять, что нужно просто взять и прочитать то, что написано на листе?» Пес ничего не думал, его песочного цвета глаза преданно смотрели на меня, теперь уже по-настоящему признав меня, не по запаху, не по виду, но сердцем, которое я отдельно хоронил, преждевременно вырезав из его груди. Пес, конечно, узнал те кончики пальцев, аккуратно вытаскивавшие его алую мышцу, не ради развлечения, не ради хвастовства или насмешки, но ради идеи: похоронить самую лучшую часть животного, самую сильную и самую важную с особыми почестями. У глупого кота свистело в голове, а задранная кверху нога стала похожа на скипетр, который он обхватил двумя лапами, – чертов монарх, коронованный принц.
Пес лизнул другую сторону листа, заднюю, будто намекая мне на что-то. Развернув бумажку, я увидел знакомые буквы, но разобрать их смог не сразу. Длинный текст, полный исправлений, черточек, похожих на брови рисованных детских рисунков, клякс и заштрихованных слов. Заглавные буквы некоторых слов были переписаны.
Я стал читать:
«Чудесное прошлое было у нас · И не менее чудесное будущее должно было быть впереди · Только мне уже нет, да и, честно-то говоря, никогда не было никакого дела до всего этого · А я просто хотел быть свободен от всего · И время – это что-то ужасное, что-то немыслимое, отвратительное, ведь именно из-за его нехватки я так и не смог по-настоящему пожить и сделать хотя бы что-нибудь из того, что планировал в далеком-далеком детстве · Только вот послушай, я ведь правда хотел, чтобы ты любил меня · О да, и чтобы твоя мать любила меня так, как я любил вас двоих · Что же пошло не так, сынок, почему все было как-то иначе · Как же трудно было нести эту ношу одному · И еще труднее скрывать о вас, что это за ноша · Только теперь я могу сказать · И на самом деле я много раз пытался, но вот так всегда: как только пытаешься сделать шаг – нечто сковывает горло, словно уничтожает изнутри, не давая возможности нарушить зыбкую гармонию · Рок, над нашей семьей повис рок · Едва ли у нас получится из него выбраться, и, как видишь, мы до сих пор сидим здесь и ждем избавления · Вопросы без ответов – тебе придется к этому привыкнуть, сынок · О, как бы мне хотелось все тебе рассказать, но я не могу, просто не могу · Только одно могу тебе сказать: ты должен прислушаться к себе, не воспринимай все всерьез · И сколько же раз я проклинал себя за то, что произошло с тобой · Случайность, виной всему случайность, но я виновен в какой-то мере тоже, ведь это все-таки я презирал вас с матерью, это все-таки я хотел вашей смерти, не со зла, конечно, нет, но по причине, которую вам не дано никоим образом понять, да и ни кому-либо еще · Видишь, вы здесь совершенно ни при чем · О как же я виноват · Больше всех других · О, как же мне объяснить · Да, я любил себя больше, чем вас, больше, чем кого-либо, но это не значит, что я был к вам равнодушен · Ах если бы можно было бы все изменить все исправить, – все бы тогда было иначе».
Взглядом абсолютного непонимания смотрел я на отца, выказывая смущение, требуя немедленного разъяснения. Только светлые зайчики, бегающие по ветхим стенам строения, немного радовали меня, мой суровый непонимающий взор, светлые (но для меня все те же: бело-серые краски) палитры разливались за окнами радужными оттенками счастья и благополучия, но в то же время это все немного расстраивало: зная, что рано или поздно отсюда придется уйти, я заранее разочаровывался, печалясь из-за неизбежного. Пес все так же преданно смотрел на меня, боясь, наверное, снова меня потерять, что было неизбежно, но о чем он не знал и даже не догадывался.
– Некоторые вещи можно понять, только если смотреть сквозь строк. Прочти еще раз, – сухо сказал отец, глядя прямо мне в глаза.
Я подумал, что не помню цвета своих глаз, – забыл, – но спрашивать у своих визави ни под каким предлогом не собирался. Я прочел еще раз, потом еще раз и еще, вчитываясь в каждое слово, в каждый сумбурный непонятный мне своим символом знак, мимолетно кружащийся по листу и в воздухе запахом ртути и синих чернил, и каждый раз находил для себя все новые и новые отвлеченные, сокрытые помыслы. Бо?льшей частью додумывая их сам, я уже не совершенно запутался: что хотел донести до меня мужчина, сидящий напротив? или все написанное уже сугубо мои догадки, спровоцированные чем-то внутри меня? Я знал, что даже если это то, что я сам сейчас выдумал, то все равно это, уже в какой-то мере, реальность – в моей голове, для меня, для моего мира… для моего мира это крах, погибель. Но что погибель для одного, то для другого начало чего-то нового.
– Я не спал уже много лет, – устало сказал я невпопад, думая, что это как-то поможет разбавить серость обстановки позолотой моего риторического вопроса, латунной окантовкой почерка моих небессмысленных слов. Я заранее поставил себе цель не выказывать этим людям никаких чувств, потому что они могли спокойно съесть меня заживо, видя во мне слабость, хоть какую-то малейшую тягу к слабости или простую привязанность – видимо для этого и только для этого здесь был пес и кот, – не показывал я своих чувств и сейчас, просто потому, что их попросту не было, – мне пришлось их убить еще на подступах к гортани, краснотой поедавшую мою шею.
Инверсия не всегда, но очень часто помогает понять смысл недоступных ранее истин, и даже если что-то остается неясным, то стоит задуматься: а проблема, быть может, все-таки не в мире, существующем неведомо сколько времени и циклов подряд, а в самом себе – человеке, не способным справиться с собой, смириться, установить простейший контакт, научиться управлять своим телом и выделить из всего этого именно то, что нужно для понимания мира. Конечно, все это истинно только на словах, и так же на словах и остается ветхой правдивостью, но не в нашем ли мире правда выражается в словах? Не посредством ли слов мы можем донести суть своих умозаключений до голов обывателей, не с помощью ли этой хитрой машины безумия мы можем вторгаться, как победители, в неокрепшие души детей, меняя все так, как нам заблагорассудиться, говоря потом, будто бы все так и было, будто бы вся та дрянь, та скверна уже была заложена не нами? Можно сказать, что слово – способ умертвить сознание. Но не в критично ужасном ли скрывается блажь, способная перевернуть все то накопленное зло, что оно само же и произвело. Не слово ли будет тем, что спасет нас? Не инверсия ли нам показывает все то, что слово может сделать с человеком, переворачивая смыслы сказанных некогда слов? Инверсия, – зачем, спрашивается, о ней столько пустых и ненужных слов, если слово, без поддержки, не может ничего передать, если само слово не может ввергнуть подсознание в то состояние, которого мы от него ждем, так? Неправда! Само слово это – о, чудесное слово, совмещающее в себе все то, что может произойти, что уже произошло, что будет и не будет происходить априори здравому смыслу – несет в себе все то, что мы попросту не можем вообразить, не можем представить; оно разворачивает не только то самое пресловутое слово, но и само время вспять. Да, действительно, одно лишь слово, способное менять то, что не может даже «всесильный» человек, готово ежесекундно менять наше восприятие мира, – менять маленьких куколок, бегающих на нитках по условленным местам только для потому, что уже вычерчены пути, но не сделаны возможные развилки для троп. Поэтому, наверное, и только поэтому слово не просто начерченный на бумаге символ, живущий при некотором раскладе вещей и сходстве факторов, но живой организм, – воплощение не только огромного, нескончаемого, безграничного смысла в маленькой фразе, но и жизнь, заключенная в наших движениях, мановениях рук, шажках ног, воплощениях мысли, способной различать то, что делают и руки, и ноги, и мозг. Не слово ли способно доставить информацию лучше любого компьютера и почтальона, погрызенного котом? Жизнь – как складное решение проблемы вселенского масштаба в маленькой черной фразе, висящей за витриной магазина над товаром с маленьким ценником, на котором, к сожалению или к счастью, не начерчено цены.
– Сыграй нам с матерью на гитаре, сынок, – сказал отец спокойным голосом человека, который не воспринимает ничего извне, думая, что самодостаточность есть высший признак совершенства. Пес все так же преданно смотрел на меня, высовывая изо рта язык, охлаждая и осушая его, а потом снова засовывая, чтобы повторить данный ритуал. Может быть, только для того они и живут, может быть, только в этом заключается цель их существования. – Сыграй, хозяин, я очень хочу послушать твои нежно-очерствелые пальцы, – сказал пес все отцовским голосом. – Кот сидел на своем месте с поднятой кверху ногой. Пульсирующие зрачки его достигали ресниц, а порой и усов, торчащих в разные стороны.
Гитара стояла за стулом, на котором сидел кот, и мне было особое удовольствие невзначай скинуть этот мерзопакостный иступленный пушистый комок, усами режущий мои брюки. Упав, пушистый комок в том же самом положении, в котором и сидел, воткнулся оттопыренной перпендикулярно телу лапой в пол. Гитара была очень старая, ее я моментально вспомнил совместно с лучшими днями детства, которые проживались не днями, но секундами, мгновениями, сулившими мне счастливое будущее; все это только зря обманывало мои надежды в то далекое время. Струны были скверно натянуты, отчего создавалось впечатление мягкости и плавучести металла, но несколько затяжных поворотов бабочек на самой верхушке грифа усмирили непослушные и слишком податливые струны. Внутри деки позвякивала пустая бутылка: маленькая, с плохо завинченной крышкой. Кот отошел от минутного исступления и теперь спокойно восседал на полу, пытаясь вытащить из мохнатой лапы занозу, активно вылизывая себя. Зрачки его заметно сузились и почти пропали, вместо них появились белые бездонные белки, и теперь я совершенно не мог понять, куда смотрит этот комок: на меня ли, или в себя – внутрь.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: