
Полная версия:
Топология насилия. Критика общества позитивности позднего модерна

Бён-Чхоль Хан
Топология насилия. Критика общества позитивности позднего модерна
Byung-Chul Han
TOPOLOGIE DER GEWALT
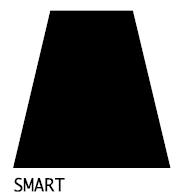
Печатается с разрешения MSB Matthes & Seitz Berlin Verlagsgesellschaft mbH, Berlin All rights reserved
Перевод с немецкого
Станислава Мухамеджанова
Научный редактор –А. В. Павлов, доктор философских наук, профессор, руководитель Школы философии и культурологии факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», ведущий научный сотрудник, руководитель сектора социальной философии Института философии РАН

© MSB Matthes & Seitz Berlin Verlagsgesellschaft mbH, Berlin 2013
© С. О. Мухамеджанов, перевод, 2023
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2024 В оформлении использованы материалы, предоставленные Фотобанком Shutterstock, Inc., Shutterstock.com
Критическая топология Бён-Чхоль Хана
«Топология насилия» – пятая книга немецкого философа корейского происхождения Бён-Чхоль Хана, которая выходит в проекте «Лед». Другие книги мыслителя, которые вышли на русском языке в проекте, – это «Агония эроса», «Общество усталости», «Аромат времени» и «Кризис повествования»[1]. При этом в оригинале, то есть на немецком, «Аромат времени» появился в 2009 году, «Общество усталости» в 2010 году, «Прозрачное общество» (единственная из переведенных книг Хана, которая вышла не в проекте «Лед») и «Агония эроса» в 2012 году, а «Кризис повествования» – совсем свежий текст – в 2023 году. Не без гордости отмечу, что хотя с русскими переводами Хана мы немного отстаем от англоязычной академии, зато «Кризис повествования» в России появился в 2023 году – в год публикации оригинала, а на английском – только в 2024 году. «Топология насилия» увидела свет на немецком в 2011 году, а на английском – в 2018 году. То есть из пяти изданий Хана в проекте «Лед» хронологически «Топология насилия» хорошо вписывается в контекст уже вышедших книг и как бы сгущает мысль Хана периода 2009–2012 годов. Каким же образом «Топология насилия» «бьется» с другими книгами философа, вышедшими в России?
Давайте обратим внимание на то, что названия указанных книг Хана состоят из двух слов: «эрос» и «агония», «усталость» и «общество», «повествование» и «кризис», «время» и «аромат» и т. д. Исходя из этого, сразу бросается в глаза то, что тематически книги Хана могут быть разделены условно на «негативные» и «позитивные», или «пессимистические» и «оптимистические», или лучше сказать: «критические» и «аналитические». В критических философ дает не слишком положительный диагноз современному обществу позднего модерна: эрос агонизирует, общество устало, повествование в кризисе. Зато в аналитических он немного более оптимистичен. И хотя Бён-Чхоль Хан продолжает критиковать сегодняшнее общество и в целом нынешнюю эпоху, в «аналитических» сочинениях он куда более благосклонен к стратегиям спасения современного субъекта – аромату времени, глубокой скуке, созерцательной жизни и т. д. Пока на русском мы видели только одну умеренно оптимистическую книгу Хана – «Аромат времени». «Топология насилия», очевидно, относится к критическим сочинениям корпуса работ Хана, что неудивительно – их у него в целом большинство. Однако эту книгу отличает некоторая парадоксальность названия. Если с «Кризисом повествования» и «Агонией эроса» все ясно, то, скажем, «Аромат времени» интригует читателя уже заголовком – как время может источать аромат? То же и с «Топологией насилия». Несмотря на то, что на первый взгляд название нам кажется понятным, при внимательном рассмотрении все оказывается не так уж и просто.
Слово «топология» представляется обманчиво простым и похожим на такие слова, как «типология» или «топография». И хотя слова «типология», «топография» и «топология» созвучны, они отнюдь не синонимичны. Да, слово «топология» будто бы знакомо или, по крайней мере, интуитивно ясно, но на самом деле оно не часто попадает в наш повседневный вокабуляр или даже активный словарь гуманитарных наук, потому что это раздел геометрии, который посвящен качественным свойствам фигур. Этимологически термин происходит от древнегреческих слов τόπος («место») и λόγος («слово») и буквально означает «изучение места или пространства». Как раздел геометрии, в самом общем виде топология изучает связность фигур. Бён-Чхоль Хан, конечно, не раскрывает своего замысла относительно использования термина, но очевидно, что он имеет в виду исследование связности различных конфигураций насилия. Даже не столько связности самого насилия, сколько связности конфигураций философской мысли о насилии.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Бён-Чхоль Хан. Агония эроса. Любовь и желание в нарциссическом обществе. М.: Издательство АСТ, 2023; Бён-Чхоль Хан. Общество усталости. Негативный опыт в эпоху чрезмерного позитива. М.: Издательство АСТ, 2023; Бён-Чхоль Хан. Аромат времени. Философское эссе об искусстве созерцания. М.: Издательство АСТ, 2023; Бён-Чхоль Хан. Кризис повествования. Как неолиберализм превратил нарративы в сторителлинг. М.: Издательство АСТ, 2023.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

