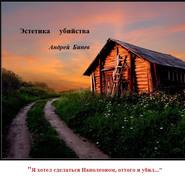скачать книгу бесплатно
«Что, – спросила я, – нравлюсь?»
«Мне нравится всё, что сотворил Господь, – ответил он буднично и серьезно. – И что не надо исправлять мне».
«О! – Я села на широкой кровати и потянулась, намеренно демонстрируя ему свою умеренных размеров, но на редкость правильной формы грудь, нежную линию рук, высокую шею и втянутый, напряженный животик. – Ты близок к Господу? Ты похлопываешь его своей талантливой рукой по плечу или даже придерживаешь за бороду?»
Арсен внимательно… мне показалось, даже слишком внимательно, как это делают скульпторы или художники, осматривая натурщицу, пробежал по мне своими серыми, некавказскими глазами. Он стоял уже лицом ко мне, и я тоже оглядывала его совершенно откровенно. Мне нравилось, то, что я видела, и что чувствовала ночью тоже.
«Ты пришла вчера за консультацией, – сказал он. – Но мы не поговорили».
Я рассмеялась и отвалилась обратно на подушки, разметав по ним свои темные волосы. Я знаю, что это красиво, впечатляюще. Мне об этом говорили мужчины, вкусам которых можно доверять. Они умеют оценить естественные эффекты.
«Мы делали, а не говорили, – ответила я негромко, – я пришла не за лекцией, а за лабораторным опытом, доктор. Но если желаешь… легкий завтрак и конечные выводы».
Арсен кивнул, подошел к стенному шкафу с матовым стеклом от пола до потолка, скрипнул роликами дверцы и тут же облачился в длиннополый девственно белый халат из нежной махры. На груди, на кармашке, золотом был искусно вышит его портрет в профиль и имя на английском: Arsen. Он, не глядя на меня, вышел из спальни. Я подумала, что обидела его своим цинизмом, который сейчас больше походил на недалекое кокетство.
Я поднялась, подошла к шкафу, дверцу которого Арсен, видимо, намеренно не задвинул, и увидела, что на плечиках висит точно такой же халат, но поменьше размером. Я сняла его и осмотрела: на кармашке золотом был вышит большой, изящный знак «вопроса». Рассмеявшись в голос, я нырнула в халат и вытянула из шкафа белые махровые шлепанцы. И халат, и шлепанцы вполне подходили мне по размеру. Наверное, он заранее их подобрал и здесь оставил. Пластический хирург так же точно определяет размер тела и ноги пациента, как продавец джинсов в США размер клиента. Один молниеносный взгляд и всё!
На кухне звякнула посуда, в нос ударил резкий, будоражащий запах свежего кофе. Я подумала, что когда слышу этот запах, мне всё удобно, всё комфортно, так же, как во время оргазма – хоть на голове стой.
«Турецкий, – услышала я, идя по узкому коридору на свет. – Обожаю турецкий кофе. И больше никакой другой! Турки умеют жить, они остро чувствуют жизнь во всех ее проявлениях. Они полноценная нация, они любят себя».
Я смаковала поистине чудесный кофе, который Арсен к тому же варил мастерски. Изящный стакан с ледяной водой, сопровождавший микроскопическую чашечку с густым, душистым кофе, был как нельзя кстати. Вчера, перед тем, как позволить себе уступить пристальному взгляду Арсена, я выпила немало коньяка, и теперь в голове тихо жужжали два назойливых шмеля. Два, потому что от одного из них столько неприятностей не бывает.
Арсен внимательно смотрел на меня, развалившись в ротондовом кресле и перебросив одну волосатую ногу через другую.
«Может быть, капнуть вчерашнего коньячку?»
«Это доктор советует?» – спросила я, натянув на губы кривую улыбку.
«Пьяница со стажем», – усмехнулся он, лениво поднялся и исчез в коридоре, шурша по полу такими же, как и на мне, белыми махровыми тапочками.
Спустя несколько секунд он вернулся со вчерашней пузатой бутылкой Courvoisier. Я мельком бросила на нее взгляд и мысленно ужаснулась – коньяка оставалось на донышке, но я отчетливо помнила, как он откупоривал непочатую бутылку в самом начале вчерашнего вечера. Ничего себе вкусили!
«Да, это всё ты!» – рассмеялся он, и между его пальцами, словно он был цирковым фокусником, блеснули две пузатые рюмки.
Рюмки мягко осели на столик и шоколадным маслом в них засочился коньяк. Я вздрогнула от неожиданного желания разом выпить всё, что попадет в мою рюмку. Арсен опять улыбнулся и сказал, показывая свои ровные, мелкие, белые зубы:
«Это еще не алкоголизм… но ты склонна. Имей в виду…»
«Я пила вчера как мужик. А правда, что у алкоголиков вырабатывается уйма тестостерона?» – спросила я, взяв рюмку в ладонь, и для приличия немного ее погрела там.
«У алкоголиков? – он приподнял бровь. – Вот уж не знал. У них всё, что угодно может быть… Но только тебя это не касается. Я имею в виду только тестостерон»
Я отпила тяжелый глоток коньяка и закашлялась. Он молча облизнул краешек рюмки и посмотрел на просвет в нее. Будто и не слышал моего кашля, даже не поднял на меня глаз.
«Поговорим?» – спросила я, наконец.
«Поговорим», – ответил он.
«Почему ты занят таким делом?» – спросила я, чуть вскинув голову и тоже облизнув краешек рюмки.
«Тебе это зачем, девочка? – Арсен, наконец, посмотрел на меня. Глаза у него серые, внимательные, холодные. – Хочешь менять пол?»
«Только в квартире!» – глуповато хихикнула я и пожалела о своей примитивной шутке, потому что он ее даже не заметил.
А он ведь всё замечает. Получается, не захотел заметить.
«Послушай, Арсен – упрямо продолжила я. – Я – филолог… ты, собственно, знаешь… Решила заняться психологическими экскурсами в женское сознание. Это интересно, хотя и далеко от моей специальности. Зато моя специальность научила меня чувствовать слово и ценить его. Я пишу для одного журнала… так себе, гламурная штучка, владелица – одна набитая дура из правительственных содержанок… папочка у нее когда-то делал демократическую революцию в Питере, за это его влиятельные дружки кинули ей пару миллионов евро. Она ничего умнее не придумала, как кинуться в журналистику, да еще в журнальную. Но там можно писать… а другие дуры думают, что будет хоть что-почитать.
Они все строят из себя независимых светских красоток с тяжелыми кошельками. В основном, кошельки-то у их папиков, а не у них, но это неважно. Пока они раздвигают свои спортивные ножки, деньги будут, будут и интересы. Они мне любопытны… Я хочу их окончательно испортить. Пусть и они станут революционерками, в конце концов. Пусть разоряют своих папиков и делают это осознанно. Каждый должен приложить к этому руку, я имею в виду, к разорению папиков. Я желаю видеть этих светских львиц эмансипированными террористками.
Эмансипация – это форма террора, только однополого. Хочу скандала, хочу эпатажа… Отвечай! Почему ты делаешь операции по коррекции пола?»
Последнее я произнесла нарочито требовательно, сведя бровки.
«Думаешь, я объясню это так убедительно, что твои читательницы кинуться ко мне корректировать свой пол и папики поймут, что платили деньги не за те удовольствия?» – он рассмеялся и расплескал по рюмкам остатки Courvoisier.
«Вряд ли! Не надейся, – покачала я головой. – Они за это своим дурам платить не станут. Если они хотят побаловаться мальчиками, то знают где их найти и сколько заплатить. Так что, тебе тут не заработать, доктор. Но… но я подпорчу им малину, я туда подолью сомнений… страхов… Давай, раскошеливайся! Я же раскошелилась этой ночью!»
Арсен серьезно кивнул и, будто проверяя, достаточно ли я была полезна, осмотрел меня с головы до обнаженных ног.
«О кей! – кивнул он. – Ответ прост. Они сами этого хотят. Я только корректирую их желания. Не каждый знает, что ему нужно. Многие путают искаженное либидо с физиологией. Прежде чем начать, я пару месяцев исследую их мозги. Если там всё в порядке, если там всё осознанно и всё готово к страданиям во имя результата, начинается моя вивисекция. Если всё это блажь, глупость, следствие извращенного видения мира или ошибка… я гоню их в шею. Ни за какие деньги не возьмусь за это».
«Бывают случаи, когда приходят назад, то есть требуют вернуть утерянное?» – я пригнулась к столу, чтобы заглянуть ему в глаза.
Арсен кивнул, вздохнул и отвернулся к окну.
«Это возможно?» – добивалась я.
«Нет. Почти никогда, это дорога в одну сторону», – он поднялся.
Я не сдавалась:
«Но почему ты за это взялся? Что, было интересно? Ты тоже немного извращенец?»
Он прошелся по кухне, убрал со стола пустую бутылку и открыл бар. В глубине его стоял джин.
«Будешь?»
«Буду, – нагло ответила я, – в чистом виде».
Арсен кивнул, взял с открытой полки два высоких стакана, наполнил их до половины, один протянул мне, второй взял в руки, повернулся спиной к разделочному кухонному столу, оперся на него, скрестил ноги и ответил:
«Я когда-то сам хотел поменять пол», – ответил он и почти полностью выпил свой джин, залпом.
Я разинула от изумления рот и медленно поставила стакан на стол. Потом я поднялась, подошла к Арсену, неторопливо развела полы его халата и протянула руку. Он почувствовал ее и вздрогнул, улыбнулся несмело. Я отодвинулась от него, аккуратно запахнула халат и опять села на свое место.
«Это ты хотел поменять пол? С ума сошел!»
«Я всё перепутал тогда… я смешал либидо и физиологию. У меня были другие идеалы, милая, – он подошел к своему креслу и, поскрипывая плетенкой, провалился в него. – Потом всё поменялось… один человек, мой учитель в институте, всё мне доходчиво объяснил. Теперь я делаю операции по коррекции пола и веду вполне традиционный для мужчины образ жизни».
«А все же… почему ты хотел этого? Почему хотел сменить пол?»
Арсен опустился в кресло, покрутил в руках уже пустой стакан и ответил, подняв на меня холодные серые глаза:
«Я ненавидел отца… с детства. Я любил мать, безумно. Она была близка мне во всем. Я решил ему отомстить, я не хотел быть таким, как он… я хотел быть ею».
«Вот это да! – воскликнула я и хлопнула в ладоши. – Ты персонаж Хичкока!»
Он вдруг рассмеялся, весело, задорно. Потом поднялся, встал надо мной, непринужденно распахнул халат перед моим лицом, и я поняла, что и этот день, и последующую ночь проведу у него.
Статья у меня получилась блестящая. Нет! Ну, честное пионерское, блестящая! Так многие говорили! Я рассказывала в ней о том, как формируется тип человека, независимый от принятых в обществе традиций. Я настаивала на том, что мужской пол экспериментальный, а женский – непреходящая основа жизни на земле. Я доказывала, что лишь то существо, которое чувствует себя основным, твердо стоит на своем ощущении пола, а то, которое видит себя предметом эксперимента либо его орудием, способно на трансформацию в свою противоположность. Господь всё устроил так, что главным существом является женщина, а экспериментальным, вторичным – мужчина. Этими скрытыми, внутренними ощущениями и руководствуется человечество. Эмансипация – лишь документ о владении крепости, а не сама крепость. Крепость неизменна и непоколебима, что бы ни вопили те, кто считают себя сильной стороной человечества. Ребро Адама, а я так и назвала статью, лишь та соломинка, за которую держится утопающая в своей самоуверенности мужская особь.
Боже! Какой был скандал! Сколько было писем, звонков, криков, стонов! По-моему, все обезумевшие лесбиянки и трансвеститы столицы решили, что наконец нашли своего кумира.
Я написала еще одну статью, в которой попросила не путать сексуальное вожделение с политическим самосознанием. Скандал усилился. Меня стали звать на телевизионные шоу и поползли мерзкие слухи, что Катя Немировская рвется в парламент, что она готова спать ради этого с кем угодно и как угодно. Мне припомнили одну чухонскую политическую фигуру, которая взобралась на свой национальный властный Олимп, благодаря тому, что за нее проголосовали тамошние лесбиянки и эмансипированные извращенки. Я отвечала, что кое за кого тут голосуют неучи и набитые дураки, которых потом ставят в неудобные и неприличные позы, и от этого их избранники даже не краснеют. Дайте женщинам дорогу во власть и вы не будете краснеть! – заключила я свою статью. И опять посыпались приглашения на шоу.
Арсен звонил мне, посмеивался, но я знала, что он благодарен за то, что я ни разу не упомянула его имени и даже не сослалась на его историю. Мы виделись еще много раз, но больше я с ним надолго не оставалась. Он нравился мне, меня к нему тянуло куда больше, чем к другим мужчинам с определенными и ясными стандартами. Это и пугало более всего! Арсен Чикобава, вполне мог оказаться модифицированной генетической молекулой, которая изменит меня, моё устоявшееся, самодостаточное ДНК. А этого я как раз не желала! Слишком опасен был бы эксперимент с этой особью.
…Сколько себя помню, я всегда была непослушной девочкой. Родители это не очень-то и замечали, потому что воспитывала меня бабушка по линии отца мама, старая пианистка с артрическими уже пальцами умелых, быстрых рук.
Мои родители были людьми творческими и занятыми. Папа служил в МИДе послом, всегда болтался по длительным командировкам, писал стихи, этнографические работы, защищал диссертации и публиковался в толстенных научных журналах. Мама была его неизменным редактором, секретарем, машинисткой и женой… то есть не просто женой, а «женой посла». Им было не до меня, поэтому они и не знали, насколько я непослушна и упряма.
Бабуля им этого никогда не рассказывала. По-моему, она жаловалась лишь деду, когда ходила к нему на могилу на Ваганьковское кладбище. Деда я не помню, он умер рано, от какой-то загадочной болезни, при упоминании которой бабуля бледнела, а родители тяжело вздыхали. Болезнь якобы была приобретена на его научной службе. Дед прожил бурную общественную жизнь, заработал два десятка орденов и медалей, изобрел что-то страшно важное для обороны страны и был очень дорог ее коммунистическому руководству. Одна из улиц в пределах Садового кольца долго носила его имя.
Что за загадочная болезнь была у деда, не знаю. Могу лишь догадываться, но все мои догадки больше похожи на сюжет авантюрного романа.
Его отравили. Вот в чем всё дело!
Незадолго до его смерти у нас в доме… то есть у них, потому что меня тогда еще не было… появился иностранец. Дед его дружбой очень дорожил. А однажды сказал бабке, что ему предлагают кафедру в Кембридже. И даже свою лабораторию. А вскоре дед вдруг умер. Вот такая история.
Родители матери умерли давно, они были киевляне. О них у нас говорят с уважением и почтением. Всё-таки оба видные партийные работники. Они погибли на море, во время отдыха, когда мама училась в Москве в «инязе». Вышли на небольшом суденышке половить рыбку в компании друзей и попали под редкое для тех мест торнадо. Их здесь называют ураганами или просто штормами, почему-то считая именно эти слова исконно русскими. Суденышко перевернулось, погибли все – восемь матросов, капитан, двенадцать пассажиров. Нашли тела только четверых. Среди них маминых родителей не было. Каждый год четырнадцатого июля, в день того торнадо, папа и мама прилетают на день в Сочи, недалеко от которого стряслась трагедия, и бросают в воду два красивых, дорогих венка. Я тоже иногда прилетаю туда, там и вижусь с родителями. Печальное место и печальный повод. У нас вообще отношения какие-то печальные, одинокие.
Словом, росла я в бабулиных узловатых, музыкальных пальцах. Она научила меня довольно сносно музицировать, держать спину, есть ножом и вилкой, твердо знать предназначение столовых приборов, писать простейшие стишки, выборочно читать (…именно выборочно, а не всё подряд! Неразборчивость в этом деле она считала проявлением бескультурья, как и всякую несдержанность), добиваться во всем справедливости и не давать в обиду своих.
Когда бабуля ушла из жизни, я растерялась. Мне стало скучно и страшно. Но бабуля приходила ко мне во сне и наставляла меня.
Я осталась одна в огромной пятикомнатной квартире на Мясницкой, в старом доме. Кривоколенный переулок, изящно изгибающийся в Банковский, почти упирается в наш дом. У нас туда даже есть выход, через двор. Родители прилетают редко, они ведут себя обычно как клиенты отеля: недовольно дуют щеки, переглядываются, подолгу рассматривают какие-нибудь вещи и недоуменно отставляют их в сторону. По утрам они молча сидят на кухне и ждут, наверное, когда разверзнется перед ними скатерть-самобранка, называемая ими «шведским столом».
Я к их приезду нанимаю домработницу Нину, которая вкалывает в доме так, как, должно быть, весь вместе взятый вышколенный персонаж в пятизвездочной эмиратской гостинице. Нина – вообще отдельная история. Сначала она очень недолго служила в «Национале» сервировщицей, откуда ее выгнали за какой-то некрасивый скандальчик; ее мне рекомендовала наша прежняя домработница, веселая девица Надька Павельева, ее землячка с Дона. Но об этом после, после…
Потом посол с женой посла улетают к себе до следующего года, и я с облегчением вздыхаю. В день их отъезда мы с Нинкой надираемся от счастья, как ямщики, следим ногами везде, где возможно, разливаем на кухне вино и разбрасываем крошки, мусор, разные огрызки. Шабаш устраиваем, одним словом. Наряжаемся во всякое тряпье и визжим, как резаные. Очень весело, хотя утром всё это приходится самим же убирать.
Я не замужем и никогда в этом тяжком гражданском состоянии не состояла. И не буду! Родители очень негодуют, постоянно подсовывают мне (заочно, разумеется, они же всегда в отъезде!) каких-то занюханных карьерных бобылей, а я налаживаю их пинками под зад и пускаюсь во все тяжкие. То есть сплю с теми, кто мне приятен, и люблю тех, кто этого заслуживает, на мой взгляд. А взгляд у меня очень капризный и очень внимательный. Не люблю людей без изъянов! Да! Без изъянов я всех презираю, потому что они примитивны. Человек должен быть интересным, а к этому его либо толкает изъян (чтобы выделиться, чтобы компенсировать недостаток!), либо изъян получается вследствие его природной оригинальности.
Да вот, пожалуйста – доктор Арсен Чикобава! Таких, как он, днем с огнем не сыщешь! Любопытнейший тип мужчины! И имя, и фамилия! Чико-чико-чико! У кого такое есть! Только у меня. То есть, конечно, у него. Но и у меня…
Есть еще один… но о нем потом. Это – талантище, одаренность планетарного масштаба. Бабуля его терпеть не могла, а я уважала. Меня к нему тянуло тогда даже больше, чем теперь к Арсену. Потому что такая одаренность – тоже тип уродства. Потом, потом… о нем потом… когда-нибудь.
Однажды я зимой попала в Псков. От скуки, от тоски, уступив его, моего знакомца, настоянию. «Поезжай, говорит, проветрись. Да еще загляни в небольшой городишко поблизости, почти на эстонской границе. Я дам тебе адрес… посмотришь там на один домишко…»
«Зачем?» – спрашиваю.
А он усмехается и только.
Я ему уступила: просто взяла и поехала туда автобусом с площади перед Казанским вокзалом. Тряслась несколько часов. Псков показался мне не очень оригинальным городом – слишком хотел понравиться туристам. Я села на местный маршрут и поехала в окрестности, ближе к прибалтийской границе, туда, куда меня толкал тот мой знакомец. Говорят, оттуда раньше до Москвы было почти сутки поездом. Теперь он доезжает за несколько часов, с пересадкой в Пскове. Сутки – это романтичней, а несколько часов всё упрощают. Но я всё равно ехала автобусом, а не поездом.
Городишко показался мне забавным: парочка каких-то жалких фабрик, речка с пристанью, привокзальная площадь, путаные улочки с домами-развалюхами, редкие прохожие и какие-то легенды о подземных ходах, ведущих чуть ли не в Польшу, хотя до Польши оттуда пилить и пилить. Рядом Эстония, но, похоже, местные старики ее и считают Польшей. У них всё Польша, что за кордоном. Слово «Польша» для них – синоним слова «чужбина». Очень смешно!
Впрочем, может быть и вовсе не смешно. Настрадались, наверное, когда-то очень давно от ляхов. Потоптали их, побили крепко. В окрестностях города несколько разваленных крепостей; от них только и остались одни серые камни, криво сложенные в низкорослые, искалеченные башенки. Камни молчат, а люди чужбину и опасность, оттуда исходящую, до сей поры Польшей зовут. Я такого больше нигде не встречала. От старой истории остались лишь болезненные легенды, а от этих легенд – только одно название.
Я разыскала там тот забавный домишко, однокомнатный, смрадный какой-то, с оконцами-бойницами и с дверью, на стекле которой было написано, что дом продается или сдается в аренду. Вокруг дома ходили какие-то мрачные легенды. Он был как человек с изъяном. Уродец эдакий, горбун со злыми подслеповатыми глазенками. Но от дома исходил какой-то почти эротический дух страха. Я походила вокруг, замирая, и задумчивая вернулась в Псков. Оттуда я в тот же вечер поездом, укатила в Москву.
Я видела тот дом во сне. Он скрипел дверями, бил окнами, рассыпал стекла, как алмазы, и выл жутким голосом от пронизывающего ветра.
Тот мой оригинальный приятель, которого при жизни не любила бабуля, выслушал меня и вдруг сказал:
«Купи этот дом! У тебя ведь есть деньги. Уйма денег! Тебе всё равно их некуда тратить. У вас имеется загородная дача, на которой ты бываешь пару раз в году, ты почти не ездишь на своем шикарном автомобиле, ты бездельничаешь в своей роскошной квартире… от скуки катаешься по всему миру, от скуки же платишь за нищих оригиналов, покупаешь одежду в бутиках и всё никак не растратишься. Ты – завидная, стареющая московская невеста. Тебе не хватает хорошей встряски! Купи этот дом и встряска будет. Это я тебе обещаю».
Словом, я купила тот дом.
История одной привязанности
Привязанность – сильнее любви. Любовь – это страсть, ревность, недоверие и вера, смешанные в одном страдающем сознании. Любовь имеет и свои границы, и свое начало, и свой конец.
Страсть, любовь – смертны. Привязанность – вечна. Она может не требовать ответного чувства, потому что предмет привязанности может быть неодушевленным.
Бывают привязанности у коллекционеров. Они больше напоминают навязчивые мании, но эти мании чаще всего безобидны. Если только такая привязанность не разоряет семью коллекционера и его самого.
Если же у предмета привязанности есть душа, то дело серьезнее. Эта привязанность куда более роковая, куда более веская. Это – привязанность к человеку, к его образу, слову, глазам, запаху, одежде, к манере существовать, к его интимному обиталищу.
Олег Павлер был подвержен именно этому вечному чувству. Он сжился с ним, он сам стал неотъемлемой частью его.
Олег Генрихович Павлер, режиссер-постановщик, по прозвищу Милый.
Без Игоря мне невозможно тошно! Мир свернулся в одну узкую слепящую полоску, в которой неразличимы лица, предметы, климат, время… Звуки превратились в тонкий, раздражающий свист, а запахи вообще исчезли. Скончались, свернулись в рогалики рецепторы органов чувств. Они стали не нужны мне, а, значит, ненужной стала и сама жизнь.
Игорь рассказывал мне о том времени, когда меня еще не было, а он уже был и даже осознавал себя в полной мере. Я слушал его и доверял его чувствам, его ощущениям. Если бы это же написали в учебниках, то я бы даже не раскрыл их. Я знаю нашу наиновейшую, наиближайшую историю посредством его ощущений, его памяти, его опыта. Я осознал свое родство с прошедшим временем, благодаря ему.
Он писал книги… он писал себя самого, как художник пишет автопортрет, и о своем времени, как это делает дотошный историк, но это было и обо мне, причем, куда более искренне, чем если бы я сам вдруг решился поведать что-то. Он был моим слухом, моими глазами, моим обонянием, и даже моей памятью. И вот всё это в одночасье отключилось. Разом! Может ли существовать жизнь без органов чувств, без прошлого, без настоящего? Разве возможно будущее без всего этого?
Вот уже неделю я не появляюсь на репетициях. Мне звонят, но я не слышу, меня теребят, но я не чувствую, мне что-то пытаются показать, но я не вижу.
На похоронах было много людей. Я смотрел на них и думал, что с большинством из них Игорь не выпил бы и чашки чая. Он беззащитен теперь – всякий может прийти и, невзирая на те мерзости, которые творил против него при жизни, оскорбить память о нем своим присутствием. Это еще куда более тяжкий проступок, чем плюнуть живому в лицо. Потому что мертвый беззащитен, потому что мертвый молчалив. Это – безнаказанный, прикрытый маской соболезнования цинизм.
Кто-то скажет, что у Игоря не было врагов, не было даже недоброжелателей. Но это ложь! У него не могло не быть врагов, потому что у него была своя непоколебимая нравственная позиция, а она своего рода крепость на границе его жизни. Крепость не строится случайно – слишком дорогое сооружение. Крепость возводится лишь тогда, когда виден враг на подступах к твоим территориям. Значит, был враг!
Я убежден, хороший полководец лишь тот, кто оставляет свои качества воина напоследок, лишь после того, как качества дипломата уже исчерпаны. Но Игорь Волей был неисчерпаем как дипломат, и потому железа? полководца у него почти атрофировалась.