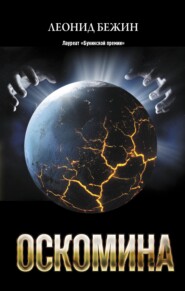скачать книгу бесплатно
– Между прочим, целовальники – те, кто целует крест, поскольку их выбирают на должность.
– От кого ты это слышал?
– От дедушки.
– Твой дедушка слишком умный. А мой папа целует не какой-то там крест, а красивых женщин. Вот почему он целовальник.
Сказала – и поцеловала меня после того, как я вытащил планшет из пролома.
Вытащил вместе с хранившейся в нем тетрадью деда и тихонько унес ее к себе как трофей, поскольку сам дед учил меня, что следует захватывать трофеи.
Выдают детали
Теперь расскажу об этом же, но с новыми подробностями, как внушал мне горячо любимый дед Гордей Филиппович, воспитывавший меня по своей методе, в обход отца и матери, кои, по его мнению, не могли мне дать настоящего воспитания. Воспитателем дед признавал лишь моего дядю Валентина, но считал, что острые углы его методы следует все же сглаживать, несколько закруглять, как столяр закругляет углы буфета, чтобы никто на них не напоролся и не проткнул себе бок.
Так было с мировой революцией, которую дядя Валя называл фигней. Дед же с ним не соглашался и внушал мне, чтобы я дядю Валю не слушал, поскольку без мировой наша революция зачахнет, заглохнет и выродится в химеру.
Так было и со светлым будущим. По мнению дяди Вали, если оно, это светлое, когда-нибудь и наступит, то лишь как тысячелетнее царство Христово, а отнюдь не коммунизм. Дед же доказывал, что тысячелетнее царство и есть коммунизм, неважно, в какой оболочке его преподносят.
Однако, несмотря на яростные споры с дядей Валей и его привычку во всем видеть одну фигню, дед считал полезным и допустимым его воспитательное воздействие на меня, поскольку, по словам деда, дядя Валя был честным. Его спрашивали о моих родителях:
– Что ж, их нельзя назвать честными? Они что, по-твоему, обманщики?
Дед тотчас умоляюще вскидывал руки и принимался уверять:
– Нет-нет, они честнейшие люди. Но у них есть один недостаток.
– Какой?
И тут выяснялось, что не дядя Валя с его фигней, а именно мои мать и отец были отчаянными пофигистами.
Впрочем, это слово появилось значительно позже, а тогда пофигистов называли пацифистами. Или социал-демократами, которые, в отличие от коммунистов, стремились все и вся примирять. Дед ставил в вину матери и отцу, что они не любили войну, хотя сам он ее обожал еще больше, чем мировую революцию.
Обожал не саму войну, разумеется, не гибель и увечья, а стратегию войны, не только считая ее высшим достижением ума, а доказывая, что под ее оболочкой сохранились великие гуманитарные науки, и прежде всего отечественная и европейская философия, изгнанная со всех университетских кафедр.
Словом, Свечину в его главной книге «Стратегия» удавалось косвенно выразить то, что, высказанное напрямую, было бы подвергнуто жесточайшей цензуре. Поэтому стратегия воинского дела – это скрытое возрождение идей тех мыслителей, кои были изгнаны из России в 1922 году на так называемом философском пароходе. И Александр Андреевич Свечин в этом смысле может считаться истинным русским гением и пророком.
На этом настаивал дед, и этому он учил меня. Мои родители отказывались с ним согласиться, и поэтому дед, не отказывая им в честности и порядочности, полагал, что они не могут научить меня ничему хорошему.
Дед на каждое их поучение приводил свое, и мне надолго запомнились его слова, звучавшие как командирский приказ:
– Сначала голая суть, а затем подробности, причем такие, которые от раза к разу не должны повторяться.
– Почему? – спросил я, помня утверждение отца, что повторение – мать учения.
– А потому, что лжеца на голой сути не поймаешь, но зато его выдают детали. Запомни это. В жизни пригодится.
Голую суть моей истории я кратко изложил. Теперь же, с позволения читателей, среди коих, надеюсь, окажутся те, кого интересует история и озадачивают парадоксы вроде того, как это мы сумели после катастрофических неудач начала войны дойти до Берлина и завоевать пол-Европы… с позволения именно таких читателей, берусь за новые подробности.
Глава вторая. Триандафиллов и авиационная катастрофа
Не Троцкий же!
В детстве я любил понедельники. Расходились гости, остававшиеся у нас с субботы, пустели комнаты, все разбредались по своим углам, и особенно хорошо было у деда под столом, когда он за ним не сидел.
Не сидел, а прохаживался по коридору, закладывая за спину руки, слегка сгибая спину и подаваясь плечом вперед – так, словно во времена молодости скользил по льду на финских коньках. Такое случалось довольно часто при его беспокойном норове – настолько беспокойном, что моя насмешливая мать уговаривала Гордея Филипповича сделать наконец эту пустячную операцию и удалить из зада шило, не позволяющее ему в течение получаса усидеть на месте.
Я тогда и впрямь верил в это злосчастное шило, казавшееся мне причиной того, что деда вечно отвлекала от писания зловеще мигавшая настольная лампа, мышь, шуршавшая под полом, или протачивавший ножку стола древесный червь. Случалось, что и сломанный от резкого нажима грифель выпадал из карандаша и, прокатившись по суконному врезу стола, падал на паркетный пол.
Деду приходилось встать, чтобы нагнуться и его поднять. Это он совершал легко, без особых усилий, поскольку был невысок (аккуратного роста, как он сам о себе говорил), худощав и поджар, стянут солдатским ремнем так, что штырек входил в последнюю дырочку.
Впрочем, поднимая с пола грифель, дед немного хитрил – старался брать тем, что сгибал колени, а не позвоночник. Позвоночник-то у него оставался прямым, как красный флаг над Перекопом. Однако при этом ему часто стреляло в поясницу. Но он каждый выстрел встречал стоически, с улыбкой, уверяя, что будет так же улыбаться, когда его поведут в заросший черемухой (дед обожал, чтоб все было красиво) овраг на расстрел.
Таких шуточек в семье не любили, и деду за них доставалось от дочери (моей матери):
– Прекрати сейчас же! Замолчи! Или я тебя накажу! Поколочу или выдеру последние волосы!
– Ну уж, ну уж… Лучше уж на конюшне розгами высечь. Все приятнее, чем угодить под бабьи кулаки.
Дед, хотя и закрывался руками от подобной угрозы – выдрать волосы и поколотить, был доволен, что пошутил, поскольку вообще-то шутить не умел и с каждой своей случайной удачей носился как с писаной торбой. С видом именинника обходил нашу большую квартиру, заглядывая во все углы, за ширмы и занавески и без конца повторяя:
– Буду! Буду улыбаться, пока не пристрелят. Или хотя бы не посадят, как Александра Андреевича Свечина.
Находились охотники с сарказмом ему ответить, и прежде всего брат дяди Вали дядя Воля, красный командир с масонскими знаками в петлицах. Тут необходимо кое-что пояснить, чтобы не возникало путаницы. В нашей семье ходила присказка, что одна буковка может все изменить: сад сделать судом, ад – удом (при этом слове женщины смущенно розовели), а дядю Валю – дядей Волей.
Эти два дяди с похожими именами – сыновья Гордея Филипповича – во всем остальном были совершенно разными. Разными настолько, что не возникал соблазн спутать их имена. Дядя Воля отличался от дяди Вали своей округлостью, припухлостью, белесостью (чернявый дядя Валя рядом с ним казался тощим Кощеем), боязливостью и лояльностью. Все, что его брат отрицал, охаивал и оплевывал, сам он одобрял, оправдывал, восхвалял и поэтому – преуспевал по службе. Особыми способностями, талантами и умом похвастаться не мог, а обладал лишь умишком, хотя и им гордился и при случае не прочь был и прихвастнуть.
Он ассистировал деду в академии, наливал ему воду из графина в стакан и заполнял формулами ту часть доски, куда дед по своему малому (аккуратному) росту дотянуться не мог. Но последнее время дядя Воля все больше деда подначивал, критиковал, выводил на спор, причем старался, чтобы все слышали их вечные препирательства.
Это означало, что дядя Воля хочет несколько отстраниться – предусмотрительно (и принципиально) дистанцироваться от деда – на тот случай, если Гордею Филипповичу дадут по шапке, обвинят в милитаризме и сочтут, что его воинственные теории противоречат сугубо миротворческим устремлениям партии.
– Не миротворческим, а мироточивым, – со знанием дела возражал на это дед, хотя он и не был частым гостем патриархии и усердным прихожанином Богоявленского собора в Елохове.
Дядя Воля не очень-то понимал, что дед имеет в виду и куда он клонит.
– Мироточивыми, насколько мне известно, бывают иконы.
– А это и есть икона, только идеологическая. – Дед едва заметно подмигивал в знак того, что без икон не обходится не одна лишь церковь, но и никакая идеология. – Икона – предмет культа, идеология же – прежде всего культ.
– А ваша феерия в таком случае? – Дядя Воля пытался сразить отца его же собственным словечком.
– Теория есть поиск истины, причем без всякой гарантии ее обрести, – скромно ответствовал дед. А за истину и в овраге сгнить не страшно.
– Поэтому и улыбаетесь?
– Поэтому, милый, поэтому. Уж ты мне позволь. Я на своем веку всякого навидался.
Вот и в тот понедельник, когда мать узнала, кого отец пригласил на воскресенье, я же обнаружил в проломе письменного стола командирский планшет, дядя Воля насмешливо произнес:
– В овраге, да еще под черемухой-то, каждый горазд улыбаться, а ты улыбнись в сыром подвале, когда к сырой кирпичной стенке лицом поставят, а там паук на ниточке висит, лапками перебирает.
На это дед слегка обиделся:
– Фу ты, мерзость какая! Что я овраг себе не заслужил? На рабоче-крестьянскую власть всю жизнь ишачу. К Ленину не раз вызывали. Автомобиль из Кремля присылали.
– Ленин ваш, любезный принципал, давно помре. В Мавзолее лежит. А на Мавзолее кто? А на Мавзолее – Сталин.
– Тс-с-с! – предостерег дед, прикладывая палец к губам (верхняя была вздернута, а нижняя опущена). – Не забывай, в каком доме живем. Мы тут все как мушки под микроскопом.
– Опасаетесь? Боитесь?
– Боюсь.
– А вот, простите за грубость, врете. Во всяком случае, подвираете.
– Грубость прощу, а глупость не прощу.
– Благодарю. Надеюсь, что глупостей никогда не порол. Ничего вы не боитесь. И не потому, что такой храбрый, а потому, что – теоретик войны, а без войны не будет пожара мировой революции, рабоче-крестьянская власть не удержится и капитализм по всему миру мы не изведем. А кто, кроме вас, научит мужика-пахаря любить войну? Не Троцкий же!
– Тс-с-с! – вторично предостерег дед, и оба замолчали.
Индийская гробница
После таких разговоров по углам нашей привилегированной квартиры с ее обитателями – малым народцем, состоящим из близких и дальних родственников, – дед возвращался в кабинет. Но за стол сразу не садился, а прохаживался взад и вперед. Разминал – буравил – поясницу своими маленькими, сухонькими кулачками. Или стоял у окна, высматривая, кто сегодня дежурит по нашей улице Грановского – Фридрих Великий или Барбаросса.
Так он прозвал наиболее примелькавшихся охранников, из чего следовало, что дед как теоретик войны особенно любил Германию и вслед за своим кумиром Свечиным тяготел к воинскому искусству пруссаков.
Вот тогда-то я, шестилетний, и оказывался под столом – в домике, как любят воображать дети (особенно девочки), мечтающие о собственном, отделенном от взрослых уголке. Соперниками моему чувству собственника этих владений были ноги моего деда, которые он, садясь в кресло, протягивал под столом.
Несмотря на всю любовь к деду, эти ноги я ненавидел. Я всячески старался их изгнать из-под стола, вытолкать, вытеснить, выжить, создать для них неудобство или даже причинить им боль, ущипнуть или уколоть. Дед некоторое время это терпел, но затем сучил ногами, потирал ушибленное место и за шиворот вытаскивал меня из-под стола.
Вот и на этот раз, воспользовавшись отсутствием деда, я забрался в кабинет и затаился там под столом, но был сразу замечен и разоблачен дедом.
– Опять забрался, как вор в чужую квартиру! Ну что тебе там, под столом! Только пыль глотать! Сейчас мать тебя отругает. Она сегодня не в духе. Кстати, не знаешь почему?
– Знаю, но не скажу. Ты сам меня учил хранить тайну.
– Ладно, завтра будешь хранить, а сегодня скажи.
– А ты разрешишь мне еще посидеть под столом?
– Разрешу.
– Мама не в духе, потому что она не дружит с Кузьминой, а дружит с Ниной Евгеньевной. Нина Евгеньевна же живет в индийской гробнице. И вообще мама за Тухачевского, а отец – за Маленкова. – Я по-своему изложил все слышанное от взрослых.
Дед выразил свое недовольство тем, что зафыркал, затряс щеками и стал похож на бурундука с набитым про запас ртом.
– Так… Опять ты все слепил в один комок и размазал по тарелке, как манную кашу. Сколько тебя учить: каждый факт требует отдельного рассмотрения. Прежде всего скажи на милость, что это за индийская гробница – мавзолей Тадж-Махал?
– Тадж… – что? – Я сделал вид, будто не расслышал то, чего на самом деле не понял.
– Тадж-Махал в Агре, мой милый. Там похоронена Мумтаз-Махал, любимая жена Шах-Джахана. Надо знать такие вещи.
– Я знаю, – упрямо ответил я, как всегда отвечал на упреки в недостатке знаний.
– Что ты знаешь?
– Знаю, что индийская гробница – такой же, как наш, дом, украшенный памятными досками, но не маршальский. Там живет Нина Евгеньевна и ее дочь Светлана.
– А с ними – и сам Шах-Джахан, то есть Тухачевский. Слава богу, выяснили.
– Шах-Джахан – это не Тухачевский.
– Вот те раз! А кто же?
– Товарищ Сталин.
– Почему ты так решил?
– Потому что он самый главный.
– Ну, знаешь ли, Тухачевский тоже при званиях, чинах и должностях. Впрочем, не будем об этом. А что у нас за событие в воскресенье, раз приглашают таких гостей?
– Мой день рождения.
– Ах, прости, дорогой! Я тут заработался и совсем забыл. Но подарок тебе будет. Я обещаю.
Раз уж дед сам заговорил о подарке, я хотел попросить у него командирский планшет, выпиравший углом из пролома в письменном столе, но раздумал, посчитав, что планшет и так мне достанется, обещанный же подарок деда может оказаться еще более приятным сюрпризом. Поэтому просить я не стал, а вместо этого получше устроился под столом, раз уж мне это было разрешено, и стал воображать, будто я замурован в подземелье гробницы, а мои родители, многочисленная родня и дед оплакивают меня там, наверху.
Впрочем, эту игру я вскоре бросил, поскольку, будучи замурованным, не смог бы в воскресенье принимать гостей и получать от них положенные по случаю моего дня подарки.
Обмишурился
Дед приучал меня также и к точности, не упуская случая меня на этот счет проверить, а то и подкузьмить, если у меня шатался молочный зуб, как он говорил, и я не внушал ему уверенности в твердом знании фактов. «Судя по всему, математик из тебя никакой и ты у нас в будущем – вечный гуманитарный недоросль, поэтому научись хотя бы запоминать имена и даты», – наставлял он меня и сыпал проверочными вопросами вроде того, когда было сражение под Перекопом или Польский поход. В них он участвовал, махал шашкой, трубил отбой и раннюю побудку, растягивал на груди аккордеон (дед прекрасно играл на клавишных и духовых).
Но особенно дед мучил меня двумя датами – образования СССР и создания Красной Армии, в которых я отчаянно путался и называл дату образования вместо создания.
– М-м-м! – Дед ужасался моей оплошности и что-то мычал, прижимая к щеке ладонь, словно у него – в отличие от моих шатавшихся молочных – болели коренные зубы.
Я тотчас пытался исправиться, чтобы не причинять деду такие страдания, и менял местами создание и образование, но деду и тут приходилось меня поправить:
– Двадцать третье февраля, мой дорогой, появилось позже, а изначально днем создания Красной Армии считалось двадцать восьмое января, день соответствующего декрета Совнаркома. – Глубокий вздох деда означал мою полную безнадежность по части точности, и, чтобы не дать мне вовсе утонуть и захлебнуться, дед из жалости бросал соломинку: – Ну а свой день рождения-то ты помнишь?
Об этом он спросил меня и в тот понедельник, на что я уверенно ответил:
– Воскресенье!
Дед снова схватился за щеку и замычал. И тут я понял, что опять обмишурился и не смог точно назвать даже свой день рождения.