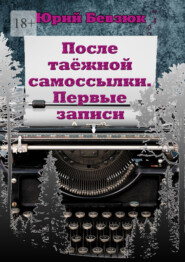скачать книгу бесплатно
После таёжной самоссылки. Первые записи
Юрий Бевзюк
Нарративы. Воспоминания, колебания и метания по необъятным просторам крайностей Дальнего Востока в самые лучшие годы жизни и времени. Книга содержит нецензурную брань.
После таёжной самоссылки. Первые записи
Юрий Бевзюк
Дизайнер обложки Евгений Сазанов
© Юрий Бевзюк, 2021
© Евгений Сазанов, дизайн обложки, 2021
ISBN 978-5-0055-6840-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
«Вторая жизнь моя, «самоссылка» в тайгу 11-тилетняя, 1971-82-й, – могла быть лишь эпизодом в мои годы сильные; и мало кто её мог повторить; она фактически меня материалом для воспоминаний в старости снабдила, – что бы о чём писать было, – когда ни на что другое не достанет силы …Из тайги меня выпихнули коммунисты …но и необходимость экономическая: последний момент прописаться в своём доме сносимом, – дабы получить квартиру, – которая потом и теперь станет основой моей финансовой стабильности …До лета-осени 82-го надо мной довлели соображения романтичные; письмо отца летом о сносе дома – вернуло к реализму …Отец весною перенес несильный гипертонический криз первый, затем операцию аденомы простаты; я жил с ним в доме дней пять последних – это было тягостно …но надо описать …Он также был одной из весомых моей «самоссылки» в тайгу причин, – кроме разительного ментального различия: он «чисто конкретный» был, – я же с детства тяготел к рефлексии; и даже казался ему я «не в себе», балбесом, – с шустрым братиком Сашей в сравнении, – кой, от меня в отличие, с первого класса по четвёртый в умелые руки попал хорошей училки; у меня же в первом классе сменился десяток училок, – и каждая недолюбливала меня, – на родительских собраниях – кои отец, ему в 47-м году лишь 32 (и, похоже, всю жизнь был верен матери! чему у меня разительное доказательство… а на собрания приходили и лет на 5 моложе его мамы!; из училок каждая трояками меня награждала …а отец синдром младшего брата в преуспевающей семейке переселенцев страдал: дети его брата старшего Стапана (фото 1 слева, 3 слева 3-й, справа отец), на 18 лет отца старше, и трёх сестёр старших, – в «люди» уже повышли, – на фото том же 3-м крайний слева кузён мой Петя, лётчик военный, – а крайний справа – блондинистый кузен Федя, – и вовсе инженер на атомном в Челябинске проекте!… … личяга
11.14…Особо ценен мой школьный дневник:
в нём зафиксирована
стремительность умственного моего развития
47 спустя лет, в 2004-м, – на пишмашинке,
с комментарием от тогдашности переписан, —
и оцифрован племянником, – им же отпечатан на принтере…
…Но вот сейчас, когда представилась возможность публикации на весь мир, —
та оцифровка не нашлась! Приходится заново…
По с точкой пунктуации присылает мне оцифровку
на редакцию Женя Сазанов,
с точкой переписывая
Я было мирился, удаляя точку от курсора лишь по-близости:
мол, содержание де не меняется даже незначительно!
но час назад таки позвонил, чтобы не делал лишнего!
Здесь ведь дело принципа:
с 2004-го года столь много писал, —
что, наконец-то, возмутился:
точка-то зачем, когда ясно, —
что если за пробелом буква большая, —
то предыдущее предложение – закончено!!!
У меня лишь в последние 7 лет
пунктуация без «точки» выработалась…
…Но что удивительно?
Ведь писали многие и поболее моего, —
но почему только я возмутился?
Знать столь велика над человечеством власть даже вредно-лишней привычки
…Притом что никакое предложение (мысль!) —
не кончается «точкой» категорически… 12.10
5 мая 2020., 6.36 …Лет человеку жить лишь 70, по библии; при крепкости – до 80-ти; при крепкости особой – и до 90-ста вытянешь; до 100-та – при крепкости лишь исключительной 6.47 …7.03 …при обстоятельствах, особенно счастл`ивых …и вряд ли будешь рад столь жизни длительности 7.08
7 мая 2020, 10.41 …Всё чаще в старости начало жизни вспоминается, – было оно у меня особо счастливо сначала (уже описано не раз, – найди, попробуй-ка те записи, однако!); но время было послевоенное тяжкое …с класса первого ощутилась его тяжесть …и тоже описано неоднократно…
Путь в школу от выхода переулком с оврага мимо дома Наймушиных слева был почти одинаков пути справа, разве нижним, левым, немного высоты терялось Вернее, немного высоты – метра два всего – терялось как раз путем правым, но левым приходилось брать перед выходом на спуск пологий уже к школе довольно крутой взлобок, им выходить было все же ниже немного. Правым путем ходил сызмальства, как только можно стало доверить мне карточки, за хлебом для всей семьи, каждый день к хлебному магазину на Черемуховой Смутно запомнились мне эти карточки, смутно запомнился и тот длинный проход в бараковидном доме, которым надо было проходить с торца барака к хлебному, причем спускаться немного вправо вниз, – и магазин был длинный, темный: дома того давным-давно нет, как и всех частных – всё там безбожно загажено многоэтажками, – остался лишь след в памяти. Чуть еще выше этого пути была «вышка» парашютных прыжков, а потом базарчик на пологом склоне под вершинкой, потом огороженный двор каких-то складов. Мимо этой «вышки» через довольно крутой, но невысокий каменистый хребет выходил на пологий склон на юго-запад, на короткую улочку старых домиков, в конце которой, на перевальчике дороги от Диомида к Чайке была небольшая продуктовая база, во дворе которой меня как-то летом 47 года чуть не задавили в огромной очереди за ржаной мукой. Этот набитый до отказа кричащими, с выпученными глазами людьми, глухой двор с высоким сплошным забором тоже запомнился страхом: как мне туда идти, пробиваться к очереди, занятой отцом, чтобы взять побольше темной муки – давали по 5 кг на одни руки: мне тогда оттоптали, так что долго болели, – ступни. Теперь на месте той базы тоже что-то есть – она на самом хребетке, но теперь еще и на высоте с шоссе метров в пять: хребет был подрезан потом бульдозером при благоустройстве шоссе от Диомида на Чайку. Ниже этой базы дальше к Чайке возле дороги росла толстая, но не высокая липа с огромным дуплом внизу (еще одна такая, чтобы не забыть, была на Малом Улиссе, за поворотом дороги через линию от Окатовой на Трудовую), метрах в 70-ти за липой был у дороги кирпичный или бетонный, скорее, магазинчик всякой химии, керосина и прочего
Другой хлебный магазин был, если следовать от Диомида по дороге, а теперь асфальту, за кинотеатром имени «Фрунзе», в длинном приземистом бараковидным, но кирпичном одноэтажном здании. Далее тоже справа такое же кирпичное здание – видно, казармы какие-то еще дореволюционные – и в нем тот самый хлебный магазин, но ходили к нему, разумеется, не через Диомид, а напрямую через перевал: с Двухгорбовой подъем был относительно пологий, а спуск в сторону Золотого Рога крут, так что назад с хлебом, а когда подрос, лет с 14-ти, то и с мешком соевой муки кг в 30, было хорошей тренировочкой ног и дыхания. Теперь там прямо вниз не пройдешь, пришлось зигзагом между настроенными там 5-ти-7-миэтажками, когда менял паспорт недавно на уже с «лобковой вошью Ельцина» – двуглавым орлом… Там теперь милиция и казармы, кажется, внутренних войск – раньше милиция была на Черемуховой чуть выше 27 школы, а через дорогу был военкомат – теперь военкомат занимает и здание бывшей милиции. А о внутренних войсках при милиции тогда и подумать не могли
А от дома Наймушиных путь в школу слева шёл вдоль оврага вниз двести метров и поворачивал направо на широкую улицу, где посредине, метров через триста Сидоренки, земляк отца, сложенья богатырского широколицый главою семьи, – через широкую улицу жили Дочку их, лет моих лет, помню светленькую, не особо красивую; на ощутимом уже подъеме подходил переулок через верхнюю улицу – к большому дому Мищенко, оттуда ненормально большеголовый мой ровесник вынес как-то с чердака, желая что-то подарить и, зная мою страсть к чтению, маленькую книжечку в тонкой обложке, на которой желтыми буквами было написано «Евгений Онегин»…
…И я сразу ощутил нечто сакральное в этой книжице, что-то успокоительное, надежное в стихах, несколько, конечно, не по возрасту. И столь отдаленное по образу жизни героев, который только много потом можно было понять, но, конечно, не принять: это было где-то в 5-ом классе, а «Евгений Онегин» проходили аж в 8-ом, несмотря на непонятность, отдаленность дворянской жизни от жизни тогдашней, бедной и трудной нашей…
Бывший кирпичный одноэтажный кинотеатр имени Фрунзе давно снесен при расширении шоссе, теперь через шоссе от бывшего места его большая бензозаправка. То был единственный кинотеатр в районе, там, помню, выстаивал огромную очередь на «Тарзана» в конце сороковых. Ходили еще в клуб завода №92, где потом был радиозавод, да в ранние годы мои тяготеющие к Улиссу улицы ходили смотреть кино на открытую площадку бригады подводных лодок, пока ее территория не была огорожена миноловными заграждениями – сетями из колец из стального троса миллиметров в 20 толщиной, подвешенный на вбитых в землю рельсах на небольшой, впрочем, высоте, легко было перелезть. Взрослые ходили, пока не выставили ограждения, на открытую площадку под склоном – путь этот с наших улиц был романтичен: сначала до площади Окатовой мимо ужасных засыпных бараков на Кипарисовой, потом между огородами до перевальчика на отрожке хребетка, потом вниз некруто тоже огородами, а на подходе к бригаде лесом из невысокого дубняка. Перед бригадой был крутой спуск и вскоре чуть ли не врыта было в склон кирпичная кинобудка, а ниже скамьи вниз к экрану. Наиболее мне запомнилась там экранизация пьесы Горького «Враги» – это уже лет в 13 оказало на меня мощное идеологическое воздействие. Взволновала тогда, врезалась в память оценка героя – рабочего-революционера – симпатичной, серьезной героиней пьесы: «Такие люди победят!». (И победили!) [И еще не раз победят! 9 мая 2020] Раздумчиво так, без восклицания сказано артисткой – немало юных сердец завоевала эта фраза, и экранное ее воздействие, несомненно, сильнее печатного и театрального. Написана пьеса задолго до революции. Идеологическое* воздействие основано на примеси сексуального: «слабому» полу принадлежит от природы право выбора и оценки, и Горькому это здорово удалось… В холодное время года пацаны ходили и в клуб Бригады, внушительное высокое здание с выбеленными колоннами у входа, как-то дико выглядевшими почти в лесу, выделявшимися белизной. Подобной архитектурной роскоши в стиле классицизма не было больше нигде на Чуркине. Из просторной, с высоким потолком столовой выносились после ужина матросов столы, приносились скамьи и крутили кино, пацаны туда проникали, их не гнали. С этими вечерними сеансами связано сильнейшее переживание отрочества, подробное описание которого вскоре
* На съезде партии 20-м – не Сталина «культ» Хрущёв, хитрый дурак, подрывал, – на всей Земле он правду в п`одпол загонял!…
Из школьного за все 5 лет первых не запомнилось ничего радостного, за исключением разве первого чувства к представительнице противоположного пола Вшивцевой Соне, самой хорошенькой до старших классов. Чувство это возникло не позднее второго-третьего класса и грело меня, как-то привлекая к школе, класса до 5-го, когда ей обрили волосы на голове, обмазали зеленкой, и она долго носила берет; к тому же меня сильно отвлекли негативные эмоции; потом она как-то посерела, а после окончания школы как-то рано располнела и уже тогда вышла из круга моих предпочтений. Я, впрочем, никак своего раннего чувства к Соне не обнаруживал. Она была шатенка, жила на том самом спуске крутом от Двухгорбовой к Фрунзе, там было семейство по обе стороны прохода вниз, между темных двухэтажных бараков. А до них, на самой бровке справа, если от Двухгорбовых, был длинный приземистый частный дом на два хозяина. Со стороны, если можно так выразиться, дороги начала, то есть спуска вниз, от которого вскоре поворачивали вправо, если шли на Мальцевскую переправу, жил Женя Еременко, который учился со мной с первого класса и фигурирует ниже в походе «Владивосток-Хабаровск» в 56-м, после 9-го класса, – вход был с торца. А дальше Лида Обидченко, вход к ним был со стороны улицы, которая тогда заворачивала за сопку (там теперь шоссе, огибая от «Рыбацкого хлеба» и магазина стройтоваров сопку по Запорожской на путепереход над ущельем, по которой проходит железнодорожная ветка на Улисс и далее на Луговую кратчайшим путем в город с Чуркина; как раз напротив бывшего дома Обидченок-Еременок через шоссе теперь оскорбляющая мои – воспоминания, – и, несомненно, еще многих, – церковь) … Шоссе то ведет на путепровод через ущелье, кой появился недавно, – а то приходилось в молодости много раз топать железкой до этого самого ущелья, возле которого кое-кого даже убили, а побольше, конечно, ограбили
Однако, далеко я отъехал от Лиды Обидченко, которая все начальные классы сидела на первой парте среднего ряда, а я за ней. Она была светленькая, несколько крупноголовая, с овальным лицом, голубоглазая, на одном виске было овальное нарушение кожи диаметром в полтора раза побольше пятака, то ли ожег, то ли еще что (но без покраснения). К ней особых чувств не возникало, ровная такая привязанность к ее скромной, тихой женственности, кой был дефицит в моей семье. Она тоже шла со мной до 10-го класса, и все хорошела, голова ее с возрастом стала соразмерной, фигура не запомнилась, как не запомнилось ничего в связи с ней, настолько она была тихая и скромная. Тем удивительнее мне было услышать лет уже в 15 от совершенно незнакомого ласкового парня, с которым разговорился как-то возле того дома на отшибе – просто шли, я, помнится, снизу, от Фрунзе, он сверху (или наоборот, или я догнал его – я тогда ходил быстрее других) – и он совершенно без всякого повода и мне, совсем незнакомому, поведал, когда проходили этот дом: «Хорошая девочка тут живет, не ломается… дала… тут парню из ПТУ» (и он рассказал, как тот пэтэушник расстелил свою шинель в огородике напротив или даже просто под забором и недалеко от калитки и т.д.). Я помолчал и подивился – чего уж тут хорошего? И сразу подумал, что пэтэушник мог просто ославить ее потому именно, что не «дала», а этот ласковый совсем уж скотина, раз пересказывает сомнительную историю первому встречному. Ну а я с тех давних пор никому и ни намеком, а здесь поведал лишь потому, что именно так я постигал людей, их «менталитет»: неспособность то есть размыслить, чем чреваты последствия этого «давания» девушке – полная неспособность встать на место женщины, – и такое встречалось до и потом неоднократно…
Такой ласковый парень походил этой ласковостью и интересом к чужим сексуальным тайнам на парня тоже двумя-тремя годами старше меня – Вовки, как тогда называли, Пилипчука, жили они выше по Двухгорбовым вниз через улицу налево от домика бабушки Антонины. Этот тоже был с сексуальной озабоченностью, но конкретно ни на кого не говорил, жаловался только при встречах на «молодежь», что помладше: «Перепортите всех девок» – я на эту тему помалкивал и недоумевал – откуда у него такие опасения, – он охотно и терпеливо слушал мои суждения о политике, истории, но всякий разговор сворачивал на половое, тогда я замолкал, да и о чем было говорить, девок-то в округе почти не было
…Но забегаю вперед – еще не выбрались мы из детства. Его почти нечем вспомнить, если б не пастьба коров три или четыре лета. Почти каждая семья в округе держала коров, благо вблизи была «зеленая зона», в общем сохраняющаяся и поднесь, разве что со стороны Кипарисовых улиц и к бухте Анны поужавшаяся под застройку сначала деревянными частными домами, а потом и многоэтажками. А в конце сороковых – самом начале 50-х там были огороды, между ними широкие межи – по ним-то я и пас сначала на веревочке корову, которую родители завели еще когда жили у бабушки, в 47-м году. Лето того года я пронянчился с недавно родившимся (в конце 46-го) братом Толей, сильно, естественна кричавшим у такого няньки – часто его оставляла мать, уходя помогать строившемуся поблизости – на 2-й Двухгорбовой – отцу запомнилось, что сильно хотелось побегать с мальчишками. А вот с весны 48-го я точно пас корову на веревочке – один или с мальчишками чаще, – но запомнилось именно один, туман весной, морось, тишина, корова жадно хватает только чуть подросшую траву, моя задача следить, чтобы не потоптала только взошедшую чужую картошку. Пацаны лет в 9 приучили уже курить, так что по пути мимо бараков на Кипарисовой подбирал окурки и докуривал самую пакость. Правда, курил немного и лет до 13, когда, обеспокоившись каким-то слабым уколом в груди, не бросил разом – до 20-ти, потом возобновил от скуки подготовки к сессии на заочном, но курил всего раз 5—7 в сутки и бросил в 40, летом 80 года, разом и навсегда…
Мать старалась, конечно, пускать корову пасти не одного, а с кем-нибудь из ровесников. Летом 47 года в леску выше бригады старшие мальчишки, у которых заводилой был Васька Богацкий, – чуть «в шутку» было не повесили меня – помню, отчаянно сопротивлялся, кричал, вырвался как-то – и вечером, очевидно, пожаловался отцу, понимая уже, наверное, уголовность того случая. Тот немедленно побежал к Богацким, взяв меня, ругался с ними, громко орал, двигая кадыком на худой жилистой шее – по этому казусу приходится поправить, что корову я пас уже в 47 году летом, так как в 48- м у нас была уже другая округа и Богацкие были уже не близко, где-то в километре рассояния – и коров гоняли уже компанией побольше, в 5—6 ровесников или около, на Малый Улисс – по пути еще присоединялись мальчишки с коровами, и набиралось стадо до десятка голов. Потом мы отсоединялись на пастьбу группами по 2—3 (большими группами коровы бегут одна перед другой, но мы этого не понимали); на обед собирались в леску между насыпью «железки» и бассейкой, приходили наши молодые мамы с подойниками, приносили нам поесть. Бассейка метров 150x100, на месте которой теперь завод жеезобетонных изделий, была сразу от берега довольно глубокая, приходило купаться много взрослых, немало в ней и утонуло – каждый год спьяну топли, а пили еще не так, как потом …Пацанва в жару из воды не вылезали, там меня в первое же лето, еще не было восьми, научили плавать, просто затащили в шутку на глубокую воду мальчишки постарше – и я поплыл по-собачьи. Чтобы не забыть – была еще одна бассейка в пади, что у бухты Диомид, между дорогой (Калининской) и (под) Поселковыми улицами – дамба была у завода №92. На месте той бассейки давно уже корпуса завода Радиоприбор, а в годы моего детства, там тоже купались, правда, она была помельче, заплывала наносами ручья уже, и в последние годы перед засыпкой, когда я был уже в старших классах, там было по колено, грязно и взрослые не купались
[На днях услышал на Свободе: тонут-де у нас пьяными в 300 (!) раз больше чем на Западе. Такое просто немыслимо – ну втрое, впятеро, ну в 10 раз больше. Не так уж сильно люди отличаются, ну, там лучше спасают. У нас больше всяких безлюдных вод, потому и хуже спасают, тонет больше, но не в 300 же раз! Любят оттуда по всякому поводу подчеркнуть наше якобы бескультурье… Но тонут: вот из 25—30 охотников, которых знал близко по Совгаванскому госпромхозу, утонуло около пяти (лет на 10 назад сведения последние, еще, наверное, утопли, но не знаю) – и все по пьяне, по лихачеству на моторках.
Когда эти бассейки к концу 50-х годов засыпали, тонуть в них пьяные перестали, зато население лишилось зимами превосходных катков: катались и млад и стар, и много приходило, и я в том числе…
В бассейку на Улиссе впадал ручеек со стороны Учебки (готовили младший комсостав флота), небольшой, но с чистой водой, под камнями водились небольшие рыбки типа вьюна, называемые почему-то семидырами – никаких дыр на них не было (они на порох снарядный походили). Рыбок этих, до 6 см длиной, узких и тонких мы вылавливали в консервную баночку просто так, потом выпускали – они, якобы, были ядовиты. Года через три в ключ прорвалась канализация из Учебки, рыбки исчезли, на ручей уже не тянуло и вода стала синяя, вонючая, но в бассейне все же купались сколько помню – основной его водосбор был с долины на восток от шоссе, справа, если в город, за хребтом, морское кладбище, тогда еще не переползшее на улиссовскую сторону. Возле той достославной бассейки мы крутились всего одно или два лета, казалось далеко до бухты или родители запрещали, но по мере взросления наши интересы перемещались на бухту Малый Улисс и дальше на Улисс Большой. Туда и дальше вела железнодорожная колея до угольбазы на мысе Назимова. Туда же вело и шоссе, линия и дорога от переезда идут близко, но немного, метров 200 не доходя до места, где кончается забор заводской почти впритык к линии, шоссе взбегает на крутой взлобок и отходит недалеко от линии, под которую с немалыми, видно, трудами еще до войны отвоевали у бухты в скалах место у довольно возвышенного, метров 15—20 обрыва. Сквозь трещины в скале в нескольких местах пробивались роднички, а на узком, метров в 30—40 увале до шоссе рос густой низкорослый дубняк, он же, разумеется, был и за дорогой, плавно поднимаясь на довольно высокий залесенный отрог, на верхушке которого «примерно в километре-полутора и расположено знаменитое морское кладбище. Теперь оно расползлось с верхушки во все стороны
В улиссовском лесу коров мы пасли года до 52-го, потом нанимали всей округой пастуха, голов 20—30 он пас, а мы уже просто гуляли по старым местам летом
Позднее, лет чуть не до 20-ти я там всегда находил грибов достаточно на жареху. В наши годы там не было никакого подроста внизу – все съедал скот, но прошелся как-то во второй половине 70-х – уже везде подрост, появился кустарник: коров у населения не стало]
С бухтами Улисса и особенно Малого у меня связаны самые светлые воспоминания отрочества. Правда, в лето 53-го, у нас отнюдь не холодное, там произошли драматические события из-за моего повышенного самолюбия, но о них впереди. Под обрывом на железнодорожной линии, имеющей южную – юго-западную экспозицию, всегда после полудня было тепло в заветрии из-за близости довольно высокого хребта на другой стороне бухты с юга, где мыс Назимова. …Навсегда осталось в памяти успокоительное: …я один, зной, но свежо от бухты, тихо Кузнечики только заливисто стрекочут в траве, обочь насыпи на ней редкий невысокий хвощ или, скорее плаун, от шпал пахнет смолистой пропиткой, воздух над нагретыми рельсами струится…
Между бухтами Малый и Большой Улисс был и, наверное, еще есть большой Т-образный пирс (только ножка у той Т короткая, а на вершине длиннее, или были они одинаковы. На этом самом навершии буквы «т» (без концевых загнутий) стояли большие боны для поднятия затонувших судов, наверное, еще древнего ЭПРОНА, славного в 30-е годы, но теперь я даже не расшифрую это сокращение: эта организация занималась подъемом затонувших судов прикреплением к ним наполненных водой этих огромных цилиндров, а затем воду выгоняли сжатым воздухом, – и обретшие плавучесть, подъемную силу боны поднимали судно на поверхность воды – это тогда, в начале 30-х, было одним из чудес техники, им развлекали в прессе внимание населения неимением других развлечений – прыжки еще с парашютной вышки, уже упомянутой… К навершию буквы «т» параллельному к берегу на значительной глубине, подходила от берега нога из бетонных плит, которые лежали на бетонных же блоках, в довольно больших, сантиметров в три-четыре, щелях которых водились ерши. Нижние блоки были пошире верхних сантиметров на 30—40 и слегка возвышались над водой, так что при волнении немного захлестывало; там можно было кое-как удержаться, согнувшись под плитами подъезда к пирсу. Там я ловил напригляд ершей. Занятно было видеть, как кубастенькие, сантиметров до 15-ти длиной темно-коричневые рыбки медленно и осторожно выходят из вертикальных щелей между бетонными блоками и хватают наживку на крючке, сделанном тут же из булавки и привязанном к какой-нибудь подручной нитке. Поймав штук несколько, варил в консервной банке вкусную уху – мясцо у ершиков было нежное, вкусное, белое…
[Невдалеке от Тэобразки, почти у воды бухты, лежали старые шпалы; из трёх, в, лет 11—13, плот сбивая, – до середины бухты Улисс Малый отплывая, – рыбачил: поймал как-то большого бычка в начале (у него довольно вкусное мясо) …и несколько потом камбал …На том пирсе безлюдном всегда: за многие посещения в детстве – и потом неоднократно, – буквально никого не встречал ни разу!
И впечатление незабываемое в лето 52-го, мне месяца два до 13-ти лет …В бухту скумбрии зашёл косяк гигантский! Еще до меня, случайно, по лесу гулявши, – на Тэобразном пирсе оказался; загнул крючок я из булавки, бечёвка там какая-то валялась, – разрезал на кусочки первую рыбку поймавшуюся – потом наживлять перестал: хватало – и крючок воды коснуться не успевал! …На насадку на кукан лишь время тратилось! …И надо же! Оборвался, к немалой моей досаде, под тяжестью 5-7-ми килграммов скумбрий пойманных, через полчаса кукан, весь улов расплылся! …Но рыбки изумрудные всё проносились мимо пирса слева вправо стремительно: еще через полчаса снова уже столько на уже надёжную бечёвку наловилось …не менее кг восьми! …До сих помнится ощущение тяжести в руках – и рябь в глазах от изумрудного сверканья …Был кто-то до меня там с утра, – оставил кто обрывки мне шпагата; не знаю кто-то …и, может, много меня старше …так что один наверняка… столь радостное вспоминаю…]
…Не доходя метров ста до той «тэобразки», был метрах в десяти от берега скособоченный слегка бетонный куб с гранью метра в полтора, с огромным вбетонированным кнехтом – массивным таким чугунным крюком в виде вытянутого вдоль берега и к берегу гриба, чтобы не выскочила петля троса при зачаливании судна. Со стороны моря от шляпки гриба было как бы отщипнуто полшляпки. К этому бетонному кубу от моря шла гряда камней, видимо, накиданных, чтобы пробраться к кубу, в отлив камни почти обнажались, но и в прилив было не выше колена, можно было добраться, засучив штаны – а разуваться первые годы пастьбы коров не приходилось: ходили всё лето босиком. Мористее куба было уже больше метра глубины с трех сторон и там, в густых водорослях водились чилимы. Сначала мы их ловили в продырявленные консервные банки, привязанные к бечевке (на дне банки закреплялся кусочек тухлой селедки, которую всегда можно было подобрать возле недалекой солдатской столовки, в которой мы и сами нередко доедали за солдатами супы и каши. Шевеля длинными усами зеленые чилимы (креветки) медленно выплывали из зарослей морской травы. С замиранием дыханья ждешь, пока чилим заберется в банку, затем медленно, чтобы не спугнуть его, тянешь баночку вверх из воды. Поймав с пяток-десяток чилимов, тут же варил их, причем из зеленых они превращались в красные, как раки – вкуснее лакомства и не сыскать. …Чтобы покончить с чилимами – как-то с братом Сашей уже глубокой осенью, чуть ли не в начале ноября, мы залезли в полузатопленную с юга от «тэобразки», между навершием и ножкой деревянную шхуну или баржу (были еще, доживали в таком состоянии век деревянных судов!). Там в полузатопленном носу внутри мы увидели множество чилимов, да покрупнее тех, что ловили с кнехта в баночку, а потом и в кружок из проволоки, обтянутый сеткой! Те были сантиметров в 8—10, а эти до двадцати, да потолще соответственно. Зачем они туда забрались перед зимой, вода там замерзнет ведь, – мы не задумывались, возможно, кто-то бросил туда какую-то тухлятину. Мы стали ловить их прямо руками, у меня пальцы скоро закоченели, да и весь зазяб, обезволил, – а братишка мой, почти на два года младше, проявил упорство, выловил почти всех чилимов, передавая их мне. Может быть, тогда меня расслабила погода, к переменам которой чувствителен, как себя помню -, а на брата погода не действовала, но ему-то было всего 12, а мне как-никак 14. Он и раньше, лет с 9-ти, проявлял упорство, я отметил это при растаскивании навоза весной на огород по довольно крутому склону с большой кучи, накапливающейся за зиму после коровы. Отец сделал специальные носилки, ручки которых с одной стороны были раза в три короче, чем с другой, – там брался я и шел сзади, внизу, а брат впереди, компенсируя тогда значительную разницу в росте. Огород-то был длинный и на порядочном склоне. Ручонки у брата тонкие, носилки тяжелые, я, помню, разморюсь в апреле, когда пригревает, да еще на погоду, а брат хоть бы хны, и меня понукает, первым берется за носилки. Навоз соломистый мы разносили кучками равномерно по всему огороду, а потом закапывали – и тут уж я, бывало, удивлял в 14 лет отца: за год я как-то не только вытянулся, но и окреп, что пригодилось мне в последующих баталиях лета 53-го и, главное, позволило мне выделиться на кладке копен в колхозе через год, – что в немалой степени способствовало моему, без преувеличения, судьбоносному выдвижению осенью того же, 54-го года, секретарём комитета школьного комсомола. Об этом в свое время, а прежде чем приступить к первому, покончим с коровами, которых в 53-м пас уже пастух. С коровой было много возни и помимо пастьбы, воду ей, да еще свинье (семейке!) носить было на мне, выгребание навоза, упомянутое уже растаскивание его по огороду. Навозу соломистого после зимы целая гора, нелегко раздирать его вилами, тащить наверх… Да еще на мне стало последние хозяйства годы таскать от Фрунзе корм для коровы, свиньи и кур
Летом года 52-го светлым завершилось позднее детство и отрочество раннее …Лето 53-го началось нелепостью: отсмотрев в клубе бригады подлодок на Улиссе фильм о партизанах, в отряд которых затесался провокатор, – наутро мы, до 4-5-ти ровесников, – на желдорнасыпи собрались, где кончается завод 602 – и метров триста до Тэобразного пирса, – и стал я дурачиться, того провокатора мимикой изображая …И вот узнал, что похож лицом на того симпатичного гитлеровского агента, – и, главное, – какую у ровесников вызываю зависть: не запомнил кто крикнул из них: «Провокатор!»; на первый раз не стал паршивца бить …не сохранив, однако, невозмутимости, – да и вряд ль помогло бы: учуяла слабость стая завистников: на другое же утро начала меня травить, из неё выделившегося. Это было сродни древней инициации, проверке на прочность – прошел, значит, чтобы вожак, как и произошло в масштабе уже школы и даже в чем-то и района
Мы пасли тогда последнее лето своих коров, потом был пастух уже. До этого серьёзных ссор не было, хотя меня стали рано дразнить – сначала «головастиком» из-за большой круглой головы, «корейцем» из-за прищура, потом голова стала нормальной, вытянулась, подрос под неё и не щурился больше. Дразнили и матерным словом, созвучным с фамилией, но я «проглатывал», что ж тут поделаешь, и не прицеплялось. А тут прицепилось. А я был тогда страшным патриотом, 53-й ведь год шел, я поступал, но не был принят в комсомол после смерти Сталина в начале марта. «Толпа» почуяла слабину и стала донимать, поддразнивать – когда трое их или даже пятеро – поодиночке или даже вдвоем-втроём остерегались. Самому первому я пустил юшку Гришке Рыбалко, он самый вредный был [и умер рано, в 40] Затем Юрку Тимофеева, с которым раньше дружил (оба были начцехами в Диомидовском заводе), сбил одним ударом в воду на бухте Улисс, и тоже окровенил. «Толпа» пугалась моей внезапной ярости и не пыталась даже ответить. А я и сам не знал, что в следующий момент взъярюсь, но бил прицельно и резко, – и всегда сразу, одним ударом кулака сбивал с ног. До этого никогда – и даже не думал, что могу …к концу лета отведал моего кулака и Кисилёнок, они жили рядом, но не близко, через два огорода. Тот угодил вниз головой в глубокий кювет дороги на большой Улисс, где она на взблоке поворачивает чуть дальше того места на железке, где завод кончался и мне вдруг взбрело передразнивать злополучного того провокатора из фильма. На тот раз их было много, не меньше пяти-шести. Они окружили меня, держась на расстоянии, и мы поднялись метров на 200 по склону вверх, да, Кисилёнок сразу же выхватил ножик, как выбрался из кювета, они взялись за камни, палки, я тоже ухватил хороший каменюк. Так и сидели мы с полчаса вооруженные, я в центре, а они метрах в 10-ти каждый пока нервы у меня не выдержали, и я с рыданием «прорвал блокаду». Никто меня не преследовал, но поскольку Кисилёнок был блатной [его старший брат Кисель (от фамилии Киселев) сидел и сгинул в тюрьме потом, и многие мои ровесники на трёх улицах Двухгорбовых], – меня стала «ловить» шпана не только с Двухгорбовой, но и Окатовой и даже с Улисса. Хорошо, что нашелся у меня товарищ – Генка Писанко, которого дразнили «жирой», он был приземист и силён, единственный сынок у мамы с папой. Простые его родители надеялись на его способности к рисованию, только у него на всех Двухгорбовых был велик, и ещё кое-что, потому шпана тоже его недолюбливала как кое-что имущего. Он в то лето огрел велосипедной цепью Маркона, верзилу года на три старше, но тоже обозвавшего его «жирой». Ровесников он вроде бы цепью не угощал, а Маркона не стерпел, его стали тоже ловить, так и ходили мы вдвоём, он с цепью в кармане, я же надеялся на камень, которых на Чуркине везде полно, не таскал с собой оружия никакого. Так и звали нас Донкихотом и Санчопансой, однако побаивались. Злобы особой не было, но ловили, раза два или три меня предупредил братишка Саша, который со шпаной ладил, он гулёна был, хотя учился хорошо – всё давалось ему слёту в младших классах, словом, он понятен был, я уже переставал и улица это ощущала. Так и ходили мы, и к поздней осени перестали и ловить, но вздумалось мне в начале ноября пойти одному, Генки почему-то не было, в Бригаду [подводных лодок], где после ужина бывало кино для матросов, на которое ходила вся округа, дети и взрослые. На последних я и надеялся, но их никого, поздняя была осень, а шпана стояла в тени на углу клуба тесной толпой, грелись друг от друга в ожидании конца матросского ужина. Я расхаживал от крыльца с высокими колоннами в древнегреческом стиле туда – назад, не доходя метров пяти до шпаны. Сначала она была ошеломлена моей наглостью, затем слышу тихо-тихо: «провокатор». Раза два пропустил, [не зная, кто вякнул] расхаживая и закипая – и надо же было вякнуть Карасенку, ровеснику, пацану совершенно безобидному, но именно на него «спустилась» моя ярость: я раздвинул толпу числом 15—20, стоявшую плотной кучкой, бедно все одетые (я получше), взял одной рукой Карасенка за грудки, подтянул к себе, и другой «вварил» так, что сразу он на моей руке наземь осел. Я – из толпы, оглядываюсь – его подняли, зажгли спичку: громадный наливается синяк под сразу оплывшим глазом. Я – быстрее от толпы, она медленно сначала за мной, я еще быстрее – полетели вслед камни, палки. Я бежать, они за мной, но скоро отстали… Перелезши через сеть противолодочного загряждения, я сел на землю, подождал Ваньку: – Чего бежишь? Еще хочешь? —
– У тебя пятак есть накрыть синяк …а то отец бить будет…
Нашёлся пятак, столько пирожок с повидлом стоил, -, разжалобился я, и очень расстроенный пришел домой и встревоженный, [Тогда ведь было строго, чуть что – и посадили даже и в 14 лет, лишь бы придраться было к чему, – гулаг ведь рабского труда ещё во-всю алкал, – всего-то 7 месяцев, как умер Сталин]…
Следующим летом брат Карасика, большой Карась на побывке из армии встретившись на подъёме с Улисса, спросил: «Ты Ваньку бил?», и не дожидаясь ответа символически смазал меня чуть-чуть двумя пальцами по щеке: отомстил за брата… [Вовка Пилипчук, парень годами двумя-тремя постарше стоял в стороне, да и слишком быстро большой Карась ушел дальше вниз]…
С той поры никого не бил, и лишь однажды, в 9-м классе уже, как-то боксировал в честь покупки боксерского снаряжения с одним амбалом из класса младше, но явно тяжелее и сильнее меня, и заметил, что он закрывает глаза. Я задел его перчаткой слегка, он отлетел всей тушей на гимнастическую стенку, аж задрожала, я ещё – он снова спиной на стенку, а потом разозлился, размахался ручищами и меня тоже задел слегка, голова загудела – выйдя вниз из школы обнаружили, что он забыл сумку с учебниками, я шапку, или наоборот.
В 10 классе у нас объявился чемпион края среди юниоров Каплан, первый год в школе, перворазрядник по боксу. Занимался их 10-й класс в актовом зале, на сцене они устраивали турниры, две пары боксёрских перчаток так там и висели. Каплан всё уговаривал меня побоксировать с ним, я отнекивался, но тогда и долго ещё потом уговорить меня было не трудно – согласился. И вот Каплан прыгает вокруг меня, я в глухой защите, руки то есть прижаты в перчатках к подбородку, голова лбом вперед. А сам он приоткрылся, и я слегка зацепил его в подбородок, сам не помню как [сработала, видно реакция, которая не подводила меня и потом все 11 лет в тайге, когда работал штатным охотником, да и до охоты походов было не мало. Привычка похваляться не оставляет до старости], а тогда, свалив чемпиона, оторопел: вдруг вскочит и выдаст мне по первое число! Но лежал он все положенные до нокаута секунды, я тем временем ретировался, выходя из зала оглянулся (чемпиона поднимают с пола вялого очень). Тогда я всерьёз задумался о том, что легко и убить человека кулаком, грохнется на камень головой и всё – и ты пропал [тогда не разбирались что к чему: лагеря алкали непрерывного пополнения. Это я понимал уже и в 53-м, а в 56-м тем более: не о лагерях, – почему были они, конечно, а что очень легко сажали. Но вернёмся к тогдашнему дневнику]
Надо сказать только, что меня не бил, кроме пощечин от отца, никто, тем более не сбивал с ног Только однажды получил увесистый удар по затылку.
В конце декабря 53 года, перед самым новым годом, вдруг кто-то выключил сразу после окончания последнего урока свет, я несколько помедлил за партой и получил тяжелый удар сидя по затылку, свет включили и я увидел как Тарас, мой вроде бы приятель, тоже слегка стукнул по плечу на пути выхода со своей «Камчатки». Кто бил, сразу объявил Кочетков, недавно прибывший некрупный паренёк, преуспевавший по алгебре, сын капитана 1 ранга, смелость, видимо досталась ему от отца: он был вдвое меньше Максима. А подговорил Левченко. Ну, что от него этот удар, нетрудно было догадаться – Павлик Левченко великовозрастный, четырьмя годами старше меня, он в шестом твёрдым хорошистом был и притом «аккуратистом», как классная на родительском собрании сказала, а отец мне, – а тут в седьмом я вдруг всплываю на первое место. Он хорошего роста был, соразмерный и даже бы красивый, с румянцем на щеках, слегка рыжеватый, – а поведение бабье было, любил шушукаться, сплетничать, особенно со своей ровесницей Кравченко, интриган от природы был. Он и подговорил – и наверняка подкупил! -туповатого, но шкапистого Максима «отметелить» меня, приложить свою тяжкую длань к моему затылку; аж у меня «искры посыпались» из глаз, хорошо, что моментальная реакция, не весь удар голова моя приняла, подалась книзу. А Тарас за ним лишь слегка меня по плечу, его я уже видел сбоку.
На следующее утро у входа в школу подскочил при толпе к Павлику, изобразил ярость, замахнулся – он побледнел со страху, отшатнулся. Он трусоватая такая цаца был; конечно, он и с двумя такими подростками, как я тогда, справился бы, не будь бабистым таким.
Так я познал сразу и интриганство и предательство: это необходимые к дневнику добавления, чтобы можно было представить, какой же отдушиной стал для меня колхоз летом 1954-го. Но вернёмся к дневнику]
Несмотря на все эти баталии, в которых я ощутил тяжесть своей длани, сердце у меня было мягкое, обиды прощал быстро и подлости всякие, и был влюбчив, правда слегка, так себе, то одна нравилась, то другая. Не на ком было остановиться.
Несмотря на малость лет, я уже думал по-взрослому и жаждал знаний и свободы. Вместе с тем твёрдости не было, силы воли, излишняя стыдливость мешала и наивность ещё. В 6-м классе я начал преображаться. Преодоление заикания потребовало воли, надо было подавить волнение при выступлении перед классом, конечно, для этого надо было твёрдо знать о чём говоришь. Во-вторых, стал усиленно читать политические, экономические брошюрки и уже во 2-й половине уч. года делал доклады о международном положении. В 3-х, уже к декабрю 52-го вдруг стал понимать геометрию и без труда решать задачки по ней, правда, алгебра ещё затрудняла, а по геометрии просто видел решение. К концу года стал гораздо лучше говорить [Надо сказать, мне очень помогла наша классная, по русскому и литературе. Такой внимательной учительницы до того не было. Да и потом не встретил: она похожа была на «Кружевницу» Кипренского, яркий очень румянец, круглое лицо и полноватая ладная фигурка, весьма, как теперь говорят, сексапильная, а попросту она восполнила пробел женственности в моём детстве: сестёр не было, на улице почти все пацаны – восполнялась убыль мужского пола в недавней войне. Но доброты её хватало на многих, я в ней тогда нуждался и она уделила, – а я тогда, в 56 году не записал даже её имя-отчество-фамилию, считая, что не забуду никогда! Забыл. События колхоза, секретарства и конфликта с учителями в 10 классе, фамилии предыдущих учительниц зачеркнули, но не их образы. Математичка тоже была красивая, но в другом роде – высокая, стройная, ноги вместе как-то особенно, сдержанная, цвет лица ровный, золотистый слегка, кожа матовая. На контрольных она подходила и заглядывала в тетради тех, от кого ожидала решения. Ко мне чаще всего. Как-то подошла, стала рядом и заглядывает, наклоняясь через плечо, а я ещё не решил по алгебре, у меня от страха и видимо от пробуждавшегося пола случилась вдруг поллюция – вот тогда то и приналёг на математику и геометрия стала ясна] и выделился из ученической среды, и в других классах – и даже в 8-х почему-то стал известен [видимо, учителя говорили; и в 7-м меня поначалу преследовали тройки и даже двойки случались по причине врождённой неуслужливости, и это была удача, что по русскому-математике оказались хорошие учительницы, обе, кстати, «овчарки», жены то есть офицеров, года 2 всего были, видимо мужей перевели куда-то] Это подогревало моё самолюбие.
Сразу после смерти Сталина я в числе многих шестиклассников поступал в комсомол, не приняли меня одного, хотя все вступавшие у меня спрашивали по политике, где кто премьер, в какой стране и где эта страна. Но меня спросили на бюро после того, как чётко ответил на все вопросы, в каком месяце родился – не хватало до 14-ти почти полгода! Не приняли, это сильно расстроило меня, но утвердили уже в августе заочно, но не знал до января 54-го. А всё лез на собрания комс-группы класса, где верховодили Левченко и Кравченко, на 4 года меня старше.
Они в оккупации были, не учились, тогда много таких понаехало. У Кравченко, настоящей уже тёти, любившей посплетничать с Левченко на пару, было бельмо на одном глазу. И вдруг я узнал в январе, что комсомолец! Скольких с Павликом Левченко б неприятностей избежал, если узнал сразу. И дома гнёт к тому времени, к началу 54-го, ослаб с успехами в учёбе – отцу лишь бы троек не было, раньше бы ему отстать от меня и не мешать. За зиму с 53 на 54 я как-то быстро подрос, стал лишь на полголовы его ниже, а он выше среднего, а по силе, пожалуй, сравнялся, хотя он далеко не слаб был. Мешки с соей таскал запросто по 30 кг в крутую гору для скота и птицы, как ранее он. [От магазина на «Чайке»] А с 5-го по 6-й он меня донимал, угнетал, заикание, возможно, было как раз от того
Он младшим был братом в большой семье крестьянской под Благовещенском, в которой рано, в 1915 году умер отец, старший брат Степан был лет чуть не на 20 его старше, грамоте в армии научился. А отец родился уже в 1914-м, и между ним и Степаном – ещё три сестры. У них у всех как раз дети институтов понаоканчивали, Степанов один сын лётчиком был, другой, белобрысый Федя, даже инженером-атомщиком в Челябинске, и у старших сестер отца дети хорошо учились, способные были, в начальство повыходили – они все постарше меня и я, тревожился отец, как бы балбесом не оказался, как он заранее обзывал меня в младших классах при получении троек (а уж за двойки… Я прятал дневник в карьере перед оврагом, боялся, как бы не убил)…
Почти каждой учительнице с первого класса казался почему-то очень самоуверенным, хотя никакой ни шалун я был, не вертелся, молчун как раз – они сами прицеплялись и мне говорили, и родителям жаловались на мою «самоуверенность», хотя откуда в первом классе? Маска просто была защитная. И хотя я ещё год назад, в Кропоткине, [шести лет] читал бегло даже газеты [и расплакался, прочитав о Владивостоке …чего сам не помню: запомнилось взрослым], – они мне в начале года во всех начальных классах тройки ставили почти по всем предметам, потом разбирались – и к концу года уже – одни четвёрки и пятёрки и похвальный лист, и книжка. …Брат же младший, почти на два года, но шел в школе следующим за мной классом, напротив, сразу очаровал учительницу, сразу у него одни пятёрки, и хотя шалун и вертится на уроках, – ему одни похвалы, потом отец его успехами меня «балбеса» тыкал. Правда, эта учительница братнина хорошая оказалась, очень даже, повезло ему, и вела его по четвёртый класс, а у меня в первом классе сменилось их с десяток. 1948 год, как видно даже из этого, гораздо полегче был 1947-го…
Отец семилетку ещё в 30-е годы окончил, тогда это в редкость было под Благовещенском, образованным себя считал, в армии лейтенантом, маленьким, но начальником – начхимом полка во внутренних войсках. И хотя высмеивал «службистов», от них многого набрался. [Почти начисто лишен был рефлексии, «чисто всё конкретно». Но честный. В Рыбпорту уже и тогда тащили солёную рыбу в основном, да и не по одной. И помнят отца там до сих пор, хотя 22 года после смерти, с выхода на пенсию аж 32. Младший брат у меня и племянник от другого брата там работают, недавно подтвердили, помнят в Рыбпорту отца. И на похоронах в 1982-м, полутора неделями раньше похорон Брежнева, один из руководства порта очень взволнованно, проникновенно об отце говорил. Конечно, нетерпимость к глупости и нерадению у меня и от отца, от кого же ещё, а рефлексивность не знаю от кого – не от матери, она тоже сугубо конкретная, работящая – от отца её, Давида Дьяченко вряд ли или может, от кого-то из рода Шульга. Оттуда и ген блондиноидности – младший брат и один из сыновей моих чистые блондины.
Отец, конечно, много неприятностей по работе нёс, как старший стивидор, вот дома и вымещал на мне, как на первом. Ещё, может быть, он дочки хотел, а тут все пацаны, аж четверо. Но на младенцах не выместишь; да я ещё не услужлив, непреклонен был по натуре. Хватали горечи мы друг от друга когда я мал был – и [лет до моих 26-ти вплоть …когда меня, ветерана-сержанта, служившего два года на капитанской должности, – в 65-м году кандидат юрнаук Елисейкин и Овчинников, доктор оных, – лишили стипендии повышенной мракобесно при поступлении из армии в ДВГУ: об этом книга: «Благодарность Родины»]
Словом, светлым у меня ко времени колхоза в 54-м в отношениях с людьми была только материнская доброта учительницы русского, но тогда я об этом не задумывался и даже не записал её имени. Ну, природа была, рыбалки – и книги, фантастика, приключения – «Как закалялась сталь» прочитал рано и запомнил – классе втором, как лежал с неделю у сестёр Шульга из-за кори, там и вкусил впервые уединения, и хороши были обе сестрички около за 20-ти лет, высокогрудые, ладненькие, запомнилось даже с тех нежных лет]
Судьбоносным воистину мне 1954-й год явился; недели две бродил один я на каникулах, на школьный двор забрёл по случайности чистой …а там с полсотни старшеклассников назавтра собираются в колхоз (нам, бывшим 7-миклассникам повестки не присылали); я, младше всех, приписался гамузом
…Раньше мне никогда не приходилось бывать в таком коллективе. Главное, там девочки хорошие были, среди них две оказались красивые, даже три …но Ольгу я сначала не заметил, больно мала тогда была, скромна, как мышка …но именно в неё потом влюбился
…Среди же девочек некрасивых очень хорошие были, особенно Надя Павлятенко, красотой не отличалась, но очень у костра голосистая как и из 9-а, кроме Ольги, остальные… После ужина мы шли к костру, не все, а кто любит попеть или послушать. «Горят костры далекие…», «Вот кто-то с горочки спустился…», «Цветёт, цветёт пшеница полевая…», ну и «Степь, а степь кругом…» и другие, много хороших песен знали девочки [которые и посейчас греют душу, а то всё нытьё, хрип и визг поросячий], я любил слушать, хотя сам не пел, медведь мне, как тогда казалось, на`уши наступил [а не совсем оттоптал слух, способность вывести голосом мелодию выявилась совсем недавно] …Мы ужинали в школе, потом шли к костру в сумерки, Ольга Макарова сама брала меня под руку в этих стометровых переходах, раза 3—5, и даже поначалу позволяла моей голове полежать у неё на коленях, даже сама, кажется, первая положила. Но я был тогда такой телок [да и долго потом], что не придавал этому никакого значения, а потом увлёкся трудовыми подвигами и уставал. [И только когда стал перечитывать дневники уже в 80-х, резануло вдруг 40 лет спустя …Макарова и походила на артистку-однофамилицу, только у неё было лицо и женственнее, мягче и – поскромнее она по натуре была, тише той артистки, ну и 17 её лет Блондиночка была даже с веснушками слегка, кажется; не такого мил-друга ей бы тогда, как я, еще телок, – хотя ростом рано вымахал, были в группе и постарше меня парни года на два, и озабоченность уже у них была, как подмечено потом в дневнике, но фона нынешней помешанности на половом не было – неужто не ответят развратители, губители молодых душ! – не тонули утончённые души в животности омуте …а животные всегда ведь в нём
Критически важной для роста моего миропонимания школьная была зима 53—54 гг. Для лучшего представления происшедших со мной сдвигов следует отступить на несколько лет назад, до 51
Младшие классы, как уже говорил, были для меня темным временем, мало что и запомнилось. Ни в октябрятскую, ни в пионерскую иерархию меня не выдвигали, вся моя жизнь сосредотачивалась внутри, в мечтаниях, – под влиянием, конечно, прочитанных книг. Мне импонировали описания уединенности, когда, допустим, партизаны оставляли мальчика одного в избушке, и он развлекался видом сучка в свежеструганных досках потолка, меня такие подробности умиляли. Или устройство земляной печурки на первых страницах «Подпаска» Петра Замойского (вот запомнил даже имя!). Еще больше меня впечатлили описания холодной прозрачной струящейся воды ручья, в котором начали вылупляться мальки кеты в «Тайне маленькой речки» Трофима Борисова – приморского писателя 30-х годов (вот бы переиздать большим тиражом!). Позднее сильнейшее впечатление оказал на меня роман его же «Сын орла» – о борьбе нанайцев с хунхузами китайскими, песню Плеуна из романа я распевал в упоении («…Пиля-Кхерха (Сихотэ-Алиня) горы там…» – как будто в предвкушении того, что и мне в тех горах уже придется походить и пожить) … Зачитывался я и описанием путешествий В. К. Арсеньева в начале века по Приморью, тогда лежали еще в книжных магазинах небольшие томики его собрания сочинений в темнозеленой картонной обложке, выпущенные в 1948—49 годах (давно не видел те томики, дорогую память о детстве, издать бы их надо именно в таком же виде! Не залежатся). Но наибольшее влияние на меня оказал, конечно, «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо. Это, по-моему, самая великая книга для детей, подлинно образующая и даже психотерапевтическая. Из книг Жюля Верна, долго восхищали меня увлекательные описания свободной коллективной жизни с «нуля» закинутых воздушным шаром на необитаемый «таинственный» остров участников гражданской войны в США, – но в своих разнузданных мечтаниях я представлял себя одним, по «Робинзону», в наших, конечно, условиях, то есть комбинированно с «Тайной маленькой речки». Живу в землянке на берегу маленькой реки, строю ее воображемо, ловлю осенью кету, солю, делаю туески из березовой коры, заполняю их икрой, собираю картошку по огородам, хозяевами не докопанную, как мы и практиковали осенями, пекли ее в золе от той же картофельной ботвы (до 10% картофеля остается недокопанным). Интересно, что и женщины, репрессированные из-за мужей в 30-х, по O. Л. Адамовой-Слиозберг тоже «мечтали о том, как они отбудут свой срок, встретят мужей и в хижине, в лесу будут жить вдали от людей»…
Мне тогда не надобилось еще присутствие другого пола, интерес к нему появился впервые как раз во время драматического возвращения домой после провала попытки осуществления первой своей робинзонады в 51-м году (потом была еще вторая успешная – 1971-82-м, и вот третья, – здесь уже с 1984-го осени, 20 лет будет осенью, – и это уже последняя)…
Все произошло случайно. Мы «бесились» на большой перемене, это было в начале апреля 1950-го года. Я толкнул кого-то на лестничной площадке, он отлетел на стенку, где висела школьная стенгазета, и разорвал ее, к моему неописуемому ужасу, за столь тяжкий поступок мне мерещились самые тяжкие кары, когда дойдет до отца. Тогда-то я и решил осуществить свою мечту: убежать в тайгу, вырыть землянку. Ушел сразу после инцидента на лестничной площадке, прогулял где-то пару часов, мать послала меня за хлебом и дала сравнительно крупную для меня купюру в 25 рублей (описано 4 года назад, и достоинство купюры исчезло из памяти, как будто держалось до той поры, пока не поверил бумаге! Надо спешить и с последующими воспоминаниями). Переехал на катере на Мальцевскую, – пройдя по базару, увидел небольшой ножичек в чехле на прилавке базарчика и принял окончательное решение! Купил тот ножик, полбулки хлеба, проехал трамваем до вокзала, взял билет до Надеждинской – дальше пригородный поезд не ходил. В Надеждинской сошел и двинулся по шпалам дальше. Денек был пасмурный, холодный, какие выдаются в начале апреля (в такой же бродил с другом Валентином по свалкам 20 лет спустя, собираясь переселяться в Совгавань). Дул навстречу мне пронизывающий северняк, шел я по шпалам, не думая ни о чем, вожделенного в мечтаниях леса поблизости не было, а когда показался и темнел в отдалении за кочковатым болотом, то уже не манил: у меня не было лопаты вырыть землянку, не было топора, никакой посуды (все же, смутно помнится, купил еще и котелок), никаких припасов. Довольно быстро тогда я постиг разницу между мечтаниями и реальностью, и мало-помалу росло отчаянье. Решил идти пока в Раздольное, где жила тетя Надя, сестра отца и где я неоднократно бывал, и от этих побывок сохранились хорошие воспоминания – из самых лучших от детства. Года за два до моего злополучного бегства из дому отец косил сено на островах Суйфуна, жили в большом шалаше – балагане, я ходил по кромке воды, собирал ракушки и камушки. На берегу стоял еще старый балаган, к его крыше прислонялись несколько удочек разной длины, одна так метров 6. По вечерам у костра собиралось несколько косарей, пили вкусный чай, заваренный местными травами (вкус того давнего чая запомнился на всю жизнь), пели песни потом, среди косарей было две-три молодые женщины. Жили в шалаше дней 5—7, для меня то было самое сильное воспоминание раннего детства, – но у отца – узнал от матери прошлым летом – подобных воспоминаний не осталось: накошенное тогда сено конфисковали – совхоз не выполнил план по сену – сразу за мостом через Суйфун на трассе. Я до прошлого года этого не знал. С тех пор отец уж сам сено не косил, а несравненно худшее покупал
Вскоре за Надеждинcкой мне пришлось обогнуть невысоким, но крутым подъемом, заросшим невысоким дубняком, железнодорожный туннель, за которым линия несколько километров шла в том же дубняке, затем показалась речная протока, довольно широкая, свежий северо-западный (я смотрю по карте расположение той протоки) ветер гнал по ней частую рябь, набегавшую на отлогий болотистый, в кочкарнике, берег. В отсутствие солнца пейзаж был безрадостный, мало-помалу, но довольно быстро я убеждался в неосуществимости своих намерений, однако мне не оставалось ничего, как топать дальше по шпалам. Сейчас бы было весьма муторно, но тогда, в 10 с половиной лет, расстояние между шпалами как раз равнялось моему шагу… Еще к одной, взъерошенной ветром протоке подошел, спустившись с насыпи и преодолев кочкарником метров с полсотни. Что-то в этих частых набегающих волнах было созвучно моему настроению – я все же, несмотря на удрученность и как бы нереальность своего состояния все же безлюдьем упивался – несмотря на почти отчаянье. Я понял, что мал еще, никак не подготовлен к уединенной жизни, что мне следует покориться обстоятельствам, вернуться домой, как это ни ненавистно. Как бы ни не хотелось! …К закату подходил к Кипарисово, два солидных кирпичных здания станции первоначальной дореволюционной постройки как стояли, так и стоят теперь, но больше ничего не было, халупки какие-то не запомнились. Перед станцией в опасной близости от путей бегала стайка обшарпанной, одетой в рвань – бросилось тогда в глаза и до сих пор стоит! – ребятни, сильно бедностью от даже Чуркинской отличной Дети кричали, бегали друг за другом, играя в простейшую игру «пятнашки», на меня проходящего никто не обратил даже внимания, и я потопал в сумерках в наступившей вскоре густой тьме в недалекое уже Раздольное – до него от Кипарисово 6 км, но оно, известно, весьма длинное, от южного края до северного, где станция, еще 6—7 км. Пришел к 22-м, к тете зайти не было и помысла, понимал, что только встревожу ее, в столь необычное время заявившись Есть тоже не хотелось (возможно, съел те полбулки, что купил в городе). В тот день я отмахал более 30-ти км по шпалам, то был мой первый большой переход. Я понимал, что родители без ума и не стоит свои провинности усугублять
Сел в последний пригородный поезд, тогда еще на паровозной тяге, обычные жесткие вагоны. В одном купе со мной была пышная молодая ослепительная блондинка, такой красоты женщин не встречал до тех пор на Чуркине, а в городе бывал редко. Видно, была отобрана для какой-то конторы, а скорее всего жена офицера. Именно к ней, на пике своей удрученности, почти отчаяния ощутил тогда первое чувство…
Случившаяся со мной передряга ему наверняка способствовала, потому и пришло тогда первое половое чувство, что помогло мне одолеть отчаянье: жизнь сулит впереди много еще хорошего, раз есть красавицы такие…
Словом, редкой тогда красоты блондинка очень для меня счастливо под конец тот мрачный денек осветила…
…Едва успел на последний катер через бухту; взошедшая только к полуночи луна освещала кладку водоотводного коллектора, выложенного из притесанного гранита. Об эту каменную невысокую стенку, что тянулась, если от катера, вправо впритык к шоссе – хотелось разбить голову – так не хотелось домой идти …Постучался не в дверь, а в окошко, обойдя дом, в спальне родителей. Отец открыл форточку и тихим голосом, почти шепотом спросил: «Юра, ты один?» Отец боялся, как бы за мной не было грабителей, проникавших в дома через детей. Ничего, естественно, даже ругани, мне не было – отец был рад, что хоть за полночь, но я вернулся домой. Ничего мне не было и в школе за ту порванную стенгазету…
* * * * *
Переход в 5 классе на многопредметность («многоучительность») дался мне болезненно: надо было приспосабливаться к 5-6-ти преподавателям вместо одного. Нечего говорить, что каждый предметник старался заявить о себе строгостями, чтобы получше вели себя на его уроках. Появились у меня и двойки в дневнике, без которых все же обходилось в начальных классах даже в начале учебного года (к концу – одни 4-ки и 5-ки). Первые двойки вызывали у меня панический страх: как же взыщет на них отец, если не давал житься за «тройки»? месяца два в начале пятого класса прошли под этим страхом, «терял» дневник с «двойками» в карьерчике выше шоссе, перед оврагом, на нижнем со школы пути
Мрачное было время – полтора года оставалось жить Сталину, в полной силе был еще репрессивный дух 30-х и всей послереволюционной эпохи; недавняя война оказывала свое особое гнетущее последствие, как бедностью и разрухой, так еще больше «остаточной подлостью» уцелевших, – и испытавшим об этом трудно судить, а не испытавшим вряд ли возможно. Авторитарность, репрессивность времени усугублялись в школе и семье моей врожденной неспособностью «подчиняться» – на улице больше сказывалась моя открытость и наивность, мешавшие приспосабливаться. Из этих трех сред самым тягостным было угнетение в семье – через школу, где тоже поначалу (учебного года) сказывалась моя слабая приспособляемость, но потом проявлялись все же способности и знания в сравнении с другими. В семье же, как упоминал, сравнение было не в мою пользу: брат был с первого класса круглым отличником и отец, конечно, неоднократно мне этим пенял. Но никакой зависти или каких-либо недобрых чувств к брату у меня не возникало, так как я даже с первого класса меру своих способностей ощущал, -даже и в сравнении со взрослыми. Как уже упоминал, фатальное значение имел фактор не генетический, а средовой; именно что отец, будучи младшим сыном в семье, причем с большим отрывом от старшего брата – 18 лет! – совсем не испытал в детстве отцовского гнета, да и братского – он, конечно, был на попечении старших сестер. И представить ему мои печали в детстве было трудненько уже по причине слабой способности к рефлексии, отвлечения, воображения
Имело и то значение, что мать была 7-8-ю годами моложе, -отец, конечно, её подавлял – и от него она невольно переняла и манеру обращения неласковую, по крайней мере со мной, прибегая нередко даже к матерной брани, что переняла от отца или даже еще раньше. А меня мат травмировал с самых ранних лет, и до сих пор, правда, теперь я допускаю его в необходимых случаях для пущей экспрессии, но всю жизнь ни-ни!.. До внезапного овладения, на 66-ой уже зиме!, – рифмой: здесь уж главенствует наивысшая экспрессивность… В конце концов, я мать от мата к старости (ее) уже здесь отучил, по три дня с нею не разговаривая, где-то уже упомянул об этом в своих растянувшихся на много лет воспоминаниях – где-то с конца 80-х вспоминаю те или иные эпизоды, но разбросано в дневниках, из них трудно извлечь, приходится повторяться, но каждый раз другими словами, в другой связи, с другими оттенками …и в лучшем качестве…
…И все же мать старалась защитить меня – она-то в полной мере испытала угнетение в семье мачехи и могла мне сочувствовать – от неистовств отца, сочетавшего по части воспитания детей предрассудки патриархальщины с самоуверенностью некоторого выдвиженца из селянств. Сюда, к упомянутой неспособности к сочувствию, – добавлялась мнительность и опасливость – тогда нередко за детей провинности привлекали к суду родителей. …Отец даже как-то попытался применить на практике завет старшего из упомянутых Сидоренок: «пори пока можно уложить поперек скамейки». Или, может быть, он вычитал у Горького описание субботней экзекуции над ним и прочими детьми его дедом Пешковым. Но я уже был лет 10-ти и мигом понял что к чему, да и они с матерью, видимо, смутно ощущали неуместность подобной экзекуции из-за моего возраста, – вырвался с криком и убежал, а братишка, двумя почти годами моложе, подвергся, о чем долго позднее с обидой вспоминал… Тот случай с попыткой экзекуции говорит о самом дремучем невежестве среды, из которой отец происходил, и хотя вскоре, через три всего года я смог воспрянуть методами отчасти тоже репрессивными, – все это годам уже к 20-21-му внушило мне отвращение от людей вообще, особенно от семейной жизни в последующем и стало неодолимым препятствием – по знаниям и способностям – моего адекватного участия в делах общества. Конечно, валить все на среду нельзя, в той дичайшей попытке экзекуции со снятием штанов многое объяснимо робостью, даже трусостью отца от природы, что сочетаемо со «взрывами» смелости, а так же – осмелюсь предположить – его ограниченной сексуальностью, которой он вот таким варварским способом пытался восполнить дефицит …во всяком случае как его преследования за «тройки» вместо поощрений за «пятерки» (тоже ведь были, и побольше!) в ранние годы внушило невольно недооценку собственных способностей в критически важные годы после школы, – так и его мнительная сверхозабоченность как бы его дети не оказались хуже детей старших брата и сестер – почти вовсе запретила мне заниматься своими. Словом, все сошлось: и гнет патриархальщины, и суровость послереволюционного и послевоенного времени, и синдром «младшегобрата» со стороны отца, и мое первенство, на котором он родительскую оскомину сбивал, и глубокая характеров несовместимость – отцова въедливого, ограниченного, мнительного, робкого и потому вспыльчатого, – и моего спозаранку склонного к рефлексии, принимаемой отцом за лень, – критичности, отцом никак не понимаемой: злобность ведь не есть критичность, ибо ведет к умножению зла… Еще нас глубоко разделяло то, что отец был в общем закрытым человеком, его попытки откровений, вроде вот той скамьи сидоренковой, были как бы вылазки изнутри во вне и не от себя, а от неких авторитетов, – я же с детства, чуть не с младенчества был открыт, наивен, медлителен в реакции на требования среды, что не удивительно: моя реакция на взаимоотношения людей не была автоматической, как физиологическая реакция на опасность, которая была мгновенной (мое детство обошлось без травм по этой причине, как и последующая жизнь), – что вскоре в драках проявилось, – отцом эта замедленная реакция на требования принимались за лень, даже глупость (не понимает, мол, чего от него требуют)…
Эпоха требовала послушания, подчиняя самолюбия отдельных личностей высшей общественной цели, и использовала то, что имелось – патриархальщину*, которой коллективизацией был нанесен удар, но не окончательный, – да совсем она исчезнуть – и не должна. Эпоха была великой – но и во многом (в быту) мелочной
Отца еще долго вспоминали в Рыбном порту по работе, он стремился верно служить стране, одной женщине, ее детям – потомству, в конечном счете. Это были черты величия – но вот описание мелочности, сравнимой по неразумию с той самой корыстью Тараса Бульбы, из-за которой он лишился жизни, возвратившись при погоне подбирать утерянную люльку, – дешевенькую курительную трубку из древесного корневища