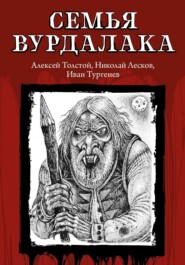скачать книгу бесплатно
Семья вурдалака
Александр Александрович Бестужев-Марлинский
Николай Семёнович Лесков
Иван Сергеевич Тургенев
Михаил Николаевич Загоскин
Евгений Абрамович Баратынский
Алексей Константинович Толстой
Из тьмы
Самые захватывающие произведения, входящие в «золотой фонд» мировой литературы ужасов. Любители пощекотать себе нервы не должны проходить мимо этой серии! На страницах книг оживут самые страшные ночные кошмары, от древних богов Лавкрафта до ведьм Гоголя. Читатель прикоснётся к древним оккультным тайнам, посетит ужасные и таинственные миры, созданные фантазией великих писателей. Не читайте эти книги на ночь!
Александр Александрович Бестужев-Марлинский, Алексей Толстой, Евгений Баратынский, Михаил Загоскин, Николай Лесков
Семья вурдалака
Иллюстрации Ивана Иванова
© Оформление: ООО «Феникс», 2021
© Иллюстрации: Иванов И., 2019
© В оформлении обложки использованы иллюстрации по лицензии Shutterstock.com
А. К. Толстой
Семья вурдалака
(Неизданный отрывок из записок неизвестного)
В 1815 году в Вене[1 - В 1815 году в Вене… – Венский конгресс (1814–1815) завершил войны коалиции европейских держав с Наполеоном I. На конгрессе державы-победительницы заключили договоры, установившие новую политическую карту Европы на основе укрепления феодальной реакции и власти старых династий. Главную роль на Венском конгрессе играли Россия, Австрия и Англия. – Прим. автора.] собрался цвет европейской образованности, дипломатических дарований, всего того, что блистало в тогдашнем обществе. Но вот – Конгресс окончился.
Роялисты-эмигранты намеревались уже окончательно водвориться в своих замках, русские воины – вернуться к покинутым очагам, а несколько недовольных поляков – искать приюта своей любви к свободе в Кракове под сомнительной тройственной эгидой независимости[2 - Под сомнительной тройственной эгидой независимости – на Венском конгрессе был произведен новый раздел Польши между Австрией, Пруссией и Россией. Краков, являвшийся яблоком раздора между ними, был превращен в самостоятельную республику под опекой трех государств.], уготованной для них князем Меттернихом, князем Гарденбергом и графом Нессельроде[3 - Меттерних Клеменс (1773–1859) – австрийский министр иностранных дел; Гарденберг Карл Август (1750–1822) – прусский канцлер (глава правительства); Нессельроде Карл Васильевич (1780–1862) – русский дипломат, впоследствии министр иностранных дел. Все трое были активными проводниками реакционной политики Священного союза, организованного для борьбы с революционным и национально-освободительным движением.].
Как это бывает к концу шумного бала, от общества, в свое время столь многолюдного, остался теперь небольшой кружок лиц, которые, все не утратив вкуса к развлечениям и очарованные прелестью австрийских дам, еще не торопились домой и откладывали свой отъезд.
Это веселое общество, к которому принадлежал и я, собиралось два раза в неделю у вдовствующей княгини Шварценберг в нескольких милях от города за местечком Гитцинг. Истинная светскость хозяйки дома, еще более выигрывавшая от ее милой приветливости и тонкого остроумия, делала чрезвычайно приятным пребывание у нее в гостях.
Утро у нас бывало занято прогулкой; обедали мы все вместе либо в замке, либо где-нибудь в окрестностях, а вечером, усевшись у пылающего камина, беседовали и рассказывали всякие истории. Говорить о политике было строго запрещено. Все от нее устали, и содержание наших рассказов мы черпали либо в преданиях родной старины, либо в собственных воспоминаниях.
Однажды вечером, когда каждый из нас успел что-то рассказать и мы находились в том несколько возбужденном состоянии, которое обычно еще усиливают сумерки и тишина, маркиз д’Юрфе, старик эмигрант, пользовавшийся всеобщей любовью за свою чисто юношескую веселость и ту особую остроту, которую он придавал рассказам о былых своих любовных удачах, воспользовался минутой безмолвия и сказал:
– Ваши истории, господа, конечно, весьма необыкновенны, но я думаю, что им недостает одной существенной черты, а именно – подлинности, ибо – насколько я уловил – никто из вас своими глазами не видел те удивительные вещи, о которых повествовал, и не может словом дворянина подтвердить их истинность.
Нам пришлось с этим согласиться, и старик, поглаживая свое жабо, продолжал:
– Что до меня, господа, то мне известно лишь одно подобное приключение, но оно так странно и в то же время так страшно и так достоверно, что одно могло бы повергнуть в ужас людей даже самого скептического склада ума. К моему несчастию, я был и свидетелем, и участником этого события, и хотя вообще не люблю о нем вспоминать, но сегодня готов был бы рассказать о случившемся со мною – если только дамы ничего не будут иметь против.
Слушать захотели все. Правда, несколько человек с робостью во взгляде посмотрели на светящиеся квадраты, которые луна уже чертила по паркету, но тут же кружок наш сомкнулся теснее и все приумолкли, готовясь слушать историю маркиза. Господин д’Юрфе взял щепотку табаку, медленно потянул ее и начал:
– Прежде всего, милостивые государыни, попрошу у вас прощения, если в ходе моего рассказа мне придется говорить о моих сердечных увлечениях чаще, чем это подобает человеку в моих летах. Но ради полной ясности мне о них нельзя не упоминать. К тому же старости простительно забываться, и, право же, это ваша, милостивые государыни, вина, если, глядя на таких красивых дам, я чуть ли сам уже не кажусь себе молодым человеком. Итак, начну прямо с того, что в тысяча семьсот пятьдесят девятом году я был без памяти влюблен в прекрасную герцогиню де Грамон. Эта страсть, представлявшаяся мне тогда и глубокой, и долговечной, не давала мне покоя ни днем ни ночью, а герцогиня, как это часто нравится хорошеньким женщинам, еще усиливала это терзание своим кокетством. И вот, в минуту крайнего отчаяния, я в конце концов решил просить о дипломатическом поручении к господарю молдавскому, ведшему тогда переговоры с версальским кабинетом о делах, излагать вам которые было бы столь же скучно, сколь и бесполезно, и назначение я получил. Накануне отъезда я явился к герцогине. Она отнеслась ко мне менее насмешливо, чем обычно, и в голосе ее чувствовалось некоторое волнение, когда она мне сказала:
– Д’Юрфе, вы делаете очень неразумный шаг. Но я вас знаю, и мне известно, что от принятого решения вы не откажетесь. Поэтому прошу вас только об одном: возьмите вот этот крестик как залог моей дружбы и носите его, пока не вернетесь. Это семейная реликвия, которой мы очень дорожим.
С учтивостью, неуместной, быть может, в подобную минуту, я поцеловал не реликвию, а ту очаровательную руку, которая мне ее протягивала, и надел на шею вот этот крестик, с которым с тех пор не расставался.
Не стану утомлять вас, милостивые государыни, ни подробностями моего путешествия, ни моими впечатлениями от венгерцев и от сербов – этого бедного и непросвещенного, но мужественного и честного народа, который, даже и под турецким ярмом, не забыл ни о своем достоинстве, ни о былой независимости. Скажу вам только, что, научившись немного по-польски еще в те времена, когда я жил в Варшаве, я быстро начал понимать и по-сербски, ибо эти два наречия, равно как русское и чешское, являются – и это вам, наверно, известно – не чем иным, как ветвями одного и того же языка, именуемого славянским.
Итак, я уже знал достаточно для того, чтобы быть в состоянии объясниться, когда мне однажды случилось попасть проездом в некую деревню, название которой не представило бы для вас никакого интереса. Обитателей дома, в котором я остановился, я нашел в состоянии подавленности, удивившей меня тем более, что дело было в воскресенье – день, когда сербы предаются обычно всяческому веселью, забавляясь пляской, стрельбой из пищали, борьбой и т. п. Расположение духа моих будущих хозяев я приписал какой-нибудь недавно случившейся беде и уже думал удалиться, но тут ко мне подошел и взял за руку мужчина лет тридцати, роста высокого и вида внушительного.
– Входи, – сказал он, – входи, чужеземец, и пусть не пугает тебя наша печаль; ты ее поймешь, когда узнаешь ее причину.
И он мне рассказал, что старик отец его по имени Горча, человек нрава беспокойного и неуступчивого, поднялся однажды с постели, снял со стены длинную турецкую пищаль и обратился к двум своим сыновьям, одного из которых звали Георгием, а другого – Петром.
– Дети, – молвил он им, – я иду в горы, хочу с другими смельчаками поохотиться на поганого пса Алибека (так звали разбойника-турка, разорявшего последнее время весь тот край). Ждите меня десять дней, а коли на десятый день не вернусь, закажите вы обедню за упокой моей души – значит, убили меня. Но ежели, – прибавил тут старый Горча, приняв вид самый строгий, – ежели (да не попустит этого Бог) я вернусь поздней, то, ради вашего спасения, не впускайте вы меня в дом. Ежели будет так, приказываю вам: забудьте, что я вам был отец, и вбейте мне осиновый кол в спину, что бы я ни говорил, что бы ни делал, – значит, я теперь проклятый вурдалак и пришел сосать вашу кровь.
Здесь надо будет вам сказать, милостивые государыни, что вурдалаки, как называются у славянских народов вампиры, не что иное в представлении местных жителей, как мертвецы, вышедшие из могил, чтобы сосать кровь живых людей. У них вообще те же повадки, что у всех прочих вампиров, но есть и особенность, делающая их еще более опасными. Вурдалаки, милостивые государыни, сосут предпочтительно кровь у самых близких своих родственников и лучших своих друзей, а те, когда умрут, тоже становятся вампирами, так что со слов очевидцев даже говорят, будто в Боснии и Герцеговине население целых деревень превращалось в вурдалаков. В любопытном труде о привидениях аббат Огюстен Кальме[4 - Кальме Огюстен (1672–1757) – французский богослов; автор «Рассуждений о явлении ангелов, демонов и духов и о привидениях и вампирах в Венгрии, Моравии, Богемии и Силезии» (1746).] приводит тому ужасающие примеры. Императоры германские не раз назначали комиссии для расследования случаев вампиризма. Производились допросы, извлекались из могил трупы, налитые кровью, и их сжигали на площадях, но сперва пронзали им сердце. Судебные чиновники, присутствовавшие при этих казнях, уверяют, что сами слышали, как выли трупы в тот миг, когда палач вбивал им в грудь осиновый кол. Они дали об этом показания по всей форме и скрепили их присягой и подписью.
После всего этого вам легко будет вообразить себе, какое действие слова старого Горчи произвели на его сыновей. Оба они упали к его ногам и умоляли, чтобы он позволил им отправиться вместо него, но тот, ничего не ответив, только повернулся к ним спиной и пошел прочь, повторяя припев старинной песни. День, в который я приехал сюда, был тот самый, когда кончался срок, назначенный Горчей, и мне было нетрудно понять волнение его детей.
То была дружная и хорошая семья. Георгий, старший сын, с чертами лица мужественными и резкими, был, по-видимому, человек строгий и решительный. Был он женат и имел двух детей. У брата его Петра, красивого восемнадцатилетнего юноши, лицо носило выражение скорее мягкости, чем отваги, и его, судя по всему, особенно любила младшая сестра, Зденка, в которой можно было признать тип славянской красоты. В ней, кроме этой красоты, во всех отношениях бесспорной, меня прежде всего поразило отдаленное сходство с герцогиней де Грамон. Главное – была у нее та особенная складочка над глазами, которую за всю мою жизнь я не встречал ни у кого, кроме как у этих двух женщин. Эта черточка могла и не понравиться с первого взгляда, но стоило увидеть ее несколько раз, как она с неодолимой силой привлекала вас к себе.
То ли потому, что был я тогда очень молод, то ли в самом деле неотразимое действие производило это сходство в сочетании с каким-то своеобразным и наивным складом ума Зденки, но стоило мне две минуты поговорить с нею – и я уже испытывал к ней симпатию настолько живую, что она неминуемо превратилась бы в чувство еще более нежное, если бы мне подольше пришлось остаться в той деревне.
Мы все сидели во дворе за столом, на котором для нас были поставлены творог и молоко в кринках. Зденка пряла; ее невестка готовила ужин для детей, игравших тут же в песке; Петр с наигранной беззаботностью что-то насвистывал, занятый чисткой ятагана – длинного турецкого ножа; Георгий, облокотившись на стол, сжимал голову ладонями, был озабочен, глаз не сводил с дороги и все время молчал.
Я же, как и все остальные, поддавшись тоскливому настроению, меланхолично глядел на вечерние облака, обрамлявшие золотую полосу неба, и на очертания монастыря, поднимавшегося над сосновым лесом.
Этот монастырь, как я узнал позднее, славился некогда чудотворной иконой Богоматери, которую, по преданию, принесли ангелы и оставили на ветвях дуба. Но в начале минувшего века в те края вторглись турки, они перерезали монахов и разорили монастырь. Оставались только стены и часовня, где службу совершал некий отшельник. Он водил посетителей по развалинам и давал приют богомольцам, которые по пути от одной святыни к другой охотно останавливались в монастыре «Божьей Матери дубравной». Все это, как я уже упомянул, мне стало известно лишь впоследствии, а в тот вечер занимала меня уж никак не археология Сербии. Как это нередко бывает, если только дашь волю своему воображению, я стал вспоминать прошлое, светлые дни детства, мою прекрасную Францию, которую я покинул ради далекой и дикой страны. Я думал о герцогине де Грамон и – не буду этого скрывать – думал также о некоторых современницах ваших бабушек, чьи образы невольно проскользнули в мое сердце вслед за образом прелестной герцогини.
Вскоре я позабыл и о моих хозяевах, и о предмете их тревоги.
Георгий вдруг нарушил молчание:
– Скажи-ка, жена, в котором часу ушел старик?
– В восемь часов, – ответила жена, – я слышала, как в монастыре ударили в колокол.
– Хорошо, – проговорил Георгий, – сейчас половина восьмого, не позднее.
И он замолчал, опять устремив глаза на большую дорогу, которая исчезала в лесу.
Я забыл вам сказать, милостивые государыни, что когда сербы подозревают в ком-нибудь вампира, то избегают называть его по имени или упоминать о нем прямо, ибо думают, что так его можно вызвать из могилы. Вот почему Георгий, когда говорил об отце, уже некоторое время называл его не иначе, как «старик».
Молчание продолжалось еще несколько минут. Вдруг один из мальчиков, дернув Зденку за передник, спросил:
– Тетя, а когда дедушка придет домой?
В ответ на столь неуместный вопрос Георгий дал ребенку пощечину.
Мальчик заплакал, а его младший брат, удивленный и испуганный, спросил:
– А почему нам нельзя говорить о дедушке?
Новая пощечина – и он тоже примолк. Оба мальчика заревели, а взрослые перекрестились.
Но вот часы в монастыре медленно пробили восемь. Едва отзвучал первый удар, как мы увидели человеческую фигуру, появившуюся из лесу и направившуюся в нашу сторону.
– Он! – воскликнули в один голос Зденка, Петр и их невестка. – Слава тебе Господи!
– Господи, сохрани и помилуй нас! – торжественно проговорил Георгий. – Как знать, прошло ли уже или не прошло десять дней?
Все в ужасе посмотрели на него. Человек между тем все приближался к нам. Это был высокий старик с белыми усами, с лицом бледным и строгим; двигался он с трудом, опираясь на палку. По мере того как он приближался, Георгий становился все мрачней. Подойдя к нам, старик остановился и обвел свою семью взглядом как будто не видящих глаз – до того они были у него тусклые и впалые.
– Что ж это, – сказал он, – никто не встает, никто не встречает меня? Что вы все молчите? Иль не видите, что я ранен?
Тут я заметил, что у старика левый бок весь в крови.
– Да поддержи отца, – сказал я Георгию, – а ты, Зденка, напоила бы его чем-нибудь, ведь он, того гляди, упадет.
– Отец, – промолвил Георгий, подойдя к Горче, – покажи свою рану, я в этом знаю толк, перевяжу тебя…
Он только взялся за его одежду, но старик грубо оттолкнул его и обеими руками схватился за бок:
– Оставь, коли не умеешь, больно мне!
– Так ты в сердце ранен! – вскричал Георгий и весь побледнел. – Скорей, скорей раздевайся, так надо – слышишь!
Старик вдруг выпрямился во весь рост.
– Берегись, – сказал он глухо, – дотронешься до меня – прокляну!
Петр встал между отцом и Георгием.
– Оставь его, – сказал он, – ты же видишь, больно ему.
– Не перечь, – проговорила жена, – знаешь ведь, он этого никогда не терпел.
В эту минуту мы увидели стадо, возвращающееся с пастбища в облаке пыли. То ли пес, сопровождавший стадо, не узнал старика хозяина, то ли другая была причина, но едва только он завидел Горчу, как остановился, ощетинился и начал выть, словно бы ему что-то показалось.
– Что с этим псом? – спросил старик, серчая все более. – Что все это значит? За десять дней, что меня не было, неужто я так переменился, что и собственный пес меня не узнает?
– Слышишь? – сказал своей жене Георгий.
– А что?
– Сам говорит, что десять дней прошло!
– Да нет же, ведь он в срок воротился!
– Ладно, ладно, я уж знаю, что делать.
Пес не переставая выл.
– Застрелить его! – крикнул Горча. – Это я приказываю – слышите!
Георгий не пошевелился, а Петр со слезами на глазах встал, взял отцовскую пищаль и выстрелил в пса – тот покатился в пыли.
– А был он мой любимец, – проговорил он совсем тихо. – С чего это отец велел его застрелить?
– Он того заслужил, – ответил Горча. – Ну, стало свежо, в дом пора!
Тем временем Зденка приготовила питье для старика, вскипятив водку с грушами, с медом и с изюмом, но он с отвращением его оттолкнул. Точно так же он отверг и блюдо с пловом, которое ему подал Георгий, и уселся около очага, бормоча сквозь зубы что-то невнятное.
Потрескивали сосновые дрова, и дрожащие отблески огня падали на его лицо, такое бледное, такое изможденное, что, если бы не это освещение, его вполне можно было принять за лицо покойника. Зденка к нему подсела и сказала:
– Ты, отец, ни есть не хочешь, ни спать не ложишься. Может, расскажешь, как ты охотился в горах?
Девушка знала, что эти слова затронут у старика самую чувствительную струну, так как он любил поговорить о боях и сражениях. И в самом деле, на его бескровных губах появилось что-то вроде улыбки, хотя глаза смотрели безучастно, и он ответил, гладя ее по чудесным белокурым волосам:
– Ладно, дочка, ладно, Зденка, я тебе расскажу, что со мной было в горах, только уж как-нибудь в другой раз, а то сегодня я устал. Одно скажу – нет в живых Алибека, и убил его я. А ежели кто сомневается, – прибавил старик, окидывая взглядом свою семью, – есть чем доказать!
И он развязал мешок, висевший у него за спиной, и вытащил окровавленную голову, с которой, впрочем, его собственное лицо могло поспорить мертвенно-бледным цветом кожи! Мы с ужасом отвернулись, а Горча отдал ее Петру и сказал:
– На, прицепи над нашей дверью – пусть знает всякий, кто пройдет мимо дома, что Алибек убит и никто больше не разбойничает на дороге, кроме разве султанских янычар!
Петр, подавляя отвращение, исполнил, что было приказано.
– Теперь понимаю, – сказал он. – Бедный пес выл оттого, что почуял мертвечину!
– Да, почуял мертвечину, – мрачно повторил Георгий, который незадолго перед тем незаметно вышел, а теперь вернулся: в руке он держал какой-то предмет, который тут же поставил в угол – как мне показалось, это был кол.
– Георгий, – вполголоса сказала ему жена, – да неужто ты…
– Брат, что ты затеял? – заговорила и сестра. – Да нет, нет, ты этого не сделаешь, верно?
– Не мешайте, – ответил Георгий, – я знаю, что мне делать, и что надо – то сделаю.
Тем временем настала ночь, и семья ушла спать в ту часть дома, которую от моей комнаты отделяла лишь тонкая стенка. Признаюсь, что все, чему я вечером был свидетель, сильно на меня подействовало. Свеча уже не горела, а в маленькое низенькое окошко возле самой моей постели вовсю светила луна, так что на пол и на стены ложились белые пятна вроде тех, что падают сейчас здесь, в гостиной, где мы с вами сидим, милостивые государыни. Я хотел заснуть, но не мог. Свою бессонницу я приписал влиянию лунного света и стал искать, чем бы завесить окно, но ничего не нашел. Тут за перегородкой глухо послышались голоса, и я прислушался.
– Ложись, жена, – сказал Георгий, – и ты, Петр, ложись, и ты, Зденка. Ни о чем не беспокойтесь, я посижу за вас.
– Да нет, Георгий, – отвечала жена, – уж скорее мне сидеть, ты прошлую ночь работал – наверно, устал. Да и так мне надо приглядеть за старшим мальчиком – ты же знаешь, ему со вчерашнего нездоровится!
– Будь спокойна и ложись, – говорил Георгий, – я посижу и за тебя!